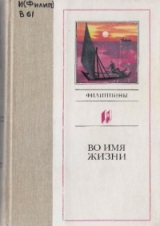
Текст книги "Во имя жизни"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 24 страниц)
Мы уже принялись за десерт – шоколадный торт, камамбер и кофе. Огни Манхеттена ярко светились в прохладной осенней ночи.
– Я расскажу твоему отцу, что мы встретились. Я как-то заходил к нему, и мне он показался нездоровым.
Отец помог не одному Клоду. Весь Мандалуйонг, где мы жили, знал отца не только как иллюзиониста, фокусы которого были почти чудесами, но и как человека, чей дом всегда открыт любому, кто нуждается в приюте. Умел бы отец хоть иногда закрывать свою дверь!
Письма писать он не любил. Я часто упрекал его за то, что редко пишет. Но уж когда писал, письма его были веселыми, а бывало, и уморительно смешными. Когда на Филиппинах ввели чрезвычайное положение, отец даже не упомянул ни. о каких эксцессах, которые так подробно освещала американская пресса. И не потому, что боялся, – просто такой он человек.
Он трунил над властями, и я, читая его письма, представлял себе, как он смакует анекдот, – будто он все еще выступает со сцены старого «Савоя» или «Паласа», где он был звездой первой величины, когда после войны стали выходить из моды водевили и шоу.
Вот поднимается он в лифте, а там еще один человек. Он и спрашивает того человека – вы не из Лейте, откуда мадам36 родом? Да нет, говорит тот. Может, из Илокоса, откуда... ну, сам37? И не оттуда, отвечает. Тогда отец справляется: в армии служите или, может быть, какому-нибудь сержанту родня? Опять тот говорит, что нет, мол. И тут Великий Профессор Фаустус собирается с духом и говорит: в таком случае, не будете ли вы любезны не наступать мне на ногу? Больно же!
Отец умеет так рассказывать анекдоты, что слушатели принимают их за правдивейшие истории.
Мои первые детские воспоминания связаны с фокусами, с ровным голосом отца, который звучит все громче, по мере того как приближается кульминация представления: отец высвобождается из веревочных пут или снимает цилиндр, а тот взрывается. Я целыми днями торчал в парной духоте за кулисами, видел подсвеченные огнями рампы лица замерших зрителей, слышал долгие аплодисменты, окатывавшие меня волной восторга, потому что человек, раскланивавшийся теперь на сцене, – мой отец, – на мгновение избавлял зал от бремени повседневности.
Была и женщина. Красивая женщина, у отца они всегда бывали красивыми, особенно рядом с ним на сцене, в костюмах с блестками. Сначала женщина была готова пылинки сдувать с отца, радостно бросалась выполнять его просьбы, готовила нам обоим еду, стирала белье. Ее хватило ненадолго – как всех, что появлялись после нее. Я думал, что это моя мама, а она была ассистенткой Великого Профессора Фаустуса и, как все остальные, ушла, когда ей подвернулась работа получше, а сейчас я подозреваю, что ей просто надоели фокусы.
О матери отец ничего не рассказывал, хотя я часто спрашивал его. Он всякий раз увиливал от ответа, отделываясь дежурной фразой, что придет время и я увижу мать. Говорил, что она его оставила, и никогда не забывал добавить, что дело было не во мне.
– Во всем моя вина, – говорил он с тоскливым видом, – наверное, я слишком много требовал, мало думал о ней. Наверное, я не мог дать ей всего, что она хотела. А главное – счастья.
Отец твердил мне:
– Ты должен всегда любить маму.
Мне в голову не приходило не верить ему. С чего это отец станет лгать сыну? Все равно что самому себе лгать.
Но если у меня не было матери, то зато теть было великое множество – временных, которые смотрели за мной, выступали с отцом на сцене и часто делили с нами семейную трапезу. Второй раз отец так и не женился.
Мы были удачливей большинства людей его профессии: заклинателей змей, которым приходилось работать свои номера на улицах; хористок, которые скатывались по наклонной и начинали торговать собой; других фокусников типа Кануплина – отец помогал им, хоть они и были его конкурентами.
Нам было легче, потому что отец получил в наследство от родителей участочек – он весь зарос бурьяном – и дощатый домик на нем. Туго приходилось в сезон дождей, когда отец выступал только на приемах в богатых домах, а из ангажементов оставались одни школы и вечера на предприятиях.
Когда я пошел в школу, отец стал заниматься со мной, хоть и не очень регулярно, потому что он много разъезжал по городским фиестам. Дома он поздно ложился спать – стирал мои рубашки. С самого начала отец заявил, что раз мне хорошо дается математика, то после школы я должен уехать в Америку и вырваться из филиппинской нищеты. Мы с ним годами мечтали об этом, и мечта сбылась: в колледже я добился стипендии для обучения в Массачусетском технологическом институте.
Так и началось мое пятнадцатилетнее пребывание в Америке. Первые пять лет прошли невесело: стипендии хватало еле-еле, а зимы в Бостоне довольно холодные. Голодать мне не пришлось, потому что я умею работать руками – отец с детства приучил. В Штатах не умрешь с голоду, если берешься за любую работу.
После окончания института – Большое Яблоко, где конкуренция сильней всего. Филиппинцы говорят: кто выжил в Нью-Йорке, тот нигде не пропадет. Впрочем, я особых трудностей не испытал, потому что фирма предложила мне работу еще до того, как я получил диплом. По службе я тоже продвигался легко: и квалификация у меня была высокая, и старался я изо всех сил, чтобы не вернулись те времена, когда мы с отцом сидели на сушеной рыбе, пока отец искал себе ангажементы. Короче говоря, я устроился. Часто приходил на ум анекдот, который, по-моему, сначала рассказывали про поляков, потом филиппинцы присвоили его себе: ни один нью-йоркский филиппинец не выбросился от отчаяния из окна, потому что филиппинцы в Нью-Йорке живут по подвалам.
Я пробовал разыскать мать, хоть не имел ни малейшего представления, где она может найтись, если она вообще жива. Филиппинцам, которые давно жили в Америке, я представился как сын Великого Профессора Фаустуса. Некоторые его помнили, но про его жену никто даже не слышал.
С течением времени я стал понимать, что детство без матери оказало влияние на мой характер. Я не то чтобы дичился женщин, и женоненавистником я, конечно, не был, но я боялся прочных привязанностей. Страх прошел, когда я закончил колледж и познакомился в Нью-Йорке с Джейн. Она приехала из Элджина – городка в штате Иллинойс, который славился теми самыми часами, что, по словам отца, очень дорого стоили и считались модными в Маниле. Отец Джейн врач, ее семья и сейчас живет в Элджине в собственном доме.
У Джейн были зеленые глаза, веснушки и очаровательный носик. Сначала у нас ничего серьезного не было. Я, как многие филиппинцы, рассчитывал, что поеду в отпуск в Манилу, познакомлюсь с девушкой, женюсь.
Что бывает в смешанных браках, мне было отлично известно. С другой стороны, я слышал о бедах филиппинцев, которые, прожив жизнь на Гавайских островах или в Калифорнии, годам к шестидесяти отправлялись куда-нибудь в Илокос, брали в жены прелестных юных девушек, выложив за них все свои сбережения, а когда привозили молоденьких жен в Гонолулу или в Сан-Франциско, те бросали их.
Отец мне говорил, что я унаследовал от матери властные манеры и наклонности к выдумкам. Я бог знает что рассказывал о своем прошлом, которое мне хотелось приукрасить. Про отца, например, я сказал Джейн, что он у меня инженер. О подробностях Джейн не спрашивала. Если бы спросила, я бы начал объяснять, будто отец инженер по социальным проблемам, – кто знает, что это значит, – и в своей деятельности он исходит из убеждения, что радость, доставляемая людям, хотя бы возможность посмеяться, отвлекает их от жизненных трудностей. Отец и на самом деле верил в это.
Был такой год, когда мы жили просто впроголодь. Упоение от того, что Филиппины стали независимыми, прошло, вкусы зрителей переменились. Иногда отец возвращался домой с кулечком черствых сиопау38, которые были королевским блюдом для меня. Готовить в доме было некому, а меня отец не хотел допускать к стряпне. Отец смотрел, как я поедаю сиопау, а мне по глупости и в голову не приходило, что сам он оставался без ужина. Когда у отца заводились деньги, он раздавал их друзьям по профессии в долг, прекрасно зная, что долги никогда не вернут.
Анекдоты, которые он тогда рассказывал, все были про президента Магсайсая, очень нравившегося отцу. Я запомнил про крестьянина – Великий Профессор Фаустус, рассказывая его, принимал обличье деревенщины. Крестьянин решил пробиться к президенту с жалобой насчет артезианского колодца.
Три дня он околачивался вокруг дворца, а Магсайсай ездил по деревням и, лихо перепрыгивая через оросительные канавки, тряс крестьянам руки.
Наконец Магсайсай возвращается, отец перехватывает его и говорит:
– Мистер президент, помните обещание, которое вы дали в Барри Ликуте?
А президент отвечает:
– Я все время даю обещания. А там я что наобещал?
– Артезианский колодец обещали!
– Ну так как, есть он у вас?
– Колодец есть, – говорит отец, – но в нем нет воды!
Президент смотрит на отца с досадой и спрашивает:
– Ну и что? Я и обещал артезианский колодец. А воду я не обещал!
Сам Магсайсай наверняка покатился бы от хохота, услышь он этот анекдот.
Итак, я уже пятнадцать лет живу в Штатах с женой-американкой и семилетним сынишкой, которого я когда-нибудь отвезу в Манилу к Великому Профессору Фаустусу. Наблюдая, как растет мой собственный сын, я все время вспоминаю свое детство и отца. Не могу сказать, что я не выполняю сыновний долг. Я начал посылать отцу деньги, как только стал подрабатывать и брать на летние каникулы работу в Бостоне. А уж с тех пор, как я устроился по специальности в Нью-Йорке, я ежемесячно перевожу в Манилу приличную сумму. И у Джейн хорошая работа: она биохимик. Жена меня отлично понимает и во всем поддерживает, Я ей объяснил, что пенсий за выслугу лет на Филиппинах не платят, что мой отец нуждается в средствах не только на жизнь – он приводит в порядок наш дом. Больше всего меня тревожило, что отец питается как попало, раз у него больше нет постоянных ангажементов.
Были у меня возможности съездить домой, но я так и не воспользовался ими. Как-то я засиделся поздно на работе, задумался обо всех этих неосуществленных поездках и с изумленным ужасом понял, что не хочу в Манилу, что я там не могу жить, что отец, конечно же, сильно переменился.
Я тогда уже получил американское гражданство и уговаривал отца переехать к нам в Нью-Йорк, но он отказался. Три месяца от него не приходило писем, а телефона у отца не было, и позвонить было некуда. Потом мы получили письмо – такое сухое, такое непохожее на живые и веселые отцовские письма. А тут и Клод подтвердил мои опасения: Великий Профессор Фаустус болен, может быть, он умирает.
Я воочию убедился, насколько успешно филиппинское правительство заманивает зарубежных филиппинцев обратно на родину, в тот ноябрьский день, когда самолет совершил часовую посадку в чикагском аэропорту и в него битком набились мои земляки с кучей подарков, которые они везли на Филиппины. Чистый бедлам!
В Нью-Йорке я мало общался с земляками. На работе я был единственным филиппинцем среди специалистов. Работали у нас еще две секретарши из Себу. В самолете же я сразу почувствовал себя дома на каникулах. Я высмотрел людей постарше. Многие были родом из самой глубинки, из Илокоса. Мало кто знал Манилу, помнил «Кловер» или «Савой». И ни один даже имени отца не слышал.
К Маниле мы подлетали часов в восемь утра. Еще когда самолет летел над океаном, я прилип к иллюминатору, ожидая появления привычного пейзажа: зеленых гор, зеленых заливов, зеленых полей, золотеющих там, где созрел рис.
Самолет пошел на снижение, и я поразился количеству огромных зданий справа – это Макати так обстроился за десять лет. Однако аэропорт не изменился: все то же угнетающее кишение неприступных клерков, наглых таможенников и праздного любопытствующего люда, которому там вообще нечего делать. Тут и начали они прибывать: громадные чемоданы, ящики, узлы с дарами для родственников и друзей. А я – с двумя чемоданчиками. Совершенно я не собирался изображать из себя Санта-Клауса для полусотни родичей. У меня есть только отец, и в один из чемоданов упакованы подарки ему, там даже новая книга о фокусах, которую я купил за день до отъезда из Нью-Йорка.
Выбравшись из удушливого аэропорта, я тщетно всматривался в толпу, напирающую на сетчатую загородку, ища знакомые лица – отца или соседей. Я послал телеграмму, и то, что никто не встретил меня, усилило мою тревогу.
У выхода на меня накинулся целый полк с предложением различных услуг, и, будь я провинциалом, мне бы несдобровать. Но я быстро дал им понять, кто я. Таксист был разочарован, когда увидел, что я знаю, куда ехать.
Многое переменилось. Улицы стали чище, они уже были не те, какими я их помнил, с грудами мусора по обочинам. Благотворное чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение на филиппинский лад. Всего несколько солдат в аэропорту, никаких танков, никаких патрулей или уличных баррикад. А Макати! Роскошные новые здания, разросшиеся акации...
Транспортные пробки стали еще плотнее, чем прежде.
Свернув с магистрали, видавшее виды такси ракетой влетело в переулок и загремело по разбитой мостовой. И вот он, наш старый квартал, все та же немощеная улочка, хлипкие дощатые домишки, полно детей, белье полощется, как праздничные флаги, – подсохшие раны минувших лет.
Наш дом. Я ожидал увидеть новый дом, достаточно просторный и комфортабельный дом, в котором может жить американская семья. Участок не только не расчищен – даже грядки, которые я разбил когда-то, заросли теперь бурьяном. Я заглянул поверх замшелой глинобитной загородки – дверь в дом была распахнута.
Отец явно видел, как я открываю проржавевшую железную калитку, потому что ко мне подбежало трое мальчишек, пытаясь помочь с багажом. Я дал им тащить чемоданы. Отец вышел на крыльцо. На нем были его старые широкие шелковые штаны – сколько же они служат ему! Отец надевал эту пару только ради важных гостей. Штаны успели слежаться – складки явственно виднелись на них.
Как постарел отец! Совсем седой, сморщенный. А глаза – глаза по-прежнему живые и веселые. Он, шаркая, пошел навстречу мне. Я поцеловал ему руку, обнял его. Отец улыбался, но взгляд его туманился. Потом посыпались вопросы: как я долетел? Как внук, которого он еще не видел?
Потянулись соседи: Манг Энтенг, Алинг Джулия, Ка Эдро. Узенькая комната скоро переполнилась народом, люди толпились перед домом, а я старался сказать каждому хоть слово, никого не пропустить, чтобы потом не говорили, что этот американо много о себе понимает. Я не ожидал, что соберется столько народу, – в чемодане, который я привез для отца, подарков на всех не хватало. Парочка паркеровских шариковых ручек, с полдюжины колод пластмассовых игральных карт, два блока сигарет и две бутылки беспошлинного виски. Я не решался раздавать их, пока не посоветуюсь с отцом.
После обеда, который приготовила тетя Джулия, мы с отцом наконец остались вдвоем в спальне. На улице нещадно палило солнце, и я уже горел в тропическом жару. Еще я злился, видя, что отец ничего не сделал в доме, несмотря на все деньги, которые я посылал ему.
Отец явно устал от шумной встречи: он трудно дышал, растянувшись на железной кровати. Если бы он только согласился переехать в Америку, как быстро он пришел бы в себя: свежее молоко, прекрасный апельсиновый сок...
Через какие-нибудь две недели округлились бы его запавшие щеки, исчезло бы тоскливое безразличие взгляда – плод старости и скудной жизни.
– Теперь я понимаю, почему тебе не хочется уезжать отсюда, – сказал я, вспоминая толпу соседей, соседскую детвору.
По воскресеньям после обеда отец посылал меня за соседскими детьми, все собирались в нашем дворе, и отец показывал фокусы, которые никогда им не надоедали.
Я не мог скрыть разочарования от вида нашего дома, куда я не мог привести семью, во всяком случае пока он был в таком состоянии.
И тут я задал ему этот вопрос:
– Папа, а куда ты дел деньги, что я присылал? Я думал, ты отремонтировал дом, как я просил. Денег было больше чем достаточно.
Отец будто не расслышал. Он спустил ноги с кровати, сел и уставился на выгоревшие афиши на дощатой стенке, на которых красовался Великий Профессор Фаустус на сцене «Савоя», Лучший Иллюзионист Дальнего Востока, Чудо– Прорицатель.
Когда он перевел взгляд на меня, его глаза искрились.
– У меня есть новый фокус, – объявил он. – На него ушли все деньги. Думаю в воскресенье для начала показать его детишкам.
Его привычная уловка, он пускал ее в ход всякий раз, когда мальчишкой я начинал допытываться, где наша мама.
– Трудный фокус, – продолжал отец. – Он требует физической силы, но слава богу, силы у меня пока хватает. Значит, так: я выхожу на сцену, в кандалах, а на сцене заранее приготовлен мешок...
Я никак не думал, что в моих словах будет столько злости. Все дело, видимо, в долгом полете из Нью-Йорка, во многочасовой неподвижности, в вонючих туалетах «Боинга-747», аэродромной сутолоке. Глупо было требовать отчет в деньгах, раз мне так хорошо известно отношение отца к ним – он же всегда говорил, что их нужно разбрасывать, как удобрение, и тогда они могут что-то дать. Наверняка же всем соседям, всем их детям перепало от денег, которые я так аккуратно переводил. Можно было и не привозить для них подарки.
Я и сам понимал, что семейный очаг – это не дом и не ковры в каждой комнате, но я столько лет гнул спину и рассчитывал увидеть плоды своих трудов. А может быть, я слишком долго жил в Америке. Нельзя было так разговаривать с отцом.
– Ладно, папа, – сказал я, – я уже не ребенок, и я больше не ищу маму. Я говорил когда-то, что найду ее, – и нашел.
Улыбка сбежала с отцовского лица, а глаза широко раскрылись, не столько от удивления, подумал я, сколько от испуга.
– Да? – еле выговорил отец. – Ты с ней виделся?
Я отрицательно покачал головой; не оттого, что рассердился, – мне стало противно все это. И жара, боже мой, какая жара! Мне казалось, что она наваливается на меня всем своим белым калением.
– Не в этом дело. Просто я понял, почему она тебя бросила. И что незачем искать ее.
Он протестующе поднял старческую руку и отвернулся.
– Ты не изменился, папа. Ты все такой же, каким я помню тебя с детства. Только мне уже тридцать три года, а тебе шестьдесят три. Неужели ты не видишь, что времена другие, что я другой? Живешь, будто время для тебя остановилось. Нет больше «Кловера», его еще до моего отъезда снесли и сделали на его месте автомобильную стоянку. И «Савоя» нет, и нет Кануплина, с которым ты дружил...
Я бы не остановился, но отец поднялся на ноги.
Его старое тело еще сохранило былую стройность. Он вскинул руку в сценическом жесте, будто отвечая на овацию зрителей. Он заговорил, глядя мимо меня:
– Верно, времена другие. Верно, я многое так и не рассказал тебе!
Он потряс головой и перешел почти на шепот:
– Не рассказал про этот потрясающий вечер в Дагупа-не – толпа так и рвалась на мое представление... И твоя мама, она была уже на шестом месяце, скоро должен был родиться ты, – а мы их всех надули: в костюме, в гриме она смотрелась как юная девушка... Как ее принимали!
По-моему, я чуть не закричал:
– Все, папа, хватит! Не хочу я больше слышать, что ты делал, и про маму больше не хочу! Не нужно ничего мне объяснять! Я понял, почему она тебя оставила. Тебе вечно хотелось доставлять удовольствие другим, заставлять их забывать о настоящей жизни. Но жизнь – не фокус, и жизнь – дело жестокое. А люди неблагодарны. Деньги твои ушли неизвестно куда. И с чем ты теперь остался – вот с этими старыми афишами?
Он наконец посмотрел на меня. Я теперь думаю, он загодя готовился к тому, что сказать в эту минуту.
– С воспоминаниями, – негромко ответил отец, прихрамывая, подошел к ржавой железной кровати и сел. Он сидел полуотвернувшись, но я все равно видел, что по щекам его текут слезы. Я бросился к нему, к моему дорогому отцу, я обнял его.
Через неделю я улетел в Нью-Йорк. У меня была уйма оправданий: ужасная погода, дома полно работы, скучаю без Джейн, без сына. Но я знал, что обманываю себя.
Люди всю жизнь ищут свое счастье; может быть, и мое найдется в Америке, в стране изобилия, к которому только руку протяни. Не знаю. Знаю, что отец всегда был счастлив, даже после того, как от него ушла мама, и не мешало его счастью ни то, что разваливался дом, ни то, что обирали его соседи и неблагодарными оказались друзья.
Я преданный сын, но я больше не смогу вернуться домой.
БЕЗ ЛОЖНОЙ СКРОМНОСТИ
С шести до девяти вечера в баре «Джунгли» отеля «Манила» дает аудиенцию Аду Т. Куартана – Оракул, оглашая бар своим несдержанным смехом. В правом, дальнем от стойки углу ему раз навсегда отведен особый стол на двенадцать персон, и любой, кто что-то собой представляет в стране – исключая, разумеется, Лидера и Супругу, – рано или поздно должен появиться за этим столом и засвидетельствовать свое почтение.
– Говорят, что я делатель королей, самый влиятельный журналист в стране, – напоминает Аду время от времени своей свите, особенно если за столом присутствует новенький. – Должен сказать без ложной скромности, что этот титул я, полагаю, заслужил.
Аду никогда не нравилось имя, полученное им при крещении. Мать рассказывала, что, когда его крестили в Ла-Унионе, где он родился, у падре был трудный день: еще двенадцать младенцев дожидалось своей очереди. А падре, упрямый старик консервативных взглядов, не принимал в расчет имена, выбранные родителями. Скажем, хочет мамаша назвать дочку Ширли, он ее крестит как Марию-Шир-ли, или Консоласьон-Ширли, или как-нибудь еще, в зависимости от того, имя какого святого приходилось на тот день.
Вот так Аду дали имя: Адорасьон Мигель Т. Куартана. Адорасьон – имя женское, а он был никак уж не девочкой. Со временем он начал называть себя Адор, но это звучало чересчур претенциозно, и дело кончилось тем, что он превратился в Аду – с ударением на «у», и легко запоминается, и что-то в этом имени есть.
Смеркалось, когда он подъехал к отелю. Поскольку управляющий устроился на работу благодаря Аду, то теперь Аду в числе других привилегий пользовался правом ставить свою машину прямо перед главным входом. Привратник и мальчишки-посыльные строго охраняли место, забронированное за Аду, наперекор знаку «Машины не ставить». Говорили, что, кроме Аду, только Лидер мог бы поставить там машину, и все. Это не разрешалось ни одному из всемогущих генералов, которые, выпятив грудь, разгуливали нынче по роскошному фойе отеля.
За столом уже сидел народ; пока Аду усаживался на свое место, Марс Флоро, промышленник из Давао, спросил, получил ли он приглашение во Дворец на следующую пятницу.
– Нет, не получил, – правдиво ответил Аду, – но меня всегда приглашают, я не волнуюсь, в отличие от некоторых, кого вполне могут вычеркнуть из списка за то, что они не оправдали возлагавшихся на них надежд.
Марс Флоро просиял.
– Если кого-то вычеркнули, значит, меня вписали на его место, Аду, я же первый раз, меня никогда еще не приглашали, так что это значит – пробился я наконец?
– Смотря к чему – к большим деньгам ты давно пробился, разве нет? – съязвил Аду под общий смех.
Перегибать палку Аду не хотелось, и он добавил:
– Туда ведь без подарков не ходят, так что без денег не обойтись.
Аду любил бар «Джунгли». Те, кто плохо знали его, думали, что Аду просиживает вечера в баре, полупьяный, и не всякий раз отдает себе отчет в своей болтовне. Тем более, что, выступая в вечерней радиопередаче о событиях дня или сразу после нее заполняя пророчествами популярнейшую телевизионную программу в восемь, Аду еле выговаривал некоторые слова. Лицо его на экране было красным, хотя от природы он был темен, как донце чугунка; причиной, однако, был не алкоголь, а пыл гримера. Язык же у него заплетался потому, что сильный илоканский акцент мешал ему произносить длинные английские слова. Виноват был и один из тех, кто готовил ему материал, – поэт, литератор, все время забывавший писать попроще.
В «Джунглях» Аду ставил перед собой стакан кока-колы, а всем говорил, что пьет кока-колу с ромом. Официанты давно знали его, а бармен был предупрежден, что никто не должен подозревать об отсутствии рома в стакане мистера Куартаны.
Мистер Куартана находил бар удобным во всех отношениях: in vino veritas, как известно, и именно таким образом он собирал большую часть материала для своей рубрики, для радио и телепередач. Аду попадали в руки сведения, которых не было – и быть не могло – у других журналистов, что служило доказательством и его связей, и доверия, оказывавшегося ему. Доверием Аду не злоупотреблял никогда.
Он много зарабатывал, но он и широко благотворил: пользовался репутацией человека отзывчивого, особенно в отношении бедных. К тому же Аду умел заставить раскошелиться и бизнесменов, и политиков. Таким образом он выстроил плавательный бассейн в трущобах Тондо, превратил в игровую площадку бывшую свалку. Эти и другие добрые дела, которыми Аду занимался между прочим, принесли ему популярность в городских низах.
Одно время все были уверены, что Аду сделается мэром Манилы – он был бы на своем месте на этом посту, но власти рассудили по-другому. Высказывались предположения, что Аду с его журналистским нюхом много что раскопал бы в муниципалитете, и рано или поздно обязательно бы выяснилось, что ниточки тянутся во Дворец. А это дало бы дополнительный материал для досье, которые собирал Аду, – было известно, что у него заведено досье на всякого, кто на виду, и что эти досье разбухают с каждым днем. Ходили даже слухи, что факты из досье уже введены в компьютер и, попади все это в руки разведывательной службы или непорядочного человека, служба или человек могут получить миллионы шантажом.
– Без ложной скромности, – обронил Аду, – я и без компьютера могу достать любого.
Аду был ловкач и джентльмен: его сведения о любовных похождениях окружающих нередко документировались фотографиями. Но эту клубничку он никогда не давал в печать, только позволял себе иной раз кое-что сболтнуть. Аду считал, что никого не должно касаться, чем занимаются по доброму согласию двое взрослых в постели, как никого, к чертовой матери, не должна волновать и его собственная слабость к едва созревшим девушкам.
Ему было известно, например, что, как только Марс Флоро приезжает в Манилу, очаровательная девица из Давао, которую он отправил на учебу в Марикнолл, оказывается вечером в его номере; если же их увидят вместе в одном из ресторанов или магазинов Макати, девица станет его благовоспитанной «племянницей». Аду никогда не говорил Марсу Флоро, что знает об этом. Или взять другого промышленника: Эусебио Бусабуса, который как раз пробирался к столу Аду; Эусебио только что приобрел для своей новой любовницы дом в Альта-Грин, выстроенный по проекту самого Рочелио Локсина в классическом японском стиле, но без этих хлипких сёдзи, которые может унести тайфун или прострелить какая-нибудь из недавно расплодившихся моторизованных банд, отравляющих жизнь обитателям роскошных предместий.
Что же до амурных дел Лидера – это был совершенно особый вопрос.
– Без ложной скромности, – говорил Аду, – я и здесь в курсе.
В свиту Аду входили люди с деньгами и с весом.
До чрезвычайного положения к столу Аду забредали и политики. Потом их пересажали, а поскольку Конгресс был упразднен и никто из политиков больше не имел власти, то они исчезли из-за стола вообще. У людей, составлявших свиту Аду, была одна общая черта: все они отлично жили, преимущественно на чужие деньги, иногда на государственные. Все часто выезжали за границу, побывали во множестве стран, что явствовало из убранства их домов. Все придавали большое значение престижной внешности: костюмы по последней парижской моде, итальянские кейсы, швейцарская обувь, под мышкой – свеженький путеводитель по злачным местам трех континентов.
«Филиппинец, – писал Аду Т. Куартана в эссе, сборник которых был опубликован в 1966 году и «рекомендован» министерству просвещения для включения в список школьной литературы для старших классов, – уделяет большое внимание тому, как он выглядит. Взять, например, вопрос одежды и ухода за собой. В приличном городке на Филиппинах найдется больше модных ателье и кабинетов красоты, чем в любой из столиц Юго-Восточной Азии. Филиппинец по природе щеголь, и он тщательно наряжается – крестьянин ли это из Центрального Лусона, собирающийся на петушиный бой, или президент Кесон, открывающий бал во Дворце. Филиппинец убежден, что одежда делает человека, и уносит эту веру с собой в могилу, ибо в гробу филиппинец лежит, обряженный в свой лучший костюм. И ухаживать за собой филиппинец умеет. Где, кроме Филиппин, увидишь мужчин с наманикюренными пальцами в бриллиантовых кольцах? Наши женщины чересчур нарядно одеваются, чересчур тщательно причесываются и, если только у них есть деньги, носят чересчур много украшений. Естественно, что средний филиппинец подражает в этом верхам страны и общества, но и без их примера он поступал бы точно так же. Филиппинца узнаешь где угодно по кичливому виду, по броской одежде, а если у него нет и гроша за душой, то стоит ли об этом думать?»
Описание было автопортретом Аду с одной только разницей: за душой у него было всегда побольше, чем грош.
– Без ложной скромности, – рассказывал Аду приятелям, – без десяти тысяч песо в кармане я из дому не выхожу.
С другой стороны, ну что такое сегодня десять тысяч? Инфляция растет колоссальными темпами, а заработная плата остается прежней. Три месяца назад шофер Аду попросил помощи для брата, он у него кадровый военный и не может больше прокормить семью на то, что платят в армии.
Справа от Аду сидел Аурелио Кастильо, председатель банка Филиппин.
– Какой у нас процент инфляции в этом году, Ауринг?
– Только не пиши в своей газете, а напишешь, так на меня не ссылайся, – предупредил Кастильо. – В пределах от двадцати четырех до двадцати процентов.
Обыкновенно в богатых семьях, где не меньше пяти человек прислуги, хозяевам готовили отдельно. Дом Аду был исключением в этом смысле. Издатель «Дейли пресс» Хосе Суарес как-то сказал, что собирается выдавать прислуге меньше риса, потому что и так расходы на ее питание уже сравнялись с хозяйскими.
– Пускай едят пирожные! – посмеялся Аду.
Суарес издавал газету только лишь потому, что был братом супруги Лидера. Известная в истории фраза не вызвала никакой реакции в его неандертальском мозгу.
– Ты, наверное, шутишь, Аду! Ты же знаешь, сколько стоят пирожные, особенно те, что покупает моя жена, – грустно возразил он.
Аду приехал домой к десяти, но жена еще не возвращалась. Наверняка играет в маджонг с приятельницами, либо в Альта-Грин на другом конце города, либо в Дасмари-нас неподалеку. Жене надоело ходить в гости в их квартале, в Парке; тут в аристократических домах было принято перемежать речь испанскими словами, а она не понимала по-испански.








