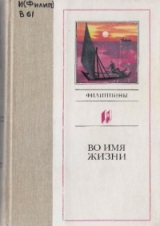
Текст книги "Во имя жизни"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 24 страниц)
Annotation
В сборник вошли рассказы филиппинских новеллистов, творчество которых снискало популярность не только на родине, но и за рубежом.
Тонкий лиризм, психологическая глубина, яркая выразительность языка ставят филиппинский рассказ в один ряд с лучшими образцами западной новеллистики.
Мастерски написанные рассказы создают многокрасочную картину жизни различных слоев филиппинского общества.
Во имя жизни.
ПРЕДИСЛОВИЕ
НОВЕЛЛЫ
ХОСЕ ГАРСИЯ ВИЛЬЯ
В НАЗИДАНИЕ МОЛОДЫМ
ИЗГОРОДЬ
АРТУРО Б. РОТОР
СИТА
КАК ПЕРЕВОДИЛИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ НА ДАВАО
МАНУЭЛЬ ЭСТАБИЛЬО АРГИЛЬЯ
КАК МОЙ БРАТ ЛЕОН ПРИВЕЗ ДОМОЙ ЖЕНУ
В СЕРЕДИНЕ ЛЕТА
МЕСТО ДЛЯ СТРОЧНЫХ И ПРОПИСНЫХ
АМАДОР Т. ДАГИО
СВАДЕБНЫЙ ТАНЕЦ
СТАРЫЙ ВОЖДЬ
НЕСТОР ВИСЕНТЕ МАДАЛИ ГОНСАЛЕС
РАДИОВЫШКА
УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА
ГОЛУБОЙ ЧЕРЕП И ТЕМНЫЕ ПАЛЬМЫ
ПЕДРО С. ДАНДАН
ПОСЛЕДНЯЯ СТАВКА
СОБАКА И ПЯТЕРО ЩЕНЯТ
КАРЛОС БУЛОСАН
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ МАГНО РУБИО
АМЕРИКАНЕЦ С ЛУСОНА
ВОР
Я БУДУ ПОМНИТЬ
НИК (НИКОМЕДЕС) МАРКЕС ХОАКИН
ЛЕГЕНДА О ДОНЬЕ ХЕРОНИМЕ
БЬЕНВЕНИДО Н. САНТОС
ДЕНЬ, КОГДА ПРИЕХАЛИ ТАНЦОРЫ
А ДАЛЬШЕ – СТЕНЫ, СТЕНЫ, СТЕНЫ...
ХЕНОБЕБА Д. ЭДРОСА-МАТУТЕ
ХОЛОДНЫЕ СУМЕРКИ
АЛЕХАНДРО P. РОСЕС
ПЕТУХИ И КОРОЛИ
ДУРИАН
ФРАНСИСКО СИОНИЛЬ ХОСЕ
МАГИЯ
БЕЗ ЛОЖНОЙ СКРОМНОСТИ
АГАПИТО М. ХОАКИН
ПРАВО НА ЖИЗНЬ
ПЕНСИОНЕР
ВЕЗЕНИЕ
АНДРЕС КРИСТОБАЛЬ КРУС
БЕЛАЯ СТЕНА
РИС
ХОСЕ А. КИРИНО
ЛЮБОВЬ-71
МИССИС ПАРДО ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К РЕВОЛЮЦИИ
ГРЕГОРИО С. БРИЛЬЯНТЕС
ВЕРА, ЛЮБОВЬ, ВРЕМЯ И ДОКТОР ЛАСАРО
ФАННИ А. ГАРСИЯ
ДУРНАЯ ПРИМЕТА В ПАНТАБАНГАНЕ
ВИКТОР ХОСЕ ПЕНЬЯРАНДА
ГЕРОЙ ПРАЗДНИКА
notes
Во имя жизни.
ХОСЕ ГАРСИЯ ВИЛЬЯ
АРТУРО Б. РОТОР
МАНУЭЛЬ ЭСТАБИЛЬО АРГИЛЬЯ
АМАДОР Т. ДАГИО
НЕСТОР ВИСЕНТЕ МАДАЛИ ГОНСАЛЕС
ПЕДРО С. ДАНДАН
КАРЛОС БУЛОСАН
НИК (НИКОМЕДЕС) МАРКЕС ХОАКИН
БЬЕНВЕНИДО Н. САНТОС
ХЕНОБЕБА Д. ЭДРОСА-МАТУТЕ
АЛЕХАНДРО Р. РОСЕС
ФРАНСИСКО СИОНИЛЬ ХОСЕ
АГАПИТО М. ХОАКИН
АНДРЕС КРИСТОБАЛЬ КРУС
ХОСЕ А. КИРИНО
ГРЕГОРИО С. БРИЛЬЯНТЕС
ФАННИ А. ГАРСИЯ
ВИКТОР ХОСЕ ПЕНЬЯРАНДА

ФИЛИППИНЫ
ВО ИМЯ ЖИЗНИ
Перевод с английского и тагальского
Москва «Художественная литература»
1986
Составление
В. Макаренко и И. Подберезского
ББК 84.5Фил В61
Вступительная статья
М. Салганик
Рецензент кандидат исторических наук
Ю. Левтонова
Художник Е. Черная
4703000000-357
В – КБ-26-33-86
028(01)-86
ПРЕДИСЛОВИЕ
Александр Твардовский говорил, что его стихи – прежде чем они сложились в стихотворения – это «строки, жившие вразброс». Сложенные вместе, расставленные по местам, поэтические строки дают неизмеримо больше, чем могла бы дать простая арифметическая сумма их смысла, потому что из связей между ними возникают мощные силовые поля ощущений, которые дополняют собою то, что вместилось в слово.
«Строки, жившие вразброс» – как рассказы, вошедшие в этот сборник. Писались они разными людьми – заметно отличными один от другого, были вызваны к жизни разными обстоятельствами и в разные времена; эти рассказы написаны на разных языках: одни на английском, другие на тагальском... Но очутившись под общей для них всех обложкой, объединенные принадлежностью к Филиппинам, они сразу образовали сложные связи между собой и создали нечто наподобие поэтического силового поля.
Наверное, сравнение с поэзией приходит на ум еще и от высокой и чистой лиричности, свойственной филиппинской прозе вообще...
Произведения, собранные под одну обложку, всегда взаимодействуют – как предметы, расположенные в пространстве художником, когда он «ставит» натюрморт, и в этом взаимодействии обязательно участвуют фон и перспектива.
Фон сборника и его перспектива – это Филиппины и филиппинская история; общее, что присуще развитию всякой культуры, и особенное, что выделяет культуру всякого народа.
Чем дальше мы идем по пути культурного сближения народов, которые только в сумме составляют человечество, тем больше мы научаемся ценить национальное своеобразие культур. Но и тем яснее делается истина, простая лишь на первый взгляд: переводя художественную литературу, мы занимаемся транскультурным переводом; переводим, переносим, передвигаем огромные культурные напластования, стараемся пересадить на новую почву вековые деревья, захватив как можно больше корней. Самый факт принадлежности к единому роду человеческому есть залог нашей способности понять и почувствовать искусство любого народа, как бы непривычны ни были формы искусства. Но вот степень проникновения в удаленную от нас реальность, которая и отражена в искусстве, зависит от того, насколько воспринят нами общий культурный фон.
Хотя и ненамного, но все-таки дело обстоит проще, когда речь идет о культурах народов, с которыми мы давно связаны, или о тех, с кем мы соединены общими культурными корнями. Но когда вопрос касается почти двух третей человечества, ставших вначале объектом колониальных захватов, а потом – на века – колониальной изоляции, в результате чего наше знакомство с их культурами так сильно запоздало, тут проблема куда глубже.
Филиппины относятся к числу именно таких стран – и это явствует уже из того, что архипелаг, расположенный у восточной оконечности Азии, носит имя испанского короля Филиппа.
Филиппинцы рассказывают, что давным-давно, на заре времен, между небом и морем летала огромная Птица. Ее крылья устали, но Птице негде было отдохнуть – вокруг только небо и море, море и небо без края. Тогда Птица поссорила Море с Небом: Море плеснуло в Небо огромной волной, а Небо швырнуло в Море песком и галькой. Так и появился архипелаг. Он был вначале безлюден, но в одно прекрасное утро Птица расщепила клювом ствол бамбука и вышли из него первый мужчина и первая женщина.
С них и началось заселение семи тысяч островов смуглыми людьми малайской крови, охотниками, пахарями, мореходами.
Островные племена поддерживали морскую торговлю со своими соседями, а через соседей – и с более отдаленными странами, корабли которых все чаще причаливали к островам.
Но 11 марта 1521 года к острову Самар приблизились паруса, которым суждено было изменить историю архипелага. Это была экспедиция Магеллана, совершившая первое кругосветное путешествие.
Магеллан был убит на соседнем острове Мактан.
Недалеко от этого места теперь стоит памятник племенному вождю Лапу-Лапу, который и убил Магеллана. На постаменте надпись: «Первому борцу за независимость Филиппин».
Впрочем, в Маниле высится другой памятник: Мигелю Лопесу де Легаспи и Андресу де Урданете, конкистадору и авгус-тинскому монаху, которые мечом и крестом завоевали Филиппины для испанской короны – «во имя бога, короля и золота».
Их стараниями страна по сей день носит имя христианнейшего Филиппа II.
Хотя ко времени испанского вторжения на островах – на южных – уже образовались мелкие мусульманские султанаты, единой государственности на архипелаге еще не существовало, как не было еще единой религии.
Альянс меча с крестом, единение кирасы и рясы, так выразительно показанное в «Легенде о донье Херониме» Ника Хоакина – об этом рассказе еще пойдет речь, – особенность испанских завоеваний. Нигде не проявилась эта особенность полнее, чем при колонизации Филиппин. На островах не обнаружилось ни пряностей, по которым изнывала Европа, ни сказочных богатств, подобных тем, что были накоплены древними мексиканскими цивилизациями. Конечно, благодаря этому островитяне избежали конкистадорского геноцида – в отличие от той же Мексики – но уж зато «пылкое воображение иберийцев», о котором писал К. Маркс, целиком обратилось на спасение филиппинских душ, на обращение филиппинцев в католичество.
Иисус Христос явился на архипелаг испанцем, надменным и беспощадным, исполненным отвращения и ненависти к любому проявлению инакомыслия.
Филиппинам досталось не просто христианство, а воинствующее католичество, ожесточенное семью веками реконкисты, породившее монстра инквизиции в самой Испании – католичество имперское и победоносное.
Вот такая церковь стала основой колонизации Филиппин. Католичество и отторгло филиппинцев от их азиатских соседей, и на века сделалось фильтром, через который неминуемо должно было приходить влияние европейской, в том числе и испанской, культуры.
Считается, что все население Филиппин было крещено к 1622 году, однако, писал тогда в отчаянии некий испанский монах, «их неразумение мешает им уразуметь всю глубину нашей святой веры, и они плохо выполняют свой христианский долг».
В сущности же, христианство на Филиппинах испытало на себе такое влияние древних анимистических и политеистических верований, что богословы и по сей день ведут споры о том, позволительно ли считать филиппинцев настоящими католиками.
К тому же горные племена, все те, кого на Филиппинах собирательно зовут игоротами, в силу малой доступности мест их обитания и скудости их жизни, представлявших меньший интерес для духовенства, сумели сохранить и богов своих и обычаи.
«Свадебный танец» Амадора Т. Дагио как раз о людях племени ифугао. Трагический рассказ о женщине и о мужчине, любовь которых разбивается о непреложность обычаев племени. Тех самых обычаев, о гибели которых скорбит герой рассказа «Старый вождь» и которые проявили большую живучесть, чем казалось тогда вождю.
На Филиппинах не затихают жаркие споры на тему о том, что составляет филиппинскую самобытность: доиспанская культура, которая была чисто фольклорной, или же в понятие самобытности должны входить и культурные влияния извне в том виде, какой им придало в конечном счете взаимодействие с реальностью Филиппин.
«Мы – это наши культуры», – говорил Агостиньо Нето, выступая в Университете Дар-эс-Салама в 1964 г., и действительно, проблема духовного самоопределения есть одна из существеннейших для всех без исключения народов, претерпевших колониализм и неизбежные вторжения западных цивилизаций. Важна тут степень проникновения культуры бывших колонизаторов в собственную, в национальную, и понятно, что однозначного решения эта мучительно трудная проблема просто не имеет.
Что касается Филиппин, то здесь испанское католичество проникло в самую глубь народной души, пресуществившись в ней, изменив собой и ее.
Здесь и нужно вернуться к рассказу Ника Хоакина. Рассказ Ника Хоакина «Легенда о донье Херониме» повествует об очень многом: отнюдь не только о том, как древние верования приобретают католическое обличье, как в горниле народного творчества христианская мораль смирения и отречения от плоти сплавляется с языческой моралью и искренней радостью, восторгом перед плодородием и человеческого тела и земли, с благодарным принятием земной благостыни. Не только об этом. Еще и об отношении к прошлому тоже. Архиепископ считает, что он может выбирать себе прошлое, что он может быть собой, «отринув со своего пути некоего юного повесу и распутника» – каким он когда-то был. Но, отрицая себя бывшего, архиепископ не в силах прийти к пониманию себя вообще, и, что бы он ни делал, как бы себя ни вел, все это «еще одна маска еще на одном маскараде. Его бегство от иллюзий было само по себе иллюзией...».
Донья Херонима, напротив, отвергает право истории на движение. Ей будто даже удается остановить время, ибо его течение не властно над ее юной красотой. Но замершее время беспощадно – умудренный жизнью архиепископ не может снова стать беспечным возлюбленным доньи Херонимы.
Только признанием того, что история – это уже реализовавшаяся вероятность, а ход истории необратим, могут найти истину и донья Херонима, и архиепископ. Он понимает, что:
«откровение... придет к нему не извне, а из него самого, такого, какой он есть, со всеми его страстями, оно будет порождено тем, чего он желал, что вызывал к жизни, – это будет не свет с высоты, а свет, возгоревшийся снизу: ясный и бездымный огонь купины неопалимой».
В контексте споров о духовном самоопределении, о выборе верного соотношения «своего» с «чужим», которые идут на Филиппинах, как во всех других освободившихся странах, «Легенда о донье Херониме» остро полемична. Ник Хоакин занимает позицию, приобретающую с течением времени и меркнущими воспоминаниями о колониальных унижениях все больше сторонников в среде передовой афро-азиатской интеллигенции: если волей истории народы бывших колоний унаследовали больше, чем одну культурную традицию, то это благо, а не беда. Беда же и в недоверии к собственной традиции, и в высокомерном утверждении ее превосходства.
В своем известном эссе «Культура, как история», опубликованном в журнале «Манила Ревью» № 3 за 1975 год, Ник Хоакин писал:
«Мы часто жалуемся, что наша, единственная в своем роде культура делает нас ни рыбой, ни мясом, поскольку мы ни Восток, ни Запад. Но с какой стати мы должны чувствовать себя пристыженными и виноватыми из-за нашей уникальности, а не гордиться тем, что мы неповторимы? Почему нам так хочется быть востоком, или западом, или севером, или югом, когда мы можем на самом деле быть единственно тем, что из нас сделала наша культура и история?»
Возможно потому, что Филиппины испытали на себе воздействие не одного колониального порабощения, а двух, что не могло не привести к культурной дезориентации, далеко еще не преодоленной и сегодня.
Размышляя о роли, сыгранной испанской культурой на Филиппинах, необходимо помнить о том, что благодаря испанскому языку образованные филиппинцы вошли в соприкосновение с великой традицией Сервантеса и Лопе де Вега, прочитанными в подлиннике. Из этой традиции вышла и филиппинская классика, вершиной которой стали произведения Хосе Риса-ля, идейно подготовившие антииспанскую национально-освободительную революцию 1896—1898 гг.
Но сегодня Рисаля читают на Филиппинах в английских переводах – освободившись от испанского рабства, филиппин-
цы тут же попали в рабство американское, которое официально закончилось в 1946 году, когда страна впервые завоевала суверенитет.
Как пишет филиппинская публицистка Кармен Гереро Накпиль в своей книге «Проблема культурного самоопределения»:
«Вторая волна империализма обрушилась на нас с другой стороны и девальвировала испанское влияние, заменив его собственным: американскими языком, манерами, идеалами и институтами».
И дальше:
«Американская культура научила филиппинца задаваться двумя вопросами: «Какая в этом польза?» и «Чего он достиг?». Прежде нас интересовало восточное: «Что он ощущает или что он думает?» или испанское «Кто он такой?». Американское вторжение всю философскую и социальную структуру Филиппин поставило с ног на голову».
Если филиппинский роман как жанр был плодом гибридизации филиппинской реальности и испанской литературной традиции, а вызрел в выражение протеста против испанского владычества, то рассказ – гибрид изменившейся филиппинской ситуации и американской литературы – буквально с самого начала был выражением протеста против американского прагматизма и кока-колонизации в целом.
Доказательством этому может служить любой из рассказов, включенных в сборник, – при всем их тематическом и стилистическом разнообразии.
Нужно только помнить, что имеется в виду филиппинский рассказ на английском языке – на «американском», как любят говорить на Филиппинах. Становление тагальской литературы, в частности жанра рассказа, – тема несколько другая.
Американцы в 1946 году «ушли, чтобы остаться», а остались они там надолго, опутав Филиппины целой сетью договорных обязательств и сохранив военные базы, поэтому сформировавшийся в литературе образ «человека между»: между двух культур, двух образов жизни, двух систем нравственных приоритетов – и по сей день занимает в ней большое место.
По мере того как филиппинцы стали все чаще выезжать в Америку в поисках работы или на учебу, этот образ претерпевал разного рода метаморфозы, пока в литературе не появилась целая новая тема.
Эта тема – «филиппинцы в Америке» широко представлена в современной филиппинской прозе. Если выделить рассказы на эту тему, помещенные в сборнике, то сразу бросается в глаза их общая черта: неприятие американского прагматизма как основы ценностей. Конечно, рабочих-поденщиков, о которых пишет Карлос Булосан, отделяет дистанция огромного размера от интеллектуального – и вполне благополучного – героя «Магии» Франсиско Сиониля Хосе. Но прекрасен душой «филиппинский парень всего четырех футов шести дюймов ростом», величественный в своей любви («История любви Магно Рубио»); но больше получил от жизни Великий Профессор Фаустус, одиноко угасающий в манильской трущобе, чем его преуспевающий американизированный сын.
Поразительны по своей скорбной лиричности и рассказы о маленьких людях, отчаянно цепляющихся в Америке за принципы жизни и представления о порядочности, вывезенные ими с Филиппин, – такие неуместные в их новой среде, что герои этих рассказов выглядят нелепыми: как булосановский Магно Рубио или как герой прекрасного рассказа Бьенвенидо Сантоса «День, когда приехали танцоры».
Есть и другой типаж – излюбленная мишень для стрел сатиры: филиппинцы, старающиеся переамериканить саму Америку, всяческие «американцы с Лусона»; однако в серьезной и глубокой трактовке «люди между» скорее трагичны, нежели смешны, и именно такими предстают они чаще всего на страницах филиппинской прозы, прежде всего англоязычной.
Вторая мировая война обрушилась на Филиппины внезапно.
...7 декабря 1941 года – в день бомбардировки Перл-Хар-бора, японские самолеты бомбили и Манилу, а 10 декабря началась японская оккупация Филиппин.
Тех филиппинцев, кто надеялся опереться на японцев, широко рекламировавших свои планы создания «Великой восточноазиатской сферы совместного процветания», чтобы вышвырнуть американских колонизаторов, ожидало скорое и горькое разочарование.
Японцы стали грабить Филиппины так, как едва ли кому удавалось прежде, – и скоро на островах возникло массовое движение сопротивления, в которое со временем вошло около миллиона человек. Оккупационные войска расправлялись с партизанами с нечеловеческой жестокостью; последние же месяцы войны связаны для филиппинцев с памятью о трагедии Манилы: отступавшие японские солдаты разрушили город, убивая всех без разбору, и женщин, и детей.
«Собака и пятеро щенят» П. Дандана, рассказы Агапито М. Хоакина повествуют о страшных годах японской оккупации, воспоминания о которых окрашивают собой немало произведений филиппинской литературы. Однако трагедия японской оккупации парадоксальным образом сыграла роль катализатора для ускорения процесса становления тагальской прозы.
Силясь искоренить американское влияние на Филиппинах, запрещая все, что отдавало Америкой, японцы – в противовес – оказывали всемерное содействие тагальскому языку как национальному языку страны, что не мешало им топтать национальное достоинство его носителей.
Зарождение тагальской прозы филиппинское литературоведение относит еще к XIX веку; росла она и развивалась вместе с ростом национального самосознания филиппинцев. «Становление нации и национального языка шли у нас параллельно», – пишет профессор Б.-С. Медина.
Однако политика колониальной аккультурации, проводилась ли она при помощи грубой силы, как в испанские времена, или через соблазн общедоступности образования в американских школах, неизбежно оттесняла тагальскую литературу на второй план.
Национальные чувства филиппинцев, без сомнения, находили – и сейчас находят – свое выражение и в произведениях, написанных на испанском или английском: достаточно вспомнить воздействие книг Хосе Рисаля на умы и сердца его сограждан. Вместе с тем, как бы ни расширялось знание этих языков на Филиппинах, на массовый уровень могут выйти только национальный язык и литература на нем.
По мере возрастания активности народных масс, тагальская литература стала быстро завоевывать популярность, особенно в период после второй мировой войны, когда в 1946 году тагальский язык получил статус официального языка Филиппин, правда, наряду с английским и испанским.
К шестидесятым же годам, по словам видного критика Бьенвенидо Лумберы, «если писатель мог выбирать между английским и тагальским, он все реже обращался к английскому, поскольку тагальский открывал выход к массовому читателю, а именно ему предназначал писатель свое послание патриотизма. Этим и объясняется подъем тагальской литературы, начавшийся в шестидесятые» (Бьенвенидо Лумбера, «К вопросу о новой оценке филиппинской литературы»).
Шестидесятые годы – это социальные сдвиги и – обусловленные ими – перемены в политическом климате Филиппин. Патриотические настроения вышли за круг образованной состоятельной элиты и захватили широчайшие народные массы. И очень значительная роль в движении протеста выпала на долю учащейся молодежи – и в силу ее повышенной заинтересованности в общественных изменениях, и в силу ее численности: к тому времени половина населения архипелага была моложе двадцати.
Несоответствие форм правления – тщательно скопированных с американских – реальному смыслу их деятельности, политический гангстеризм, экономическая нестабильность, необузданная коррупция – вот против чего протестовали массы, сражалась молодежь.
Бьенвенидо Лумбера вспоминает эти времена:
«...к 1964 году националистическое движение было направлено против неравенства в отношениях между США и Филиппинами – как против первопричины всех проблем страны. Застрельщиками движения стали студенты, а поскольку филиппинские писатели по традиции группируются вокруг университетов, то события быстро нашли свое отражение в литературе». Вместе со своим фоном в литературе нашла отражение атмосфера привычной беспринципности, которой жила правящая верхушка, которой жили все политические институты Филиппин».
Если взять рассказ Франсиско Сиониля Хосе «Без ложной скромности», то интересен он не столько образом Оракула – далеко не уникальный образ типичного газетного словоблуда, способного приладиться к любой политической ситуации, – сколько витриной моментальных фотографий взяточников, казнокрадов, нуворишей, сгруппированных вокруг портретов Лидера и его Супруги, сколько описанием «коридоров власти», где теснится вся эта ненасытная, циничная толпа...
В шестидесятых и семидесятых годах в филиппинскую прозу входит образ молодого бунтаря, яростно и нетерпеливо протестующего против такого вот образа правления, против социальной несправедливости, олицетворенной в нем, против «особых» отношений с Америкой, не дающих развиваться свободе и демократии Филиппин. Молодежное движение на Филиппинах разнородно до крайности, его цели и противоречивы, и туманны, к тому же горячими головами частенько руководят холодные умы из-за кулис. Тем не менее филиппинская литература настойчиво противопоставляет молодого героя – при всей его смятенности – и циничным временщикам, и рефлектирующим интеллектуалам, и безмолвно страдающему «маленькому человеку».
Образ же «маленького человека», которого всегда брала под защиту демократическая филиппинская проза, в последние годы видоизменяется от соседства с юным бунтарем, готовым под полицейскими пулями отстаивать права этого «маленького человека» вместе со своими.
Рассказ Хосе Кирино «Любовь – 71» в самом своем названии содержит точный временной ориентир. Его герой Мон Пиньеда, участвуя в молодежном движении, делает тот шаг, к которому еще не были готовы молодые герои «Белой стены» Андреса Кристобаля Круса, хотя условиями своего существования они уже были вплотную прижаты к этой стене.
Политизация массового сознания заметно сказывается на филиппинской литературе, сообщая ей все большую социальную остроту.
Назидательность ранних деревенских рассказов – больше похожих на притчи – Хосе Гарсия Вильи, лиричность героев поразительной по своей проникновенности прозы Мануэля Аргильи сменяется куда более реалистической манерой письма, скажем, А.-К. Круса (кстати, одного из писателей, перешедших с английского языка на тагальский), а потом и совершенной беспощадностью повествования Фанни Гарсия.
О литературе Филиппин можно говорить, что ее сформировал постоянный дух противоборства, пожалуй даже с большим основанием, чем о любой другой. Все то, что филиппинская культура получала извне '– и отнюдь не в свободном обмене, – она рано или поздно синтезировала с собственными основами и обращала в орудие борьбы. Так произошло с испанским воздействием, так и с американским, несмотря на весьма существенные различия между ними.
Филиппинская литература сумела обрести себя в хаотическом смешении влияний и сегодня уже прочно заняла принадлежащее ей место в сумме культур народов мира.
М. Салганик
НОВЕЛЛЫ

ХОСЕ ГАРСИЯ ВИЛЬЯ
Хосе Гарсия Вилья (род. в 1906 г.) – крупнейший поэт и новеллист. Пишет на английском языке. В 1929 г. за революционную поэму «Песни человека» был исключен из Университета Филиппин. Закончил два американских университета – Колумбийский и в Нью-Мехико, доктор филологических наук. Первые новеллы Х.-Г. Вильи относятся к 20-м годам. В 1933 г. выходит в США его известный сборник новелл, названный по публикуемому ниже рассказу «В назидание молодым». В последующие годы Х.-Г. Вилья целиком посвящает себя поэтическому творчеству. Он лауреат всех крупнейших национальных премий в области литературы. В 1973 г. ему было присвоено высшее для филиппинского деятеля культуры звание – народный художник.

В НАЗИДАНИЕ МОЛОДЫМ
Близился закат. Солнце стало оранжево-розовым и подернулось дымкой. Додонг представлял себе, как скажет сегодня отцу о Тианг... Он думал об этом и когда собирался домой, и потом, когда выпрягал карабао1 из плуга, вел его под навес и задавал корм. Он со дня на день откладывал этот разговор, понимая, что никуда от него не уйти.
То, о чем он хотел оповестить своих родителей, имело очень важное значение и должно было изменить всю его жизнь. Он совсем уж было решился, как вдруг остановила мысль: а что делать, если отец даже не захочет и слышать об этом? Отец... Молчаливый, изнуренный тяжелым трудом крестьянин, с вечной бетелевой жвачкой во рту.
«И все-таки скажу. Будь что будет!»
Земля, исполосованная свежими ранами, источала сладковатый, приторный запах. В бороздах извивались тонкие черви, спеша снова втянуться в рыхлую землю. Маленькие и бесцветные, они сослепу залезали на ноги До-донгу и ползли по ним. Когда ему становилось щекотно, он стряхивал их с ноги и отшвыривал в сторону. Но даже не следил, как обычно, за их полетом: настолько был поглощен мыслями о том, что ему семнадцать и он уже больше не мальчик.
Додонг не спеша освободил карабао от упряжки и бесцеремонно ткнул его в бок. Буйвол повернул к нему голову, глядя на своего хозяина с преданностью и укором. Додонг слегка подтолкнул его и повел к навесу. Там он бросил буйволу охапку травы, и тот начал жевать. Додонг стоял и смотрел на него невидящим взглядом.
Потом он пошел к дому, не переставая размышлять о том, как лучше сообщить новость отцу. Он, Додонг, хотел жениться, в этом все дело. Ему исполнилось семнадцать, лицо покрылось прыщами, и уже пробился пушок над верхней губой – он становился мужчиной. Он мужчина! При одной мысли об этом он рос в собственных глазах: мужчина должен быть решительным! Он прибавил шагу, словно подстегивая себя подобными мыслями... Острый камешек поранил ему ногу, но он лишь рассеянно взглянул на кровоточащий палец и продолжал идти дальше. Солнце садилось, повеяло прохладой. Пылкое юношеское воображение Додонга рисовало смелые картины. Тианг, его девочка... У нее такое милое личико, такие черные глаза и такие красивые блестящие волосы. Как она ему желанна! Как ему хотелось коснуться ее, прижать к себе... Ни о чем другом думать он уже не мог.
Он напрягся и посмотрел на свои мускулистые руки. Грязные. Работа в поле – здоровая, от нее прибавляется сил, но чистым не походишь.
Додонг свернул с тропы и побежал напрямик к реке. На берегу стянул с себя немудреную одежду – серую рубашку и красные шорты, положил ее на траву. Зашел в воду и стал яростно смывать с себя грязь.
На берегу реки он пробыл недолго и вскоре снова шагал по тропе к дому. Купание охладило его разгоряченное тело.
Смеркалось, когда он поднялся в хижину. Родители уже ждали его ужинать. Под потолком горела керосиновая лампа, на низком грубом столе стояла еда: жареная рыба с рисом, бананы и постный сахар.
Додонг съел рыбу и рис, а к бананам не притронулся. Они были перезрелые – возьмешь такой, а он у тебя в руке разваливается. Отломил кусочек сахара, макнул его в чашку с водой, съел. Отломил еще кусок, еще... Потом вдруг спохватился – нужно ведь и отцу с матерью оставить...
Мать собрала со стола посуду и понесла ее в баталан2. Она шла медленно и осторожно, боясь оступиться, и Додонг захотел было ей помочь, но от усталости не смог заставить себя подняться с места. Как жаль, что у него нет сестры. Вот кто помог бы матери по хозяйству!
Отец остался в доме. У него болел зуб, и он со свистом втягивал в рот воздух, чтобы облегчить свои мучения. «Опять этот зуб!» – подумал Додонг. Он не раз уговаривал отца сходить в город к врачу и вырвать зуб, но тщетно. Видно, боится, а признаться не хочет, думал Додонг. Впрочем, сам он на месте отца был бы не храбрее.
Наконец, когда мать вышла, он признался отцу, что собирается жениться на Тианг... Это получилось очень просто: он сказал то, что хотел сказать, без особого усилия или какого-то стеснения. Стоило так долго ломать себе голову, как лучше это сделать... Он сразу почувствовал облегчение и выжидательно замолчал... Ущербная луна лила в окно слабый свет и серебрила все еще черные виски отца – он выглядел сейчас старым.
– Я хочу жениться на Тианг, – вот что сказал Додонг.
Отец молча взглянул на него, забыв о больном зубе. Воцарилось молчание, напряженное и мучительное. «Лучше бы он снова засвистел своим зубом», – подумал Додонг. Ему стало не по себе, росло раздражение против отца, который продолжал смотреть на него и ничего не говорил.
– Я хочу жениться на Тианг, – повторил Додонг. – Жениться хочу, понимаешь?..
Отец пристально глядел на него в упорном молчании, и он стал ерзать на месте.
– Я спросил ее нынче, хочет ли она стать моей женой, и она сказала, что да... Теперь надо, чтоб ты разрешил. Мне... очень нужно, понимаешь?
Последние слова Додонг произнес нетерпеливым тоном, как бы протестуя против ледяного отцовского молчания... Он снова угрюмо посмотрел на отца, потом начал похрустывать суставами пальцев, одним, другим, третьим... И эти слабые звуки были единственными в безрадостной вечерней тишине.
– Тебе что, очень приспичило?
Его обидел этот вопрос. Ведь отец и сам когда-то женился! В голову невольно полезли мысли о «родительском эгоизме» и тому подобное, но он тут же устыдился их.
– Ты ведь слишком молод, Додонг.
– Мне уже семнадцать.
– Этого еще мало для того, чтобы заводить семью.








