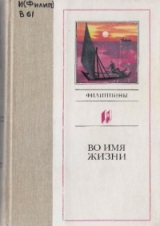
Текст книги "Во имя жизни"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 24 страниц)
– Кому это нужно – до бесконечности?
– К примеру, если ты на корабле... Я хочу сказать, если ты вдруг почему-то окажешься один без всякой помощи посередине Тихого или Атлантического океана, тебе нужно будет держаться на воде, пока не подоспеет спасение... если только оно подоспеет, – объяснил Тони.
– Лучше бы ты придумал способ добраться до берега, пока акулы тебя не учуяли. Вот и думай.
– И придумаю, – сказал Тони обескураженно, словно заранее знал, что такого способа нет, а потому его открытие бесполезно.
– А теперь послушай меня, – сказал Фил, резко садясь на софе. Поскольку он заговорил на родном языке, Тони слушал его со все возрастающим безразличием.
– Там все они были, – воодушевленно начал Фил тоном заправского оратора. – И наверное, среди них могли быть мои дети, если бы я не покинул родину. Или твои дети, Тони. Они озирались вокруг с удивлением, улыбались мне, отвечали на мои вопросы, но как-то неохотно и спешили отойти, как будто быть рядом со мной им не положено, как будто это запрещено. Но, наверное, это потому, что каждый раз, как я открывал рот, я выдавал себя. Я говорил с ними на нашем языке, по-илокански, по-тагальски, – но никто меня не слушал. Они избегали меня. Их слишком хорошо натаскали: «Не разговаривай с незнакомыми людьми. Не принимай их приглашений. Будь сверхосторожен в больших городах, таких как Нью-Йорк и Чикаго. Бойся старых эмигрантов. Большинство из них просто бродяги. Держись от них подальше. Не искушай судьбу. Не отходи от своих товарищей и разговаривай только с теми, кого тебе официально представили».
Я уверен, они получили такие инструкции «по мерам безопасности», как им, наверное, сказали. Что же мне было делать? Кричать во весь голос о моих самых добрых намерениях, бить себя в грудь и клясться, что я просто люблю их и совсем не опасен? Да, я люблю их! Понимаешь, я сам был когда-то таким же. У меня были резвые ноги и гибкие руки, и я говорил как поэт. Спроси деревенских девушек и завистливых парней из нашего городка, – да только где их теперь найдешь! Столько лет прошло, что это, наверное, нелегко. Чтоб найти хоть отблеск юности и красоты тех дней, тебе придется всматриваться в каждое измученное болью лицо в нашей деревне или искать на кладбищах, где могилы тянутся рядами вдоль аллей. Одно такое лицо... О господи, о чем я говорю?
Единственное, чего я хотел, это поболтать с ними, показать им Чикаго, угостить их на свои деньги, чтобы им было что вспомнить, когда они вернутся на наши острова.
Они бы сказали своим родным: «Мы встретили старого, доброго человека, он пригласил нас к себе, в свою не слишком просторную, такую же старую, как он сам, квартиру. Когда мы уселись на софу, она провалилась и поломанные пружины уперлись в пол. Но зато каким поваром оказался этот старик! И каким он был добрым. Мы никогда не думали, что рис и адобо могут быть такими вкусными. А цыплята реллено! Когда кто-то спросил, чем он их фарширует, – мы никогда ничего подобного не пробовали! – он улыбнулся и ответил: «Они из небесного супермаркета», и, как клоун, коснулся руками своей головы и прижал их к сердцу, словно в нем-то и хранились дары небес. У него был магнитофон, который он называет волшебным звучащим зеркалом, и он записал голос каждого из нас. «Скажи что-нибудь по-илокански, спой какую-нибудь нашу кундиман31, пожалуйста», – говорил он, и глаза его тоже просили, умоляли. О, как мы веселились, слушая эти записи! «Когда вы уйдете, – сказал нам старик, – я буду слушать ваши голоса с закрытыми глазами, и вы будете снова со мной, и я уже больше никогда не буду одинок, никогда». Нам хотелось плакать, но он был таким смешным, и мы засмеялись, и он смеялся вместе с нами».
Но, Тони, они не захотели прийти. Они благодарили меня, но отвечали, что у них нет времени. А другие вообще ничего не отвечали. А может, еще хуже – я был им противен. Они стыдились меня. Как я осмелился быть филиппинцем?
Воспоминания внезапно обрушились на него, каменным грузом легли на грудь. Он задохнулся.
– Ладно, теперь послушай, как надо держаться на воде, – сказал Тони, но голос его был каким-то чужим, – это не был голос Тони.
Фил был один и плакал, пытаясь вдохнуть воздух. Глаза его постепенно открылись, дышать стало легче. Небо за окном было серое. Он взглянул на часы: четверть шестого. Концерт начнется в восемь. Может быть, Тони скоро вернется?
Квартира медленно нагревалась. В радиаторах батарей, казалось, скреблись сотни крыс. У него была запись этих звуков в «звучащем зеркале».
Фил улыбнулся. Ему пришла одна мысль. Он возьмет «звучащее зеркало» в театр, сядет на свое место возле Самой сцены и запишет все песни и танцы.
Теперь он совершенно проснулся и был даже по-своему счастлив. И чем больше он думал о том, как запишет выступление танцоров, тем лучше он себя чувствовал. Если Тони сейчас появится... Он сел, прислушался. Радиаторы молчали. И не было слышно звуков шагов и щелканья ключа в замке.
* * *
Поздно ночью, вернувшись из театра, Фил сразу понял, что Тони уже дома. Ботинки стояли перед дверью. Он тоже, наверное, устал, и не стоило его беспокоить.
Фил ждал его до последней минуты, а потом ему пришлось гнать машину вовсю. Он не хотел, чтобы на него глазели со всех сторон, когда он будет пробираться со «звучащим зеркалом» на свое место перед самой сценой. Он надеялся, что Тони уже здесь. Незадолго до того, как свет начал гаснуть, он поставил магнитофон на его кресло рядом с собой. Откинувшись назад, он следил за началом представления, уверенно и ловко управляясь с микрофоном, кассетами и регуляторами, не спуская со сцены глаз. Он все запомнит. А потом станет озвучивать свои воспоминания об этом вечере магнитофонными записями, и танцоры снова будут с ним, такие же хрупкие, изящные и юные.
Электрический фонарь, подвешенный высоко на кирпичной стене вдоль аллеи напротив южного окна гостиной, освещал Филу дорогу к софе; он осторожно положил на нее магнитофон, стараясь не шуметь. Потом включил верхнюю лампу; снимая пиджак, он думал: может быть, Тони не спит и ждет его? Они бы послушали вместе записи танцев и песен, которые Тони пропустил. А потом он расскажет Тони обо всем, что случилось за этот день, и даже часть своего сна.
На цыпочках подошел он к двери в спальню Тони и услышал ровное дыхание крепко спящего человека. В полумраке голова Тони, глубоко вдавленная в подушку, выделялась темным пятном, он лежал на боку, и колени его были подтянуты почти до рук, скрещенных под подбородком, – гигантский эмбрион из последнего стеклянного сосуда! Фил тихонько закрыл дверь и вернулся к софе. Сняв крышку магнитофона, он оглянулся, отыскивая ближайшую розетку, нашел, включил «звучащее зеркало», поставил кассету и нажал кнопку воспроизведения, отрегулировав громкость на самый тихий звук. Сначала ничего не было, кроме потрескивания статики и каких-то странных вздохов, но затем послышался ритмичный топот ног под знакомую мелодию.
Все прекрасные юноши и девушки вошли в его комнатушку, танцуя и распевая. Юноша и девушка сидели на полу напротив друг друга, держа за концы два длинных бамбуковых шеста параллельно над самым полом; они с треском сталкивали их и разводили, а танцоры, изгибаясь и раскачиваясь, легко впрыгивали в эту щелкающую бамбуковую ловушку и ловко выпрыгивали, когда она захлопывалась, спасая свои стройные коричневые ноги, – туда и сюда, туда и сюда, все быстрее и быстрее, подчиняясь возрастающей ярости деревянных щипцов, в деланной панике и в гармоничном порхании босых пальцев и лодыжек, ибо горе неловкому: его ждала боль раздробленных костей и защемленных мускулов, а еще – боль унижения. Затем последовали другие танцы в сопровождении других песен, полные отзвуков жизни и смерти древней родной страны: вот игороты вереницей спускаются с горной вершины, вот крестьяне взбираются на холм в дождливый день, вот соседи переносят хижину, и сильные ноги их выглядывают из-под съемной крыши, вот возлюбленные скрывают свою любовь среди диких живых изгородей, подальше от глаз людских, подальше от часовни, чей колокол то и дело звучит, призывая на празднество или на молитву. И наконец – нескончаемая овация, набегающая волна за волной.
– Выключи эту штуку!
Голос Тони прозвучал отчетливо и резко, перекрывая замирающее эхо гонгов и аплодисментов.
Фил выключил магнитофон; во внезапной тишине голоса превратились в лица, знакомые и близкие, как жесты и прикосновения, и не уходили, даже когда он перестал их вспоминать, продолжали кланяться, как там, на сцене, грациозно и легко, повторяя: «Спасибо, спасибо, благодарим вас!» – перед призрачной аудиторией, которая продолжала аплодировать в безмолвии и восторженно топать ногами в поглощающей все пустоте. Фил хотел присоединиться к этому финалу, вообразить, будто и он прощается со зрителями перед закрытием занавеса, стыдливо отвесить грациозный поклон, но он был нескладный, негибкий и старый, – какая уж там грация! – и мог только повторять: «Спасибо, спасибо, благодарим вас!», благодарный тем, другим голосам, и поющим звукам, и воспоминаниям.
– О господи боже мой! – вскричал человек в соседней комнате и застонал так мучительно, страшно, что Фил упал на колени и прикрыл обеими руками свое «звучащее зеркало», чтобы заглушить его, ибо ему показалось, что оно еще продолжает смеяться и петь, хотя он его выключил.
И тогда вдруг он вспомнил.
– Тони, что сказал тебе врач? Что он сказал? – крикнул Фил и замер, затаив дыхание, уже не понимая, кто из них двоих целый день больше ждал этого окончательного приговора.
Ответа не было. А у него под пальцами трепетали крылья птиц и звучали гонги. Что там бормочет Тони? Фил хотел услышать, он должен был знать. Руки его обняли мертвую машину, и голова упала на проигранную кассету.
Близилось уже утро, и сон сломил его и унес во тьму, где он закачался на волнах безбрежного моря.
А ДАЛЬШЕ – СТЕНЫ, СТЕНЫ, СТЕНЫ...
Я приехал в Нью-Йорк посмотреть статую Свободы и кузена Мануэля, покинувшего Филиппины шестнадцать лет тому назад. В Интернэшнл Хаус места для меня не нашлось. Начались занятия на летних курсах, и с жильем было туго. Даже мольба «Я – филиппинец!» не возымела действия. Коррехидор32 давным-давно пал, и журнал «Лайф» поместил фотографию – генерал Уэйнрайт сдается японцам в Батаане и еще одну – мои низкорослые соотечественники идут навстречу врагу с развевающимися белыми флагами.
Мне пришлось заночевать в отеле. Жара была как летом на Филиппинах. Я спрятал голову под подушку, но рев поездов наземной железной дороги не давал уснуть; я так и пролежал всю ночь без сна, размышляя о доме и детстве, о железных дорогах за белеными стенами, о поездах, бегущих ночью в ближние и дальние края.
В угловой комнате в другом крыле здания белая женщина, лежа на кровати, читала при свете лампы; мне почему-то захотелось узнать, видела ли она уже статую Свободы.
Я так и уехал, толком не разглядев ее, зато повидал кузена Мануэля.
Лето было в разгаре, и духота стояла такая же, как в первую бессонную ночь в Нью-Йорке. Хоть солнце и светило над Гудзоном, дело шло к вечеру, когда я наконец разыскал жилье Мануэля. Я очень волновался: какой будет наша встреча после стольких лет разлуки?
Мануэль знал, что я в Нью-Йорке.
– Жду тебя, приезжай как можно скорей, – сказал он по телефону.
Мне хотелось верить, что ему и впрямь не терпится поглядеть на меня. Я постучал в дверь и замер, выжидая. Какой он – изменился или нет? О чем с ним говорить? Может, лучше скрыть от него, что его мать умерла, а единственный брат находился в туберкулезном санатории, когда я уезжал? Я постучал снова.
– Кто там? – донеслось из комнаты.
Странно, но я сразу узнал его голос. По телефону он показался мне чужим.
– Это я, Бен.
Я приставил ухо к двери, чтоб еще раз услышать голос Мануэля. Мы были с ним как братья, хоть он и старше меня. Дверь медленно отворилась.
– Бен! – Мануэль втащил меня в комнату и захлопнул дверь. Мы обнялись, но я так и не смог выговорить его имени: перехватило дыхание. Мануэль усадил меня, я оглянулся и увидел девушку; она сидела на кровати и раскладывала карты.
Комнатушка была маленькая, душная, меньше моего номера в отеле. Шторы прикрывали какие-то чудные окна, посредине стоял стол, два стула, у двери – холодильник. Из окна был виден внутренний двор с высохшей травой, а дальше – стены, стены, стены...
Мануэль был точно такой, каким я его себе представлял, – высокий, стройный. Одет в тон – шелковая голубая рубашка и светло-голубые брюки без манжет. На руке – золотые часы. Мануэль улыбнулся и сказал, повысив голос, чтобы перекричать приемник на тумбочке у кровати:
– А ты совсем не изменился, – и, обернувшись к девушке, добавил: – выключи!
Она приглушила звук. Девушка была беленькая и очень худая.
– Ах, да, – Мануэль будто спохватился, что в комнате кто-то есть, кроме нас. – Это Элен. Элен, это Бен, мой братишка.
Элен посмотрела на меня и улыбнулась. Зубы у нее красотой не отличались.
– Господи, ну и пекло, – сказал Мануэль, направляясь к холодильнику. Он отворил дверцу, заглянул внутрь. – Надо же, кто бы подумал, что через шестнадцать лет мы с тобой встретимся в Нью-Йорке!
Я был счастлив. Мануэль совсем не изменился, повторял я про себя. Те же толстые улыбчивые губы. Те же темные глубокие глаза, совсем как у моей матери.
– Как тебе Америка? – спросил он, ставя на стол бутылки с пивом.
– Хочешь сказать – Нью-Йорк?
– Это и есть Америка.
– Хороший город.
Я подумал, что Мануэль выглядит лучше своего брата – того, в санатории на Филиппинах. Мануэль такой моложавый, не скажешь, что ему уже тридцать пять.
– Как зиму пережили? Холодно было? – Мануэль говорил по-английски бегло – настоящий американец! Мне стало стыдно за свой акцент. – В Нью-Йорке тоже случаются холода, – продолжал он, ставя на стол стаканы.
По радио пел негритянский певец – с надрывом, будто прощаясь с жизнью. Я сидел спиной к девушке, но каждый раз, взглянув в зеркало над комодом, видел, как она тасует карты и раскладывает их на кровати.
– Выпьем? – предложил Мануэль.
Я помотал головой. Он снисходительно засмеялся и снова заглянул в холодильник. ,
– Учись пить, Бен, это Америка!
Поставив на стол бутылки содовой, Мануэль откупорил одну и наполнил мой стакан.
– А я предпочитаю пиво. – Мануэль откупорил другую бутылку.
Холодный напиток приятно освежил ссохшееся горло, и я залпом выпил чуть ли не все разом.
– Чертовски приятное пойло, – молвил он, кивнув на мой стакан, – но не забористое.
– Дай бутылку, – попросила Элен.
– Бери, – отозвался Мануэль, не сводя с меня ласкового взгляда.
В комнате воцарилось молчание, лишь тихо лилась песня, да звякнул колпачок откупоренной Элен бутылки. Она снова взялась за карты.
– Да-а, – протянул я, не зная, что сказать.
– Как настроение после Перл-Харбор?
– Хотел бросить учебу.
– Тяжелые времена, – покачал головой Мануэль. – Держу пари, не раз с тех пор слезами умывался?
– Случалось, – признался я. – А ты – нет?
– За эти шестнадцать лет, Бен, я все слезы выплакал.
Стены в комнате были голые, если не считать маленькой акварели в рамке, изображавшей вид Венеции.
– Не моя. – Мануэль ткнул стаканом в сторону картины. – Висела здесь, когда я поселился в этой клетушке. Смешно сказать, сначала всюду таскал за собой в бумажнике фотографии отца, матери, брата Берто. Потом увеличил их, окантовал по моде, выставил на комод. Бывало, заскучаю по дому и гляжу, гляжу на них. Черт подери, если б я заклинился на этом, наверняка рехнулся бы.
Теперь на комоде стояла фотография Мануэля, обнимавшего полнотелую американскую девицу в купальном костюме.
– Ты когда писал домой в последний раз? – спросил я.
– Дай подумать... Лет пять тому назад. Да, примерно так.
– Помню. Вдруг ни с того ни с сего наши потеряли с тобой всякую связь. Почему ты бросил им писать?
– Да как тебе сказать... Пропала охота, писать-то не о чем. Что, удивляешься?
– Нет, – выдавил я из себя. Я не сказал: Мануэль, я был возле твоей умирающей матери. Ей выпала тяжелая смерть. Рак. Люди говорят – из-за тебя. Все крепилась, хотела повидать сыночка, прежде чем умрет. А перед отъездом из Манилы навестил Берто в санатории. Ходячий скелет. Съезди, говорит, за меня к брату, передай привет.
– Что с тобой? – насторожился Мануэль.
– Ничего, – буркнул я, вытирая лицо. – Душно здесь.
– Мне, наверно, следует поинтересоваться, как там отец, мать, Берто, – Мануэль будто не слышал моих слов. – Что, плохие новости? Выкладывай, Бен, я все выдержу, можешь не сомневаться. Положим, они все умерли – что поделаешь? Положим, еще живы – какая разница? Говорят, в тех краях сейчас лучше быть мертвым, чем живым. – Мануэль смолк, будто его враз одолела усталость, потом добавил: – Угощайся, попробуй пива, братишка, оно тебе не повредит.
И выведет пастух овечек в поле,
И расцветет долина по весне, —
тихо и проникновенно пел певец по радио.
– Да, кстати, – встрепенулся Мануэль, – в одном из последних писем они сообщали про страшный ураган.
– Это было давно, пять-шесть лет тому назад. Ужасный был ураган. Смел целый город. Потом – наводнение. Песку нанесло на рисовые поля – пропасть! Много домов пострадало, но ваш устоял.
Мануэль оживился, просветлел лицом.
– Добрый старый дом! – Мануэль одобрительно взмахнул рукой. – Здоровенные сваи, толстые прочные стены из дерева. Этот дом – вечный, ясное дело. Ты знаешь, сколько он уже стоит? Лет сто, я не шучу. Сколько там людей жило-пережило, сколько умерло! Глядишь, в добром старом доме скоро останутся только призраки. Но моего среди них не будет, нет, сэр, – покачал головой Мануэль.
И тут я заметил форму посыльного, висевшую возле туалета.
Мануэль перехватил мой взгляд и рассмеялся.
– Призрак в форменной одежде посыльного – ну и потеха!
Он хотел выпить пива, но пива в холодильнике не оказалось. Мануэль чертыхнулся. Содовая вода в моем стакане нагрелась, дышать в комнате было нечем.
– Да, да, – бормотал Мануэль, глядя на пустой стакан. – Дом что надо, первостатейный дом. Покрепче церкви будет. А ты знаешь, наш прадедушка был очень богат, вот и построил дом дороже церкви, но...
– С церкви ураганом снесло крышу, – вспомнил я.
– Да ну! Подумать только! Досталось, наверно, старому падре. А помнишь, мы прислуживали ему по воскресеньям?
Я улыбнулся, представив, как это было. Кузен вдруг расхохотался, да так громко, что девушка удивленно взглянула на него.
– Если б старик знал, что я всегда ухитрялся до него причаститься, – заливался Мануэль. – Может, благодаря ему я и стал таким докой по части выпивки!
Девушка, наклонившись, протянула руку к приемнику, и смех моего нечестивого кузена заглушила песня и аплодисменты публики из техасской глубинки. Мануэль принялся отбивать ногой ритм.
На полу валялась газета, я наклонился, пытаясь разобрать заголовок.
– Ты к каким частям приписан? – спросил Мануэль.
– У меня 11-А – отсрочка от призыва по броне. Получил как учащийся. А ты?
– Я – большая шишка. – Мануэль отвесил мне церемонный поклон, словно придворный кавалер – знатной даме. – Президент Соединенных Штатов Америки приветствует Мануэля Буэнависту! – И, распрямившись, добавил серьезно: – Меня, понимаешь, вот-вот призовут.
– Ну и как ты?
– Я? Готов. Готов умереть за свою страну! – воскликнул Мануэль, пародируя уличного оратора.
– Он спятил, – подала голос Элен.
– Заткнись! Я иду умирать за родину! – торжественно произнес Мануэль и закатил паузу, точно актер, позабывший текст. – Вот дьявол, где же моя родина? Помнишь, мы, бывало, пели в школе... – И он запел:
Тебя пою, моя страна,
Любимая страна Свободы!
– Ну и псих,– усмехнулась Элен.– Это ж про Америку!
– Так какую же мы пели песню? «Букет роз»?.. Да, парень, какие песни мы пели в школе! Теперь уж ничего похожего не услышишь. Наша школьная программа...
В комнате по-прежнему стояла невыносимая духота, но воспоминания Мануэля захватили и меня. Мануэль единственный из всех ребят в нашем городке играл на скрипке. Еще бахвалился, что станет великим скрипачом.
– Ты ведь взял с собой скрипку, Мануэль, – вдруг вспомнил я.
– Взять-то взял, а что толку? Живешь, как мышь, бегаешь из одной норы в другую, вроде этой жалкой клетушки. Только подумаешь: «Ну, уж здесь-то я поиграю», – соседи поднимают шум, стучат в двери, ругаются... Тебе бы это понравилось?
– Может, ты скрипач никудышный? – съехидничала Элен, не повернув головы; она все еще играла сама с собой в карты.
– С чего ты взяла? Спроси Бена. Бен, что скажешь?.. А даже если никудышный – ну и что? Все дело в том, что я хотел играть, и мне негде было играть. Зачастую не было и времени. Вот ведь как: ни места, ни времени. Вкалывал по сменам – целый день и полночи, или всю ночь и до полудня. Случалось, и крыши над головой не имел. Уснешь, бывало, в метро, полицейский увидит футляр от скрипки, вскинет насмешливо брови: «Виртуоз?» – Господи, ну и черные были денечки!
Тьма сгустилась, я уже не видел из окна стен, ограждавших внутренний двор с выгоревшей травой. При электрическом свете Мануэль казался старше.
– Но теперь ты можешь... – начал было я.
– Теперь это ни к чему, – прервал меня Мануэль. – Глянь-ка на мои руки.
Руки были морщинистые, как пожухлая трава. Мануэль прав: это не руки скрипача.
– Теперь понимаешь? – спросил он.
И я смутно вспомнил его письма. Из Калифорнии, где он работал в поле, рубил лес; из Фресно, Сакраменто, Аляски, Чикаго, Нью-Йорка, где брался за любую работу.
Мне хотелось пить, в горле пересохло, но вместо того, чтоб попросить воды, я пробормотал:
– Пойду, пожалуй.
Мануэль ничего не ответил, только посмотрел на меня долгим взглядом и проводил до двери.
– Прощай, – сказал я.
– Заезжай как-нибудь, Бен, до того, как я отправлюсь умирать за родину, – молвил Мануэль, и вид при этом у него был очень усталый.
Мануэль достал пачку сигарет из кармана рубашки, и я снова увидел его руки – морщинистые руки, отжившие свой век, у человека с молодым лицом. Он протянул мне пачку и сказал нараспев, обдав меня запахом пива:
– Угощайся!
– Спасибо, я не курю, – ответил я и перевел взгляд на девушку, игравшую в карты.
Когда я вернулся в свой номер, у меня было такое чувство, будто умер кто-то из близких, и в темноте мне особенно тоскливо без него. Я подошел к окну. Высоко в небе над городом гудел самолет. Белая женщина – та, что я приметил в день приезда, – стояла на коленях возле кровати. Она молилась. На стене висело не распятие, а цветная фотография отеля «Уолдорф-Астория».
ХЕНОБЕБА Д. ЭДРОСА-МАТУТЕ
Хенобеба Д. Эдроса-Матуте (род. в 1915 г.) – тагалоязычная писательница и педагог, лауреат многочисленных национальных премий в области литературы. Окончила Университет Св. Фомы в Маниле, преподавала в школе. Профессор, заведующая кафедрой филиппинского языка и литературы Филиппинского педагогического института, автор многих учебников, учебных пособий и хрестоматий, широко известных в стране.
X. Эдроса-Матуте принадлежат многочисленные рассказы о детях и для детей, новеллы на морально-этические темы. Ее избранные рассказы и очерки собраны в книге «Я – голос» (1952). Писательница – также автор социально-бытовых романов «Восьми лет от роду», «И наступила ночь» и других.
X. Эдроса-Матуте – активная участница движения за развитие и обновление современного тагальского языка, за сохранение национальной культуры Филиппин. Она – автор ряда книг, монографий и многочисленных статей о филиппинской культуре и литературе, о тагальском языке.

ХОЛОДНЫЕ СУМЕРКИ
Впервые она услышала об этом от Лидии.
– Ба, – спрашивала Лидия, сидя у нее на коленях и обнимая за шею ручонками, – ты, правда, уезжаешь от нас, ба?
– Уезжаю? Да где мне! – усмехнулась она. – Проклятый ревматизм и ходить-то не дает. Разве я могу куда-нибудь уехать?
– Вот здорово! Здорово! – радостно закричала девочка и, отпустив бабушкину шею, в восторге громко захлопала в ладоши. – Вот, что я говорила, ты никогда не поедешь к этой противной Одете!
Бабушка тихонько смеялась, обнажая беззубые десны, и, казалось, смех уносил куда-то все ее горькие мысли. Она щурилась, подслеповато вглядываясь в милое личико внучки. Всегда эта глупышка болтает невесть что.
– И откуда ты все это взяла? Что я поеду к Одете? Я даже не знаю, где они теперь живут. Я была у них раза два, да и то, бог знает, когда.
Но Лидия уже больше не слушала ее. Она соскочила с
бабушкиных колен и бросилась из комнаты, едва заслышав скрип двери: это пришла ее мамочка.
– Ли-и-дия, – позвала Кармен своим мелодичным, нежным голосом. Бабушка никогда не слышала, чтобы невестка говорила резко, с раздражением. Только спокойно, всегда спокойно. Недаром она воспитывалась в монастыре. От нее не услышишь ни одного резкого или грубого слова, ни одного. Она говорила спокойно, только спокойно.
Лидия побежала на кухню. За ней шла Кармен. Со своего кресла на колесиках бабушка видела, как Кармен старательно намыливает дочке руки. Когда-то и она, бабушка, так же учила умываться своего старшего сына, ее отца.
– Мама, – тихо позвал ее старший сын Рамон. – Вы знаете, Рэй просит вас погостить у них: его дочка Одета спит и видит, чтобы бабушка была с ними. Я думаю, что вы не будете против, – продолжал он, – ведь вы совсем не знакомы с детьми своего младшего сына, вашими внуками. – Рамон деланно засмеялся. – Я сказал ему, что ни Кармен, ни я не позволим забрать вас насовсем, но...
– А мне не хочется туда, Рамон. Это, наверное, моя невестка, жена Рэя, говорит, что я даже не знаю своих внучат?
– Но, мама, – попытался исправить положение Рамон, – Рэй ведь может обидеться. Мы с Кармен согласны только, чтобы вы побыли у них во время каникул...
Глаза Рамона беспокойно бегали. Ему очень не хотелось встречаться взглядом со старой матерью, он старательно избегал глядеть на ее изборожденное морщинами лицо, в эти глаза, блеклые, бесцветные, так внимательно и напряженно смотревшие на него.
Провести каникулы, побыть... в доме младшего сына? В голове старой женщины медленно, лениво повторялись слова, только что произнесенные старшим сыном, Рамоном, ее первенцем. Костлявые пальцы осторожно поглаживали посеребренные волосы. О чем он говорит? Что это значит: побыть на каникулах? С кем? С Рэем? А где мой младший сын живет теперь? Как зовут ту девушку, на которой он женился? Одета, должно быть, моя внучка, его дочка, дочка моего младшего... Я даже не помню ее лица... Вот Лидия – это другое дело. Лидию я знаю. Это младшая дочка моего старшего сына. И мать у нее хорошенькая. И так чисто моет ей ручки... Но почему? Ведь дети могут навещать меня, а? Эх, как давно умер их отец...
– Мама, вы меня слышите? – Голос Рамона будто откуда-то издали донесся до нее, ворвавшись в поток беспорядочных мыслей, нахлынувших на старую женщину. Тысячи тревожных дум, сомнений, посещавших ее и раньше, вдруг всплыли разом откуда-то из глубины... Когда она была еще совсем молодой...
– Простите, если я поторопился и решил за вас. Пожалуйста, не принимайте все так близко к сердцу... У вас ведь действительно двое сыновей, что там ни говори...
Она почувствовала, как тяжелые, сильные руки легли на ее плечи.
– Кармен и я поразмыслили, мама, и решили, что надо уважить просьбу Рэя.
Теперь ей многое стало понятней. Так, значит, я поеду к Рэю на каникулы, ты сказал? Ее выцветшие потухшие глаза искали лицо, которое только что было перед ней, но она уже осталась одна. Старая женщина подкатила кресло к двери, ухватилась за круглую ручку. Однако дверь не поддавалась: она была плотно прикрыта.
Из-за закрытой двери до нее доносился голос Рамона, возбужденный, громкий. Но кроме отдельных слов она ничего не могла разобрать: толстая дверь заглушала разговор. Голос Кармен вообще еле слышался, тихий, спокойный. Как всегда, спокойный. Это спокойствие проникало даже сквозь плотно затворенную дверь.
Гул голосов убаюкивал старую женщину, ее клонило ко сну. Отчего теперь так часто хочется спать, даже днем? На память снова и снова приходили слова Рамона, и ей все яснее становился их подлинный смысл. Так вот о чем болтала Лидия, да и другие дети тоже. Вот на что намекала, стало быть, и служанка... А Кармен давно уже не находила нужным даже разговаривать с ней.
Воспоминания, самые разные, настойчиво преследовали ее. На душе становилось тревожно. И как старая женщина ни старалась отделаться от этих воспоминаний, они не оставляли ее.
– Да, у нас двое сыновей, что там ни говори. – Ее собственный голос доносился до нее, словно сквозь годы, возвращая в мир молодости. И сразу на сердце потеплело, стало спокойней. – Оба учились в колледже. Сильные, крепкие были ребята. Все у них ладилось... Мы вместе объездили всю страну: были даже на острове Минданао, ездили в Илокос, чтобы показать им наш родной город, прежде чем умрем.
Делали для них, что могли; впрочем, я сама любила путешествовать. И были нужны им... Нет, нельзя было всем жертвовать ради них. Отрывать от себя последние жалкие крохи: они сделались эгоистами... – Мягкий, нежный голос заглушил другой, в котором слышались обида и горечь. Старая женщина попыталась прогнать эти чувства воспоминаниями о том хорошем, что было в ее жизни. – Да, полно, разве мои сыновья выросли эгоистами? Нет, это не так. Никто не знает их лучше, чем я.
Рамон был наш первенец. Большая часть наших накоплений пошла на устройство его конторы: он ведь стал адвокатом. Отличная репутация, респектабельность – вот что привлекает приличных клиентов; он умеет деликатно вести деликатные дела добропорядочных людей. Это принесло ему успех и хорошенькую жену Кармен, воспитывавшуюся в монастыре... Вторым был Рэй. Оставшиеся деньги ушли на то, чтобы он тоже вышел в люди, был принят в обществе. Это помогло ему найти богатую невесту с Юга.
Ей почему-то вспомнилось утро после ее свадьбы, тишина, окутавшая все вокруг... И эти воспоминания успокаивали, убаюкивали ее, отодвигая – пусть на время – куда-то в сторону те неприятности, которые вдруг выпали ей в эти холодные, унылые сумерки жизни.
– Ну что вы плачете, мама? – Снова появился Рамон. – Вы останетесь с нами. Кармен, по-моему, так хорошо к вам относится. А вот и внучата бегут...
– Внучата?.. – В комнату с пронзительным криком вбежали дети и подняли беспорядочную возню. Сразу стало шумно. – Что? Что это такое? – Встрепенулась бабушка и сдвинула с места свое кресло, как будто пытаясь стряхнуть с себя сон. Она действительно спала? Или только задумалась?
Тинай, молоденькая служанка, подошла к ней с ложкой микстуры в одной руке и стаканом воды – в другой.
– Бабушка, вам надо принять лекарство... Это чтобы кожа не сохла. – Она поднесла полную ложку ко рту старушки. – Глотайте быстренько, а то оно горькое, и сразу запейте водичкой. Вот так. – Тинай задержала взгляд на желтых шелушащихся руках старой женщины. «О, господи, неужто и у меня будут такие руки, когда я стану старой?» Девушка улыбнулась своей подопечной и, прежде чем уйти, наклонилась к самому ее уху.








