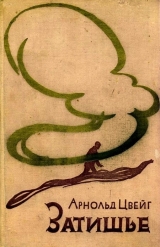
Текст книги "Затишье"
Автор книги: Арнольд Цвейг
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 29 страниц)
– Человеческая память – страшный дар. Полтора года прошло с тех пор, каждый день перенасыщен событиями, но, когда я закрываю глаза, я опять лежу на южном склоне холма, среди деревьев Фосского леса, которые на днях прикроют собой новую батарею, ноги мои свешиваются с сухого, осыпающегося края воронки, под головой круглая фронтовая бескозырка, я слышу треск выстрелов, часто-часто строчит пулемет, правая рука перебирает теплую землю, столь дорогую сердцу воина. Ведь земля везде – подлинная родина солдата. Точно она, земля, не кишит бациллами столбняка, которые так и ждут случая, чтобы погубить человека, если только своевременно ему не загонят в грудь тупую иглу шприца.
Мы только что основательно позавтракали – рабочий газового завода Халецинский, молодой инструментальщик Хольцер и ваш покорный слуга. У меня была колбаса, которую дала мне с собой теща, сегодня мы как раз доконали эту колбаску; с черным хлебом это превосходная еда. И полежать спокойно – тоже большое удовольствие. Поворачиваюсь на бок и вижу: из-под куста малины смотрит жирная серая кошка, взгляд ее бутылочно-зеленых глаз прикован к моей левой руке.
– Видно, хвостик колбасы привлекает ее больше, чем крысиный окорок, которым она без труда может разжиться на нашей ферме, – слышу я чей-то голос; он мне знаком.
Я приподнимаюсь. Баварец, унтер-офицер, совсем еще мальчик, садится на землю и опускает в воронку ноги в серо-зеленых обмотках.
– Это кошка нашей батареи, я не упомню, с каких пор она живет у нас, вероятно, это коренная жительница фермы Шамбретт. Она не обращает на нас никакого внимания. Мне любопытно, когда ее настигнет судьбина.
– Рано или поздно это случится, – говорит Хольцер, посасывая трубку. – И тогда – в котел ее, вот наилучшее решение.
Все мы следим за кошкой, а она, ни на что не глядя, очень осторожно крадется к моей вытянутой руке, наконец медленно выпускает когти и удирает, зажав в мелких зубах хвостик колбасы. Ее серая полосатая шерсть всклокочена, и кажется, что она постепенно вновь превращается в праматерь нашей домашней кошки, жившую в лесах и прыгавшую по деревьям.
Солдат может заснуть во всякое время – уж кто-кто, а я на этот счет мог бы кое-что порассказать. Хольцер и Халецинский давно уже храпели, а я вдруг почувствовал необычайную бодрость. Иной раз вечером, когда я накурюсь и потом не могу заснуть, я вижу перед собой юного Кройзинга, вижу, понимаете ли, блестящий козырек его фуражки, а под ним устремленные на меня глаза, в которых притаилось выражение полной безнадежности: и я спрашиваю себя, кольнуло ли меня предчувствие в ту минуту, когда мы сидели друг против друга, а где-то позади высот 300 и 378 грохотали, словно оттеняя тишину, металлические удары орудийных залпов. В конце концов встреча с юным баварцем передвинула мои мысли на другой путь, и стрелка соответственно повернулась – вы понимаете, о чем я говорю. Предчувствие? Это, пожалуй, сказано слишком сильно. Но мне вдруг показалось, что в воздухе повеяло чем-то грозным и значительным. Однако по моей добродушной наивности, точнее глупости, я хоть и ощутил это, а объяснить не смог. Позднее, всего несколько дней спустя, я, разумеется, во всем разобрался. В ту минуту я лишь напряг до предела слух своего сердца и услышал: отчаянье. Да, в глазах его горело отчаянье, жгучее, сверлящее.
С тех пор как я призван, а этому уже добрых двадцать восемь месяцев, не считая Кюстринских, я не сделал и строчки записей, не вел никаких дневников, во-первых, инстинктивно, во-вторых, потому что для меня в этом нет нужды. Часть моего дарования – моя чудовищная память. Я мог бы, если б захотел, описать ласочку, которая на дороге в Куманево, южнее Враны, иной раз по утрам прыгала вокруг скелета лошади, мог бы нарисовать коршунов в небе – три парящие точки в весеннем сербском небе. Мне действительно нет надобности что-либо записывать. Не знаю, долго ли я проживу, ведь всем нам, если только не наступит внезапный конец, до финиша еще далеко. Но, если только я переживу эту мерзость, называемую войной, годы, сколько бы их ни последовало, не смогут стереть воспоминания о тех минутах.
Хольцер и Халецинский храпели – один тихо и ровно, другой прерывисто. Смешно, на сколько разных ладов посвистывают люди во сне.
Мой визави и я долго молчим, покуривая и поглядывая друг на друга. Наконец он спрашивает, как я попал сюда.
– Служба, – отвечаю я с некоторым удивлением. – Приказ, как всякий приказ.
– Для того чтобы вас фотографировали? – говорит он спокойно и улыбается.
«Ага, – думаю я и тоже улыбаюсь. – Парень, видно, разбирается кое в чем».
– Не пересесть ли нам чуть подальше? – предлагает он.
Ноги у меня горят, но я, само собой, встаю, мы карабкаемся вверх, непроизвольно держась тени, и, свернув за угол, скрываемся в горной складке. Усаживаемся рядом на гладком сером стволе поверженного бука, его разветвленные зонтиком корни поднимаются, как стена или как прикрытие.
Когда я думаю обо всей этой истории нынче, сидя здесь, она представляется мне гораздо более удивительной, чем в ту минуту. Унтер-офицер, видите ли, мне не товарищ, это совершенно другая разновидность человеческой породы. Верно ведь? Он – человек, прошедший школу обращения с оружием, – я не обучен этому; перед ним открыта возможность подниматься по лестнице воинских чинов и званий – я рядовой, без каких-либо перспектив, даже если война продлится до второго пришествия; унтер-офицер властен приказывать и несет ответственность, я обязан молчать и повиноваться. А тут, понимаете, он вдруг представляется мне!
Зовут его Кристоф Кройзинг, сказал он. В 1914 году он добровольцем вступил в армию и, несомненно, на много лет моложе меня. Наш брат разучился интересоваться разницей в летах, но он воспользовался ею для того, чтобы, перешагнув через пропасть военного чинопочитания, подчеркнуть мне свое уважение, сделать приятное. Все это мелочи, но забыть их нельзя. Я назвал себя, и мы крепко пожали друг другу руки. Кройзинг выразил уверенность, что я получил гуманитарное образование. Он тоже. Не успел он закончить третий семестр, как началась война. После второго ранения его зачислили в пехоту, в нестроевую часть, так как здесь ощущается большая нужда в унтер-офицерах, и опять послали на передовые. Предполагалось, что осенью его отчислят на курсы по подготовке лейтенантов – это было уже решено и подписано, но вторглось одно пустячное обстоятельство, и он очутился здесь, в подвале фермы Шамбретт, чтобы как можно скорее отправиться к праотцам, если только все пойдет так, как замыслило его ротное начальство.
В ту пору, повторяю, я был еще очень наивен. И все-таки, говорит ли человек правду, я определял безошибочно. Сидевший рядом юноша говорил правду просто, без громких слов, голосом, в котором звучала безнадежность. Он даже улыбался, глядя куда-то мимо, в пространство, но в глазах у него была мольба о помощи. Я ничего не ответил. Да и что я мог сказать? Что хочу помочь ему? Но ведь это само собой разумелось, я помог бы ему так же, как разделил бы с ним воду, если бы он страдал от жажды. Он сказал, что удивляется, как это он не сошел с ума, утратив всякую надежду на помощь. Идти на передний край он не хотел, не видел в этом ни смысла, ни цели, а путь к тем людям, которые могли бы выручить его и выручили бы немедленно, преграждает ротное начальство, которое держит в своих руках все нити, связывающие его с родиной. А что он сделал? Он только не мог видеть, как грабят бедных, не мог стерпеть несправедливости.
Кройзинг родился в семье чиновника. Много поколений в его роду служило баварскому государству, неподкупно охраняя в нем порядок. Он обязан поступать, как они, он не имеет права действовать иначе. Поэтому он послал своему дяде негодующее письмо. Он написал в нем, что унтер-офицеры жиреют и благоденствуют, расхищая запасы, предназначенные для рядовых, а люди, тяжело работающие, не получают положенной нормы хлеба, пива, жиров и в особенности мяса. Даже деньги, отпускаемые на буфет, становятся предметом темных махинаций. Вмешаться самому и навести порядок? Он пытался. Но он всего лишь унтер-офицер. Что же он мог сделать, один против всех? Против старых лисиц, не желающих считаться ни с чем, кроме своей собственной выгоды? Так жили они до войны, так действуют и теперь, и, получив власть, они злоупотребляют ею. Но самое скверное, что ротные офицеры не хотят ничего знать об этом. Маленькие благодушные чиновники, они больше всего берегут свой покой и изо всех сил прикидываются глухими и слепыми.
Вот все это он, Кристоф Кройзинг, написал своему дяде в Мец, крупному чиновнику, начальнику военной железной дороги № 5, да еще был таким дураком, что послал письмо по прямому адресу. Естественно, ротная цензура заинтересовалась, на кого и на что вздумал жаловаться начальнику военной железной дороги какой-то унтер-офицеришко. Целыми днями носился он потом по окрестностям с единственным желанием разбить себе голову о ближайший столб, так он был зол на себя за свою идиотскую оплошность. Конечно, цензура письмо не пропустила, и оно не было доставлено по адресу. Его вернули в канцелярию роты с приказом предать Кройзинга военному суду и начать против него следствие.

– Ну, – сказал он с коротким смешком, – судебного следствия я меньше всего боялся, да и не допустит его начальство. Вот и загнали меня сюда, на передний край. В каждом рапорте канцелярия и господин казнокрад – простите, господин капитан Нигл – надеются прочесть, что Кройзинг наконец-то переселился в лучший мир. Пока я им такого удовольствия не доставил. А теперь, если только вы согласитесь помочь… О, мне кажется, что я уже вижу на горизонте землю.
Он говорил быстро, взволнованно, как человек, который вынужден был долго молчать. Это лицо с небольшим ртом, узким подбородком и широким спокойным лбом, эти каштановые, даже причесанные на пробор волосы – он снял фуражку, чтобы вытереть взмокший лоб, – это выражение доверия, надежды в глазах! Да, конечно, я помогу ему. Пусть только скажет, как это сделать.
О, чрезвычайно просто. Его письма изучают строчка за строчкой в интересах обороны, ведь он опять может выдать какие-нибудь «военные тайны». Поэтому я почти наверняка спасу ему жизнь, если завтра или послезавтра вернусь на это же место и возьму у него письмо, которое он напишет матери. Он просит меня, когда я буду писать домой, вложить его письмо в свое, и мои родные переправят его по указанному адресу. А тогда его дядя поднимет шум, прежде всего вызволит его отсюда, и показания его будут наконец запротоколированы. Уж если начальник военной железной дороги № 5 встрянет в это дело, военный суд дивизии, разумеется, немедленно допросит унтер-офицера Кройзинга.
– Какая мирная картина! – сказал он, обводя рукой горизонт. – Но, насколько она коварна, вы сами убедились, а нам приходится убеждаться в этом трижды на день.
Я поглядел на бурую мертвую землю этого растерзанного края, этой лощины, сливающейся на горизонте с бледно-голубым небом, на деревья, сплошь изувеченные ужасными стальными осколками, по которым мы ступали. Они то переливались на солнце, как безобидные льдинки, то казались адским орудием пытки, карикатурным подобием чудовищных ножей, пил, зубцов, подпилков.
Я сказал, что не знаю, в какой день мы вернемся сюда, это зависит от поступления платформ. Вероятно, завтра или послезавтра. Во всяком случае, он хорошо сделает, если напишет письмо сегодня же. В нашей роте привыкли через день штемпелевать письма с адресом моей жены. Еще не было случая, чтобы мое письмо к жене задержали или вскрыли. Наш план непременно удастся.
– Чудесно! – воскликнул он и надел фуражку. – Огромное вам спасибо! – Он глубоко вздохнул, заглянул мне в глаза и крепко пожал руку своей юной, узкой и твердой лапой. Если он и совершеннолетний, подумал я, то, несомненно, лишь с очень недавнего времени. Он продолжал с наслаждением вдыхать воздух, держа голову куда выше, чем прежде.
Но, видите ли… В те минуты, когда мы, ощущая нашу товарищескую близость, бродили среди воронок и изувеченных деревьев, мы еще не сознавали своего положения. А с нами произошло самое худшее, что может случиться с человеком: из нашего класса нас вытолкнуло, а к другому не прибило. Мы были рабами, что определяло все наше существование. Но мы этого отнюдь не понимали, а только глухо чувствовали. Жили еще умонастроениями юношей девятьсот тринадцатого года, а нам пришлось столкнуться с нравами и обычаями феодального общества пятьсот тринадцатого года. Война, призыв в армию отбросили нас в средневековье, но мы не отдавали себе в этом отчета. Такой парень, как инструментальщик Хольцер, понимал свое положение. У него от рождения было перед нами преимущество. Уже от отца и от рабочей окраины, где он вырос в каком-нибудь Лихтенберге или Веддинге, он получил необходимую в жизни хватку. Он был пролетарием, и этим все сказано. Хольцер вынужден был кулаками пробивать себе дорогу вперед, всячески изворачиваться во враждебном ему мире. А мы, Кройзинг и я, – мы были детьми привилегированного класса, но, как только мы сменили гражданский пиджак на военный мундир, все привилегии для нас кончились. И то обстоятельство, что мы этого не подозревали, определяло наше настоящее и будущее с такой же неотвратимостью, как сила тяжести определила падение вот этого каштана, который я с месяц назад подобрал в парке.
Он положил блестящий плод на ладонь и повернул руку – каштан упал, подпрыгнул и оказался около фельдфебеля Понта, который носком сапога загнал его под шкаф.
– По всему полю из уст в уста передавалась команда: «Становись!» Унтер-офицер Бэнне ни в коем случае не хотел упустить благоприятного момента для возвращения в лагерь. Бэнне был отцом четверых детей, и, как ни мало он тосковал по Глинскому, он все же предпочитал видеть себя вместе с нами в Кухонном ущелье, недосягаемом для залпов из невидимых жестоких орудий, находящихся, быть может, по ту сторону Мааса, на Маррском хребте или где-то там еще.
Обер-лейтенант Винфрид кивнул, наклонился над картой и, водя карандашом, стал что-то искать на ней.
– Получено, видно, сообщение из лагеря, что сегодня больше платформ не поступит, да и завтра их нельзя доставить, а послезавтра мы вернемся сюда, – объявляет Бэнне железнодорожникам и саперам, и те с таким же удовольствием, как он, готовятся в обратный путь.
Было, вероятно, часа два. Над склонами повисла легкая дымка, ухудшившая видимость. Летчик, который вот уже несколько минут кружит над нами с таким тихим жужжанием, что мы, новички в этой зоне, гадали, наш ли это самолет или французский, улетел прочь, преследуемый белыми разрывами шрапнелей и черным облаком зажигательной бомбы. А может, летчик уже разглядел то, что ему было нужно, и теперь возвращался восвояси?
Наша колонна снова поднимается по полотну железной дороги; высота 379 остается у нас в тылу, а ферма Шамбретт – на склоне по правую руку. Унтер-офицер Кройзинг прощается с Бэнне, кричит и нам: «До свидания, солдаты!» – Глаза его останавливаются на мне, и я читаю в них благодарность и жаркую просьбу. В его улыбке, в его юношеском смехе – тепло мгновенно зародившейся дружбы.
– До послезавтра! – еще раз бросает он, оглянувшись, и взбегает вверх по склону, широкоплечий, весело размахивая длинными руками.
На душе у меня с этой минуты посветлело. Все в мире казалось легким и возможным. В голову приходили удивительные идеи. Так, например, после обеда и сна я без разрешения Глинского, не заботясь о его авторитете, спустился вместе со взводом Бэнне к ручью, протекавшему по ту сторону шоссе и железной дороги, искупаться и повоевать со вшами. Наш взводный, сержант Швердтлейн, бывший на лучшем счету у начальства, наблюдал за командой «трудообязанных», грузившей жизнеопасные снаряды для полевых орудий. Его так часто, вне всякой очередности посылали на это задание, что он не располагал свободным временем, не то что наш добрый старый Бэнне. Зато Швердтлейн никогда не испытывал потребности выходить за ограду из колючей проволоки, и нам, его подначальным, приходилось самим заботиться о поддержании своей чистоплотности и работоспособности. Вот сегодня я и позаботился об этом.
Лежа в мелком прозрачном ручье, который бежал, извиваясь по лугу среди плоских берегов, я, не то плывя, не то отдаваясь течению, смотрел сквозь узкие листочки ив, сквозь серебристую листву тополей и сверкающую зелень молодых ясеней на удивительное, зеленовато-синее небо Франции, боготворимое лучшими пейзажистами Европы. И я впервые почувствовал, что я и в самом деле здесь, в стране, о которой мечтал и на разгром которой пошел добровольцем два года назад. О боже, два года! Я почти ничего не увидел за это время и не узнал, но как я состарился! От мироощущения доверчивого и благожелательного жеребенка я незаметно перешел к самочувствию заезженной рабочей клячи, которая время от времени вспоминает, что, в сущности, она скаковая лошадь и в этой роли была бы больше на месте. Течение несло меня; потом я лежал голышом на траве – ведь во время войны купальный костюм – это музейный экспонат – и, энергично давя вшей, учинил разгром всему их роду, гнездившемуся в швах моей рубашки. Благодатные часы летнего дня! Все, кто были в команде Бэнне, выражали желание послезавтра снова отправиться с ним на передний край: за несколько таких свободных послеобеденных часов каждый готов был понюхать порох. Мысленно я все время возвращался к Кристофу Кройзингу, юному загорелому баварцу. «У него сегодня так же хорошо на душе, как у меня, – думал я. – Сидит и пишет матери длинное письмо, и оно уже не дышит отчаянием, как прежние, наоборот, оно полно бодрости, в нем даже проскальзывают шутливые нотки. Мы никогда больше не потеряем друг друга из виду. Теперь он научит меня, как бороться с произволом унтер-офицеров и других негодяев из числа ротного начальства, делая все по форме и не попадая впросак. Ибо в нашем обществе нарушение формы чревато роковыми последствиями. Если вы соблюдаете правила игры и вовремя отвешиваете низкий поклон, вы можете грабить младенцев, шантажировать женщин, ссылать на каторгу стариков. Если же вы нарушите правила и поведете себя независимо, вы тотчас же сорветесь с каната и сами станете объектом шантажа».
Еще до ужина я успел рассказать в письме к жене, которая называлась так всего две недели – надписывая адрес, я то и дело ошибался, – какую увлекательную прогулку мы совершили. Об опасностях похода я, разумеется, умолчал. Прилагаемое письмо я просил ее опустить в наш голубой почтовый ящик. Нынче ночью, писал я ей, будут хорошо спать два друга, которые до сих пор, быть может, не замечали, каким грузом ложится на их плечи давление окружающей атмосферы. Молодые образованные люди, любящие свою родину и верящие, что защищают ее, они были точно цепью прикованы к банде себялюбцев, занятых гнусной возней. Но теперь они узнали друг друга, и отныне они больше не одиноки.
Глава четвертая. Удар– На следующий день я энергично и тщательно снаряжал гильзы в зарядной палатке, болтал и слушал болтовню моих товарищей, был частицей нашей неутомимой фабрики боеприпасов. В этот день мы упаковали для батарей Шапитрского леса две тысячи свеженьких зарядов. Вероятно, вы помните, что это было время битвы на Сомме. Я знаю, где вы тогда находились. (Обер-лейтенант Винфрид рассмеялся и хлопнул себя по ляжкам.) В те дни у нас развертывалось наступление на Флери, и баварцы делали отчаянные усилия продвинуться вперед и перенести атаку с позиций на участке Во, до ужаса неблагоприятных; целыми днями гаубицы вели огонь через холмы. Волны штурма кипели, разбиваясь о металлический заслон, ночами на горизонте не затухало пламя раскаленного горна, окутанного черным дымом; то был Верден. На нашем участке, однако, по-прежнему царило затишье. Мы не покладая рук работали в центре, наступление же развивалось на обоих флангах – это вы тоже помните. Пока Маррский хребет не был в наших руках, все это, в сущности, оставалось кровавой комедией. Ну, а на Маррский хребет, на противоположный берег Мааса, нам никак не удавалось ступить. Между нами была высота 304, между нами была гора «Мертвый человек», надо было взять еще Кюмьер, а французы под командованием своего генерала Петена вгрызлись в эти земли, как проклятые. Форты Бель-эпин, Марр, Буррю и еще один, название которого я запамятовал, оставались неприступными, и нам нисколько не легче было оттого, что мы дрались с французами за такие же прекрасные места в Шапитрском лесу, под Таванном и на Фруад Терр. Ведь за этими горами вставали все новые, как рассказывали вчера рядовые на пункте Муарей нашим солдатам, подвозящим боеприпасы. Оттого-то батареи буквально пожирали снаряды. Ночью наших грузчиков дважды поднимали и дважды раздавалась команда: «Становись!» В первый раз прибыло тридцать вагонов со снарядами, с пороховыми ящиками и всем прочим, что полагается, во второй – двадцать шесть. Потребность нашего участка в боеприпасах на ближайшие сорок восемь часов была обеспечена.
– Дети мои, дети мои, – услышал я неподалеку от себя рассудительный голос наборщика Мартина Гретша, который забирался к себе на койку, – если нам придется оплатить все, что взлетает на воздух там, на переднем крае, то после заключения мира мы с вами позабудем вкус табака.
А его сосед Халецинский успокоил его и голосом, полным сдержанной иронии, сказал:
– Разве ты не знаешь, Мартин, что за все это заплатят наши враги, вот только дай нам победить. Ты почаще читай речи, что твои коллеги из «Крейццейтунг» так ретиво набирают.
Вслед за тем мы уснули, дыша зловонными, отравленными испарениями ста двадцати человек, в удушливой жаре, которая скопилась за день под черными крышами наших бараков.
На следующее утро я проснулся еще до сигнала «подъем», вылез из своей мышеловки, расположенной на высоте в полтора метра от пола, первым умылся и даже решил побриться, так как Бруно Науман был уже на посту; затем я вызвался пойти с дежурными за кофе и завтраком и вместе с шестьюдесятью солдатами, отлично выспавшийся, стал в строй перед бравым Бэнне, который сегодня, с особенной живостью размахивал костылем, на час раньше, чем в прошлый раз, скомандовал двинуться в поход.
– Нынче плевать нам на француза и его снаряды, соли на хвост он нам насыпет, вот и все, – пообещал он всем нам, а своему взводу в особенности, и подбодряюще поглядел в глаза трем своим солдатам. Дело в том, что позавчера, как только первый французский снаряд заставил нас поклониться до земли, эти трое заползли в самый дальний окоп Кухонного ущелья и до нашего возвращения преспокойно играли в скат. То были старые солдаты, еще из кюстринского состава: мирный крестьянин Франц Шульте, с перепугу выронивший трубку изо рта, батрак Питтерс и портовый рабочий по имени Матке, отличный плотник, прославившийся в Сербии своим мастерством. Унтер Бэнне, точно так же как мы все, заметил отсутствие названных трех героев, но промолчал. Мы тоже никому ни слова не сказали, зная, что, если бы до Пане фон Вране что-нибудь дошло, нашим трем молодцам пришлось бы солоно. Но безразлично отнестись к дезертирству этой троицы мы также не могли: ведь на каждого из нас легла доля труда, который должны были разделить с нами еще три пары рук и три пары плеч. Поэтому третьего дня мы с удовлетворением встретили приказ унтер-офицера Бэнне: пока мы будем купаться, три дезертира должны надраить наши котелки, чтобы к вечеру у всех нас была безукоризненно чистая посуда для чая. Вот как между мужчинами улаживаются подобные мелочи. А такая канцелярская душонка, как Глинский, непременно раздул бы эта дело и насладился медом власти.
И тут я, видите ли, получил возможность обрести новое доказательство истины, что наш мир – лучший из миров. Баварцы уже дожидались нас. Угрюмый ефрейтор сердито подгонял их поскорее кончить работу и уйти из этого трижды проклятого места. Я искал глазами Кройзинга. Наверное, думал я, он уже внизу, у второго орудия, с которым нам предстоит сегодня немало хлопот. Обе платформы стояли наготове под хорошим прикрытием на пункте Хундекейле. Мы подошли к нашему длинноствольному орудию. Разумеется, на том же самом месте, как раз там, где начинался спуск в долину, опять лежали новые рельсовые укладки и темнели свежие, только что образовавшиеся воронки, зловещие плоские воронки, окаймленные сверкающими осколками. Возле орудий мы увидели несколько артиллеристов с их унтер-офицерами. В этот день работы были распределены так, что баварцев я видел только издали – они укладывали путь; мы же разделились на два отряда: один разбирал орудие, а второй по возможности бесшумно спускал по рельсам платформы. Наконец авангард баварцев приблизился к нам настолько, что я мог, не привлекая к себе внимания, подойти к одному из них. (Надо вам знать, что у нас очень косились на солдат, которые во время работы вели посторонние разговоры. Унтер-офицер Бэнне и обер-фейерверкер Шмидт предпочитали давать более продолжительные перерывы на отдых.)
Я пожелал баварцу доброго утра. Он удивленно вытаращил на меня глаза, кивнул и ломом ударил по закаменелому кому глины, мешавшему уложить рельс. Я принялся помогать ему, саперной лопаткой выравнивая грунт на ближайших трех метрах, и, работая, спросил:
– А где ваш унтер-офицер Кройзинг?
Баварец подозрительно спросил, зачем это мне вдруг понадобился Кройзинг. Я выразил удивление: неужели человек обязательно должен зачем-то понадобиться, разве нельзя осведомиться о нем просто так, потому что он тебе понравился?
Баварец и на этот раз не ответил, и мне стало страшно. Я сказал, что в прошлый раз пообещал унтер-офицеру Кройзингу книгу для чтения и вот принес ее. При этом я похлопал по карману, и вынул из него томик Э. Т. А. Гофмана в дешевом издании. Я собирался спрятать в книжке письмо Кройзинга.
– Да, – сказал баварец и почему-то назвал меня «дорогой мой», – нашего унтер-офицера Кройзинга ты, к сожалению, увидеть не сможешь, и читать ему уже никогда больше не придется.
Меня, в сущности, удивляет, почему я с первого же слова все понял и, не сделав ни одного сколько-нибудь необычного жеста, сунул обратно в карман мою книжку в обложке телесного цвета и нагнулся, чтобы отколоть ком земли, который нам ничуть не мешал. – Он умер? – спросил я только. Мы подняли нашими ломами и кирками тучу пыли; вероятно, поэтому голос мой прозвучал несколько хрипло. Баварец сплюнул.
– Этого никто не знает, – сказал он. – Нашего унтер-офицера Кройзинга мы положили на платформу и отправили в лазарет. Говорят, его повезли в Билли. Его ранило вчера рано утром. Француз, понимаешь, вдребезги разнес рельсы на том месте, что всегда, никто на это уж и внимания не обращает. Но потом с одного из холмов спустились смененные пехотинцы, и Кройзинг побежал к ним навстречу. (Я знаю, его гнало радостное нетерпение, это было условленное место нашего свидания.) Смененных он и встретил, а среди них были лейтенант и младший врач. Те сложили на Хундекейле свою поклажу и приставили к ней вице-фельдфебеля, а сами уже собирались спуститься в долину, чтобы поскорее убраться подальше. Но тут унтер-офицер Кройзинг сказал, что у него есть для них кофе, и помчался во весь дух на ферму: он хотел согреть этот кофе. Но француз, видно, заприметил смену; он-то отлично знает все эти дороги, ну и пальнул раза два-три с дружеским приветом, чтобы немцы, дорогой мой, не скоро его забыли. И тут один сволочной осколок и хлестнул унтер-офицера Кройзинга в левое плечо, да так, что рука повисла на одних мускулах. Это рассказал нам младший врач, когда после обстрела мы выбежали узнать, что случилось. Мы и увидели: унтер-офицер Кройзинг лежит ничком, и кровь из него ручьем льется, и он очень громко кричит. Только скоро он потерял сознание. Младший врач впрыснул ему морфий и сделал перевязку, какую мог. Надо бы сердечные артерии перетянуть чем-нибудь, но врач самую малость опоздал – рана-то ведь какая! С тех пор мы ничего не слышали о нашем унтер-офицере Кройзинге, и, наверно, не так скоро удастся нам что-нибудь о нем услышать.
Я посмотрел вокруг себя. Над нами вздымался синий свод неба, совершенно безмятежный. На поле, похожем на чашу и словно испещренном оспинами, появилось несколько новых воронок, только и всего. Солдаты, двигаясь длинной редкой цепью, торопились, как третьего дня, к очередному орудию, установленному в глубине ложбины, вернее, широкого ущелья. Унтер-офицер Бэнне и обер-фейерверкер Шмидт выкрикивали слова команды, Бэнне даже с воодушевлением размахивал своим костылем. У баварцев был сегодня более подавленный вид, чем позавчера, более настороженный. Время от времени они нервно оглядывались, уже не доверяя этой мирной картине. Но это мог заметить только наш брат, солдат, у которого глаз наметан.
– Ты что, знавал нашего Кройзинга раньше? – Баварец поднял ко мне залитое потом лицо и, помолчав, задал свой вопрос вполголоса, почти вплотную придвинув губы к моему уху.
Я сказал, что познакомился с ним только позавчера, но сразу увидел, какой это славный малый, и что мне хотелось бы, чтобы в армии было побольше таких, как он, но, увы, я в это не верю.
– Да, – ответил баварец, торжественно глядя на меня своими голубыми глазами, резко выделявшимися на красном, воспаленном лице, – да, я понимаю тебя, мой дорогой. Такого унтер-офицера ты днем с огнем не сыщешь, и, знаешь ли, кое-кто со вчерашнего дня, после того как пал наш Кройзинг, заметно повеселел.
Словно испугавшись, что он сболтнул лишнее, баварец мой боязливо втянул голову в плечи, как черепаха, испуганная неожиданным прикосновением. Но я поднял руку.
– Знаю, – успокоил я его. – Он мне все подробно рассказал.
– Ты был его другом? – спросил он.
– Конечно, – ответил я, глубоко вздохнув.
– А я-то как его любил! – поддержал меня баварец.
Во время перерыва он подошел ко мне в сопровождении другого, очень худого солдата. В расстегнутых куртках, в лихо заломленных набекрень бескозырках они брели с беспечным видом и как бы случайно остановились возле меня. С таким же невинным видом мы отошли в тень и скрылись за стволом одного из тех могучих старых буков, которые, глубоко уйдя в землю корнями, выросли стройными и гладкими, точно колонны или башни, и гордо несли свои великолепные кроны. На этом чуть не трехметровом буке снарядом снесло верхушку и страшно расщепило ствол. «Лучше уж пусть тебя, чем какого-нибудь Кройзинга», – думал я, словно ненароком прижимаясь щекой к гладкой коре.
Мой новый знакомый сказал, что товарищ его – денщик унтер-офицера Кройзинга. Во время перевязки он помогал снимать с раненого мундир. Это были одни кровавые лоскутья. Из кармана что-то выпало – письмо, видно, и, если я хочу, он мне его передаст. Сам он, Ксаверль Шуллер, не может держать его у себя; если при ближайшем осмотре вещей Ксаверля обнаружат письмо, то это может показаться подозрительным. Не хочу ли я взять письмо себе на память?








