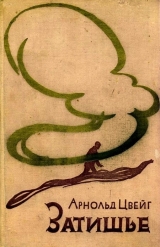
Текст книги "Затишье"
Автор книги: Арнольд Цвейг
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 29 страниц)

При этих словах член военного суда поднялся, походил по комнате и прислонился к двери.
– Вы находите эту иронию уместной, молодой человек? – спросил он. – К чему такие преувеличения? Ведь именно устройство человеческого общества и волнует вас. Именно поэтому мы вас слушаем. Вы хотели стать юристом и стали писателем. Вопросы права должны быть вам дороги; право вносит порядок во все наши дела, способствует разумному равновесию, смягчению произвола и насилия. Известно это вам или нет? – Он гневно устремил свои выпуклые глаза на писаря, этого молодого человека, которого он вызволил с помощью Винфрида и Лихова из рокового батальона.
Бертин посмотрел на него с благодарностью, несколько раз кивнул и, протянув руку, точно для рукопожатия, сказал:
– Благодарю вас, господин член военного суда, слава богу, что дело обстоит именно так. Провести свою ладью между правдой и неправдой – для того мы, интеллигенты, и существуем на этом свете. Поддержать одно, побороть другое – в этом мы и видим смысл жизни. Но на войне – как вы это выразите без иронии? В особенности в такое время, когда ты, расщепленный корнеплод, находишь свой путь ощупью. Не лишайте же меня удовольствия, какое дает нам преувеличение. Кроме того, у меня есть особая причина для богословских сравнений. Приближались большие еврейские праздники. В связи с ними я пережил жестокие разочарования. Мне хотелось бы сейчас рассказать и об этом.
– Нет, на сегодня, право, достаточно! – воскликнул Винфрид. – Наступление вечера на этот раз означает, что наш тесный кружок должен разойтись, каждого из нас ждут свои обязанности. Меня, например, – обязанность попьянствовать сегодня с камрадами из комендатуры.
Глава шестая. Праздники– Так как время у нас сегодня ограниченное, – начал Бертин, садясь на свой стул, – я приступаю к делу без всяких предисловий.
Впервые с тех пор, как я надел солдатскую форму, устроили богослужение и для нас, евреев. В Монмеди, устаревшую крепость, предназначенную для охраны долины Мааса, прибудет армейский раввин, чтобы торжественно отпраздновать Новый год по еврейскому календарю. Об этом был отдан специальный приказ. «Слава богу», – сказал я, кивая самому себе.
Я не был слишком высокого мнения о раввинах, уж извините, дорогой Познанский. Во времена моей юности достойный старец, некий доктор Кон, играл роль доброго, но бессильного персонажа, он всегда воплощал в моих глазах библейскую веру, столь слабую перед натиском скептического и научного духа нашего естествознания. Уже в студенческие годы я стал редко посещать богослужения, а если посещал, то лишь ради моих родителей; я всегда был равнодушным слушателем. От этих богослужений в памяти остались некоторые трогательные мелодии, настроения, мотивы хоровых и сольных псалмов, которые я сам пел мальчиком, – исполненные скорби ветхозаветные тексты.
Я не очень-то надеялся, что армейский раввин доктор Каценштейн энергично возьмется за дело Кройзинга. Но для меня тогда важнее всего было отвести душу в беседе, рассказать обо всем человеку, который сделал своей профессией заботу о человеческих душах. Несомненно, думал я, этот доктор Каценштейн сможет назвать мне человечного и доступного офицера из окружения кронпринца, которому я в немногих словах рассказал бы о несчастном юноше. Этот офицер передал бы рассказанное дяде Кройзинга в Мец, а тот уже сам разобрался бы, в чем обвиняли его племянника, за что его хотели судить военно-полевым судом. Обвиняемые, обвинители, судьи возникали перед моим мысленным взором. В моем воображении нравственный закон был уже восстановлен, ибо никто не мог отказать (сановнику из Военного управления железными дорогами в том, на что он имел полное право. Вслед за тем начнется расследование: по чьей вине юный Кройзинг так долго оставался прикованным к ферме Шамбретт. Суд, несомненно, покарает это бессовестное убийство. Недаром я в тот день исполнял работу вьючного животного перед покинутой стамиллиметровой пушкой, недаром меня фотографировали, взяли в плен мой образ, как египтяне и халдеи взяли в плен моих предков.
Днем двадцать седьмого сентября Глинский вызвал нас в канцелярию; восемь евреев – ни один не поддался соблазну уйти в отряд звукоулавливателей. Впереди стоял долговязый Гуго Шамес, пекарь по профессии, впоследствии работавший на фабрике формовщиком. Затем Левизон, коммерсант, у которого правый глаз был почти закрыт веком, но который все же не производил мрачного впечатления. Следующими были Горовиц I и Якоб, тоже купцы, за ними – я, за мной – юный Соломон, избалованный сынок крупного суконщика, и Горовиц И, владелец табачной торговли в Берлине, у которого всегда имелись запасы сигарет, и, наконец, маленький Штраус, всеобщий любимец. Он колесил по всему краю, говорил по-французски с крестьянами, с женами мелких лавочников и доставал то кроликов для роты, то гардины для квартиры господина фельдфебеля или обер-фейерверкера Шульце. Малыш Штраус, ты так же родился под счастливой звездой, как мой Кройзинг под несчастной, ты был недоволен людьми, которые командуют нами, но ограничивался тем, что вышучивал их, и, когда я, бывало, подскакивал от гнева, ты успокаивал меня веселой мозельландской шуткой.
И вот мы все восьмеро стоим в ряд, и господин Глинский обращается к нам с речью: в немецкой армии служат сто тысяч евреев, из них большинство – в армии его императорского высочества кронпринца; в Монмеди, на богослужении, мы найдем многих единоверцев; некоторые из них наши начальники. Господин фельдфебель желает нам, чтобы и в этом случае наша рота была, как всегда, на высоте.
Могло ли ему прийти в голову, что поездка в Монмеди пробудила во мне такую горячую надежду, какой еще не было в моей душе с самого начала войны?
В армии каждый шаг полагается делать по чьей-нибудь команде, наши документы и командование нашей экспедицией поручили – о боже праведный! – кому бы вы думали? Мне! Пришлось мне стать опекуном семи моих товарищей. Вы смеетесь? Я тоже смеялся от всей души, когда мы сели на поезд в Муарее. Поездка протекала весело. Начиная с Азана в нашем вагоне стали появляться раненые, и они рассказали нам много интересного. В Монмеди солдаты евреи в касках со всех сторон стекались в комендатуру – проштемпелевать свои продовольственные карточки; их амуниция, та самая, в которой они сидели в окопах, была по возможности приведена в порядок. От них мы узнали, что кормить нас будут по еврейскому ритуалу, начиная с общего ужина после богослужения в канун праздника и до обеда на второй день праздника. Ночевать будем в гигантской палатке, укрепленной на шестах, подобных мачтовым деревьям. Мы получили одеяла, простыни и мешки, набитые стружками. Словом, мне пришлось поработать, чтобы как следует устроить моих семерых подопечных.
С наступлением сумерек зазвучали псалмы, которые верующие евреи уже полторы тысячи лет поют при зажженных свечах; они возносились к маленькому киоту со свитками торы. Псалмы, конечно, не сопровождались звуками органа, да и мелодии были не те, на фоне которых прошли мое детство, годы созревания и единоборство с традиционным богом.
Немецкое еврейство, три четверти миллиона душ, по характеру литургии подразделялось на две или три разновидности. Рейнские и франкские евреи сохранили западные мелодии, и сейчас богослужение было окрашено их ритмом и напевностью.
Странно было видеть в полутьме большой палатки на солдатских куртках защитного цвета наброшенные в виде шали талесы, странно было видеть, как склоняются каски в чехлах над страницами, покрытыми старинными крупными письменами. Но молитвы были все те же, они трогали, потрясали, ибо в этом чужом, широко раскинувшемся военном шатре, в атмосфере, созданной из легенд, благоговения и детского упрямства, повеяло ароматом родных мест.
А потам началась трапеза, традиционная для кануна Нового года. Каким-то образом узнали, что среди солдат находится писатель Вернер Бертин, и, к моему удивлению, потащили меня куда-то и усадили во главе стола, рядом с проповедником, баварскими штабными врачами, дантистами – одним словом, с людьми, которые еще сегодня утром парили надо мной, словно боги. Не очень-то свободно я себя чувствовал, ибо не знал, как себя вести, – так я отвык от тонких форм обращения с людьми. Гораздо уютнее было бы мне среди солдат, рядом с моими семью подопечными. Но я держался с большим достоинством, был в хорошем настроении, смотрел, слушал. И с глубоким удивлением думал: чем, собственно, отличаются эти сыны крупной и мелкой буржуазии, называющиеся евреями, от неевреев того же класса, какой чертой мы отделены, из-за чего нам отказывают в равноправии, кем начата эта игра, стремление сделать из нас чужаков, и что эту игру увековечило?
– Ну, здесь позвольте вас прервать, Бертин, – сказал вдруг фельдфебель Понт. – Как понять, что вы сами упорно подчеркиваете свою обособленность и одновременно претендуете на равноправие со всеми другими немцами? Не станете же вы отрицать, что разгадать эту загадку нелегко.
– Вот именно, – отозвался Винфрид и даже хлопнул в ладоши, – этот же вопрос давно вертится у меня на языке, Понт. Еще студентами мы в своем ферейне старались решить сей ребус.
Писарь Бертин, одергивая поношенный солдатский мундир, задумчиво оглядывал собравшихся. Достав из кармана черный лакированный портсигар и ножичек, рождественский дар командующего армией – кронпринца, полученный еще прошлой зимой, он тщательно отрезал кончик своей солдатской пайковой сигары – пфальцский табак, берлинская работа. Ему, очевидно, требовалось время, чтобы ответить на этот вопрос. Только после того, как Понт подал ему горящую зажигалку и по комнате распространился отнюдь, не неприятный аромат искусно обработанного табака, он наконец сказал:
– Еврейских студентов в ваш ферейн не принимали, не правда ли? Его, стало быть, по справедливости называли антисемитским, и в противовес ему пришлось создать ферейн еврейских студентов. Я никогда не был его членом, мне вообще нелегко вступить в члены какого-нибудь объединения. А что касается нашей обособленности, дорогой Понт, то если, например, высчитать, что еврейская община в Кельне, Шпейере или Трире древнее, чем немецкое население Ганновера или даже Берлина, то, приходишь к выводу, что обособленность вредит только нам самим. Ибо сыны еврейских граждан, как и их отцы, забыли, что они, как и все мы со времен Тита, обязаны бороться за свои человеческие права и, стало быть, по своей природе и по логике вещей являемся союзниками всех групп и классов, которым государство тоже отказывает в равноправии, – вспомним трехстепенную избирательную систему, антирабочую законодательную практику, низкую оплату женского и ученического труда, телесные наказания для детей. Если евреи голосуют за реакционные партии, они сами себе роют могилу – так всегда мне говорили мой отец и дядя Жозеф, спасибо им обоим еще и еще раз. Поэтому, при условии, что немецкие евреи стоят на прогрессивной политической точке зрения, я бы разрешил им маскироваться под кого угодно.
– А связь с еврейством всех других стран? – бросил Винфрид с большей резкостью в голосе, чем он того хотел бы. – Ваш интернационализм?
– Присмотритесь-ка к нему поближе, господин обер-лейтенант, – ответил Бертин. – Какой там интернационализм! Мы ведь точно так же стреляем друг в друга, как социалистические рабочие или протестанты воюющих стран.
– Гм, – сказал Винфрид, – над этим стоит поразмыслить. – Мне и в самом деле кажется, что мервинские или виленские евреи так же не похожи на немецких, как еврейский жаргон не похож на наш верхненемецкий. Ну, а теперь извините, что мы прервали вас, и продолжайте. Так как же вы пели наутро псалмы и славили Иегову в Монмеди в вашей скинии?
– Скинии! – улыбнулся Бертин. – Неплохо сказано. Все больше убеждаешься, что вряд ли кто так досконально знает библию, как ученики протестантских пасторов. Кроме того, я несколько устал, и мысли мои далеки от этой темы: меня, как, вероятно, вас всех, притягивает морзянка нашего друга Гройлиха в ожидании известий о прибытии настоящих, физически осязательных вестников мира. Но что должно быть, то будет! И самое интересное, самое главное нам только предстоит.
Итак, значит, сначала в скинии пять часов молились, так что от всех пар шел. Я в это время гулял по Монмеди – из меня какой же молельщик! А стоять и подражать другим мне казалось неприличным (нам даже роздали молитвенники, одному богу ведомо, где их достали в таком количестве). Но я собирался вернуться к проповеди. Проповедь на немецком языке мне хотелось послушать. Вы же знаете, какие у меня были тайные виды на проповедника или на кого-нибудь из начальства. Но при свете дня я не нашел на их лицах того, что хотелось бы мне видеть. Ни от одного из них не перекинулась ко мне та искра тайной симпатий, которая возникла между мной и Кройзингом, евреем и неевреем, тотчас же создав мост взаимного понимания. И вот я выслушал эту проповедь. Верьте – не верьте, но три месяца тому назад, когда Глинский сообщив, что мне на предмет женитьбы разрешен отпуск на целых четыре дня, после того как я одиннадцать месяцев подряд провел на передовой, я не был так ошеломлен, как в эти минуты, сидя в шалаше и слушая проповедь.
Надо вам знать, что хотя благочестивые евреи кое-как понимают молитвы на древнееврейском языке и, кроме того, во многих молитвенниках рядом с древнееврейским текстом дан немецкий перевод, но в молитву верующий обыкновенно вкладывает самого себя, собственную душу: бормоча молитву, он не воспринимает смысла слов, до него доходит только напевность, хоровое и сольное исполнение литургии перед алтарем – в сущности, простым пюпитром, с тех пор как уже не приносят в жертву животных в Иерусалимском храме. Зато проповедь, которую священнослужители всегда произносят на языке данной страны, укрепляет и освобождает душу слушателей, она является необходимой пищей для воздействия на общину, ее цель – очистить сердца от сора и зарядить их мужеством на многие и многие будничные дни, на долгие тяжелые времена. Поэтому община повсюду в мире приписывает такое значение слову проповедника, она много ждет от этого слова, с благодарностью его слушает и долго еще обсуждает, порой соглашаясь, порой и споря.
Наш проповедник выбрал для своей речи слова Иисуса, сына Навина, глава двадцать четвертая, стих пятнадцатый: «Я и дом мой будем служить господу». Но библейский текст был для него только предлогом, чтобы посвятить свою проповедь – кому бы вы думали? Погодите улыбаться, Познанский, вы еще будете хохотать! Не о том говорил проповедник, что после ужасного кровавого испытания по всей стране, надо надеяться, будет осуществлено полное равноправие всех немцев, нет, он говорил о фельдмаршале Гинденбурге. Да, Гинденбург был темой новогодней проповеди армейского раввина Каценштейна, произнесенной перед несколькими сотнями еврейских солдат! Каких, мол, благих намерений исполнен сей муж, как громко говорит в нем дух Иисуса, помощника пророка Моисея, с какой надеждой мы все взираем на него и как ждут от него мира все люди на земле, само собой разумеется, такого мира, который будет победой правого немецкого дела.
Неужели вот этот армейский проповедник, еще молодой, с рыжеватой бородкой и усами, с серебряной звездой Давида на ловко сидящем мундире с лиловыми петлицами, – неужели этот доктор Каценштейн послан сюда, чтобы говорить с нами как наймит господствующего класса, аристократии меча? Он обязан вдохнуть в нас бодрость, силу, пробудить в нас мысли и чувства, которые в этом неблагодарном для евреев окружении были бы одинаково живительны и для врача, и для солдата. Он должен был говорить о мире, он обязан был знать, что нет другого слова, которое отозвалось бы с такой силой в душе солдата, да и каждого человека на родине! Все лето нас поддерживала одна надежда – что зимней кампании уже не будет, а теперь, в сентябре, эта надежда почти испарилась. Все жаждали хотя бы утешающей лжи. «Dona nobis pacem». Эти слова мессы взяты из фонда нашей библии и псалмов. «Dona nobis pacem» – «Господи, даруй нам мир» – повторение слов неизвестного еврейского поэта: «Кто утвердил мир на высотах своих, пусть даст его нам и всему Израилю. Скажите: аминь, да будет!» Так трижды в день заканчивал священнослужитель молитву даже в будни – насколько же торжественнее прозвучала бы эта мольба в праздник! Она была бы превосходной темой для новогодней проповеди, но нет, речь шла не об этом. Мы слышали только бряцание оружия, фразы о вере в победу, вере, которой никто из нас не чувствовал: все думали, что в лучшем случае война кончится вничью. Геройский образ престарелого фельдмаршала – вот что рисовал нам бравый доктор Каценштейн, вот чье имя непрерывно слетало с его уст. Без сомнения, он избрал эту тему по собственному почину, веря в победу, как верит в нее вся печать. Он предполагал, что изрекая ура-патриотические истины, служит одновременно и еврейскому делу, и идее «бейся до победного конца».
«Да, да, да, – думал я, – и ай-ай-ай, и вот так так». Я наперед знал, что ответит мне этот милейший пастырь, пекущийся о душах человеческих, если я стану докучать ему своими переживаниями, рассказывать, какие чувства вызывает во мне тень умершего друга, эта неприкаянная, не находящая себе покоя душа. Нет, на откровенность с доктором Каценштейном я не пойду.
Выразил ли хоть кто-нибудь недовольство проповедью за обедом или позднее, когда мы слонялись по Монмеди, осматривали крепость, город и магазины, возле которых иногда попадались французы, глядевшие на нас с любопытством или враждой? Да нет же, проповедь всем понравилась. Врачи, фельдфебели и даже симпатичный зубной врач Лаубхейм, который пришелся мне по душе больше других, – все одобряли ее. Что пользы мне от почетного места за столом? Самый почет был мне приятен, но что проку от него? Тогда я понял, что был прав, удаляясь даже от «своих», как говорят иногда евреи в тесном кругу. Я был среди них, как глазок масла в воде, я оставался и здесь одиноким, подобно духу отца Гамлета, который бродил среди людей всем чужой. Только вне армии я смогу разрешить поставленную передо мной задачу – исправление жестокой несправедливости. Добиться отпуска, обещанного мне подполковником Винхартом, и в Берлине предпринять шаги, которые приведут к чему-нибудь реальному!
В спокойствии этого сентябрьского дня, на воле, гуляя по Монмеди, глядя на его валы, деревья – эту пока еще не тронутую войной жизнь в городе и его окрестностях, шагая по пустынным залам маленького красивого музея, воздвигнутого городом в честь своего земляка художника Жюля Бастьена Лепажа, любуясь его пастелями, я тщательно обдумал свой замысел. По алфавитному списку я имел право на отпуск, солдаты с фамилией на А и Б начали уезжать десятого августа. Пусть мне даже засчитают четыре для отпуска на предмет женитьбы – вычеркнуть меня из списка отпускников все же не могут. Даже денщики фельдфебелей и обер-фейерверкеров уезжали вне очереди, и никто на это не обращал внимания. Учитывались, вообще говоря, и прошения, подаваемые домашними на родине, если дело касалось крестьян, без которых невозможно справиться в хозяйстве в пору сева или уборки урожая.
– Сев и уборка урожая, – повторил унтер-офицер Гройлих, он увидел, как сестра Софи подавила зевок. – Летом и зимой, – добавил он, – днем и ночью. И так: будет вечно, обещает библия после потопа. И это хорошая концовка для сегодняшнего рассказа. Знаете ли вы, кстати: сказать, новогодние стихи Логау? Они относятся еще ко временам Тридцатилетней войны. Мы учили их в начальной школе:
Новый год пришел опять!
Нам по-старому страдать!
Все ж на бога уповайте,
А за старую беду
На самих себя пеняйте.
– У него, у господа бога, этих годов напасена тьма-тьмущая, – сказал фельдфебель Понт, – вот он и выпускает их, то в середине сентября, то после сочельника. Что-то преподнесет нам на сей раз рождественский дед? Наверное, что-нибудь примечательное!
– А завтра господин писарь расскажет нам, как он уехал в отпуск и отомстил за юного Кройзинга. Но прошу не раньше одиннадцати. Сегодня мы, вероятно, поздно засидимся.
И Винфрид помог сестре Верб подняться с кровати, на которой она сидела, откинувшись к стенке; ноги у нее были не такие длинные, как у ее приятельницы Софи.
Глава седьмая. Брат и сестраОкна в комнате Винфрида, под крышей виллы, слабо светились на фоне заснеженного парка и облачного неба. На ночном столике почти над ухом хозяина комнаты тикал маленький будильник. Вскакивать со сна Винфрид давно отучился; он открыл глаза и привычным движением протянул руку к светящемуся циферблату.
– Полдвенадцатого, – произнес возле него чей-то голос – милый голос, женский. – Ты здорово поспал, муженек.
– А ты нет? – Он положил руку на прелестный изгиб, между бедрами и спиной.
– Совсем капельку. – И она позволила ему приникнуть к ее губам. Когда он сделал попытку теснее прижать ее к себе, она сказала:
– Нельзя! Нельзя! Нельзя! В двенадцать ночи я должна…
– Ничего ты не должна! Ты должна меня любить!
– Скажи это старшей сестре.
Она подняла голую руку, включила лампу, прикрытую ее голубым носовым платком и ждавшую электрического тока.
– Служба есть служба! Когда мы поженимся, дружок, и эта проклятая война останется позади, я смогу по воскресеньям валяться в постели хотя бы до полудня. Если мы еще сможем нанять какую-нибудь Лизхен, которая присмотрит за телячьим жарким для господина… Кем ты тогда будешь? Приват-доцентом или губернатором Литвы?
– Твоим любовником, – ответил он, – кем же еще?
Берб вытянула под одеялом ноги.
– А пока я сама Лизхен и обслуживаю с десяток тифозных больных.
– Крошка, – он приподнялся и сел, – разве нам не надо благодарить проклятую войну? Разве я познакомился бы с Берб Озан, если бы Ткач, о котором уже не раз вещал оракул Бертин, не связал нити нашей жизни?
– Всегда он припутывает своего выдуманного Ткача, – сказала Берб, укладывая косы. – Не говори «война», говори «бог». Он свел нас с тобой, а не какие-то там ткачи.
– Пусть так, – нежно и уступчиво ответил Винфрид, – но что-то все же есть… А иначе как бы я мог завладеть – именно я – твоей черной гривой, твоими лилейными руками и вот этой вишенкой – ротиком!
Берб Озан, сидя на кровати, натягивала на ноги длинные черные чулки из толстой шерсти.
– Господин обер-лейтенант декламирует, как гимназист. Дай-ка лучше больше света, через десять минут я буду шагать по улице.
– Хочешь пари? Кто скорее оденется, ты или я?
Берб, застегивавшая корсет, на минуту затихла.
– А тебе зачем вставать? В постели гораздо уютнее.
Но Винфрид начал одеваться.
– Да уж ты рада бы! А потом будешь потешаться над нами, изнеженным племенем. Само собой, я провожу тебя в твой монастырь.
– Скажите, какой кавалер! – Но ее глаза радостно сияли.
– Нисколько не кавалер, – возразил он. – С кем на вершину я взлетаю, того и вниз сопровождаю. – Он поставил ногу на край кровати, чтобы застегнуть скучный ряд пуговиц на своих рейтузах. – И не просто для того, чтобы проводить тебя домой, – продолжал он, – и не только из благодарности за то, что вы раскрываете нам свои объятия. Ты здоровая девушка и испытываешь такое же наслаждение, как я, но мы не забываем, что этот путь может привести вас, женщин, к смерти, если стрелка повернется на «несчастье».
– Милый, – сказала Берб, торопливо надевая туфли, – наши врачи говорят: спорт и гигиена! Вспомни Бабку, как она родила!
– Но кто чутко прислушивается к вам, тому чудится мелодия любви и смерти, – сказал он, как бы думая вслух. – Вот и Бертин тоже. Всегда провожает Софи до ворот госпиталя, по словам Посека.
– Этот еще зачем сует свой нос? – спросила возмущенная Берб, застегивая форменное пальто.
– Тайны ординарцев! – рассмеялся Винфрид и надел фуражку. – Ну, кто из нас выиграл пари? Иди-ка сюда, плати штраф.
Пока он отпирал дверь, она быстро ткнула ему под подушку какой-то плоский предмет, потушила лампу и тихо последовала за ним вниз по ступеням.
Обоим в лицо пахнул холодный бодрящий воздух.
Издалека, из центра города, доносилось пьяное пение компании, которая, вероятно, только теперь вышла из ресторана, помещавшегося в ратуше, где ротмистр Бретшнейдер давал ужин в честь победы: «Мы уложили оленя, так уж полакомимся всласть! За благополучие всех присутствующих!»
Пьяная компания, проходившая по главной улице Мервинска, пела: «Францию мы одолеем, жизни своей не жалея».
– Вы-то уж в особенности! – заметил Винфрид, нахмурив брови.
В половине десятого, когда Винфрид вместе с сестрой Берб покинули ресторан, оставшиеся уже плохо понимали, где правая и где левая сторона: вина и шампанское, которыми вестовые снова и снова наполняли бокалы, разумеется, давно уже пребывали в подвалах ратуши, но родились они на Мозеле и еще много западнее – на Луаре и Марне. Берб шагала вместе с Винфридом по мерзлому снежному настилу, прижимая к себе руку друга.
– Пусть себе поют, что хотят, – сказала она, – лишь бы мир наступил!
– Аминь! Может быть, сегодня дипломаты уже сидят за общим столом, а генерал-фельдмаршал принимает их. Бог ты мой, кто бы мог сказать! А моего старикана дядюшки нет как нет. До чего хочется расцеловать его или хотя бы по плечу похлопать!
Когда они подходили к лазарету, сестра Берб произнесла вполголоса:
– Милый! Чуть не забыла! Я оставила у тебя под подушкой письмо. От моего брата Германа – он сейчас в команде выздоравливающих, у него много досуга, вот он и исписал мелким почерком шесть страниц. Этой весной, когда приехал Бертин и стал рассказывать всякую всячину о Вердене, ты помнишь, я решила попросить Германа написать мне об этих месяцах, с марта по май. Он и ответил из Саарбрюкена. Он не ругает тех, кто нагревает руки на войне, наш Герман, но если такое вот письмецо проскользнуло через цензуру – через его и нашу, остается сказать: кривая вывезла. Сколько я натерпелась страху, как прятала это послание от других сестер, и особенно от старшей, пангерманки – об этом я тебе когда-нибудь расскажу.
– Ну и фантазерка же ты, крошка! Какие уж такие страшные новости могут прийти из саарбрюкенской команды выздоравливающих в мервинский полевой лазарет? – улыбнулся Винфрид. – Не кривая вывезла, а обыкновенный вагон с полевой почтой, снабженной штемпелем «цензура».
– Хорошенько перевари это письмецо, – сказала Берб, кивая часовому, который открыл ей ворота, вернее, калитку, ведущую во двор одного из двух больших корпусов. Со стороны ратуши ветер все еще доносил приглушенные звуки песен; часы пробили полночь.
Винфрид шел под облачным небом домой в самом лучшем настроении, храня на губах вкус прощального поцелуя Берб. Превосходные вина, которые он пил, сидя против Берб в зале ресторана, еще бродили в его крови. Как хорошо было в его уютной комнате, куда они пошли после ресторана. Заключение мира они отпраздновали преждевременно, но ведь мир теперь наконец-то наступит! В рождественские дни 1917 года Вифлеемская звезда сияла на всех фронтах, начиная от пустыни у Суэцкого канала и кончая побережьем Фландрии.
Воздух был свеж, Винфрид наслаждался сигаретой – было даже жалко, что на ветру он выкурит ее так скоро; ничего, закурит дома новую. Да, смешно, он всегда забывает, кто свел его с Берб: не кто иной, как война. А кто сделал из обыкновенного студента-искусствоведа, не прибегавшего никогда за помощью и содействием к своей аристократической родне, адъютанта и обер-лейтенанта, от которого зависело много судеб и даже жизней? Опять-таки война. И, пожалуй, с его стороны было черной неблагодарностью, а может, и глупостью, что он отпраздновал отставку этой своей благодетельницы и вот уже сколько дней слушает, как Бертин поносит ее, войну. С ним-то, с Бертином, она обошлась довольно круто, надавала ему увесистых тумаков; люди, которыми Бертин дорожил, погибли, и кто знает, что еще припасено у нашего писаря в роге изобилия, который он мало-помалу исподволь – опорожняет. Разумеется, фронтовой проповедник не может заниматься каждым загубленным кройзингом, к тому же совершенно ему неизвестным. И, разумеется, он обязан воспевать доблести Гинденбурга. А если русские в Брест-Литовске наглотаются горьких пилюль – так ведь на то они и побежденные. Разве он, Винфрид, или его дядя Лихов, или любое двуногое существо родились на свет с единственной целью – налаживать дела противников? Это может себе вообразить только вот этакий Гамлет, которому и дуэль-то не по плечу, а уж что говорить о мировой войне.
Ну, слава богу, вот я и дома, а то к ночи здорово похолодало, и я продрог без мехового жилета, зря не надел его, некогда, правда, было возиться с пуговицами.
Винфрид поднялся по лестнице, насвистывая пришедший на память романс Вагнера «К вечерней звезде», зажег свет, бросил шинель на кровать, радуясь, что у него есть такое удобное ложе, втянул в себя аромат волос Берб, которым еще была пропитана подушка, почувствовал, что под ней хрустит письмо, закурил новую сигару и начал бегло его просматривать. Сначала он сидел на ручке кресла, затем понемногу соскользнул на сиденье. Он все теснее сдвигал брови. Заглянув в исписанные листки, он сразу же поймал фамилию генерала фон Рихова, а сей генерал не пользовался симпатией дяди уже из-за раздражающего сходства фамилий и вечной путаницы при вызовах по телефону; а прошлым летом Лихов прямо возненавидел его, так как в битве на Сомме им пришлось занять оборонительные позиции в непосредственном соседстве друг с другом, и это вызвало много трений. Да, но все, что писал шурин Герман, – это та же бертинская погудка, только на новый лад, гораздо сильнее и резче. И Винфрид прочел:
«Дорогая сестренка!
Что мне рассказать о Верденской битве? В начале января 1916 г. нашу часть перевели из Шампани на отдых и не трогали добрых полтора месяца. Такой способ подготовки к бойне и тогда уже был весьма необычным в немецкой армии. Скоро мы поняли, что нам предстоит нечто из ряда вон выходящее. Все это время нас не очень донимали муштрой, зато водка лилась рекою. Тогда у меня произошли первые столкновения с офицерами по весьма странному поводу: вместо того чтобы все время дуться в карты и пить, я довольно много читал.
И вот однажды ко мне подошел адъютант, один из немногих кадровых офицеров батальона, и заговорил „на образованный манер“. Он дал мне понять, что, по существу говоря, расценивает запасных, всю эту мелкобуржуазную шушеру, так же, как и я; его весьма радует, да и господина командира тоже, если господа офицеры продолжают пополнять свое образование даже на фронте (в ту пору в этих кругах еще дорожили культурным обликом офицера, еще считали, что надо маскировать свои цели, еще слишком высоко ценили нашу мощь); но ведь надо и дух товарищества блюсти, поддерживать компанию; в конце концов выпить со своими однополчанами стакан доброго вина – это старинный немецкий обычай. Иначе я – штутгартец, демократ – чего доброго скоро прослыву „красным“. Он, конечно, не сомневается, что это не входит в мои намерения… Но и после этого разговора офицеры по-прежнему считали меня неполноценным (что впоследствии, перед битвой на Сомме и во время ее было причиной возмутительно несправедливого отношения ко мне: я получал одно за другим опаснейшие задания… Об этом, однако, лучше в другой раз).
Во время отдыха перед верденскими боями приехал сделать нам смотр господин фон Рихов, будущий пресловутый верденский мясник; был устроен большой парад, а перед парадом целые дни тратились на обсуждение трудной проблемы: с каким приветствием обращаться к лейтенантам, которые еще не имеют шпаги? В итоге пришли к заключению, что надо прикладывать руку к головному убору.
В офицерском собрании, на торжественном обеде, мне пришлось сидеть поблизости от Рихова. До конца дней своих не забуду впечатления, которое он на меня произвел. Я всегда полагал, что генерал – это как-никак человеческое существо и лицо его носит хотя бы следы мыслительной деятельности. Но такой дубовой образины я при всем воображении представить себе не мог. Багровая от злоупотребления алкоголем голова, голова кабана – но нет, кабан ведь обладает своей физиономией, а это был попросту жирный кусок мяса; Рихов только и делал, что жрал, хлестал вино, оглушительно хохотал и, как машина, хрипло выкрикивал слова, которые и сам вряд ли понимал. Он напился до потери сознания, и большинство присутствующих бесцеремонно и громко потешалось над ним. А, когда он начал ржавым голосом горланить солдатские песни, офицерское собрание превратилось во фламандский кабак, но без его красочности, или, вернее, началась типичная ост-эльбская оргия. Поздно вечером старик, спотыкаясь, вышел на улицу, но его пришлось на потеху солдатам, собравшемся на концерт, устроенный на площади, снова втащить в ратушу (где, как всегда, помещалось офицерское собрание). На следующий день нескольких солдат посадили за пьянство под строгий арест… Таков фон Рихов».

Винфрид встал. Его радужного настроения, навеянного винными парами, как не бывало. То, что сегодня разыгралось в ратуше, вероятно, происходило и на той пирушке, но куда в большем масштабе. Ост-эльбская оргия! Портрет фон Рихова – семь чертей и одна ведьма! Верденский мясник… Солдаты, посаженные под строгий арест за пьянство… Нет, это письмо крошка не получит назад, оно будет храниться здесь вместе с моей корреспонденцией. Как приветствовать лейтенантов, еще не получивших шпаги… Вот какими проблемами занимались в разгар войны! Он расшнуровал ботинки, сунул ноги в войлочные туфли и продолжал читать:








