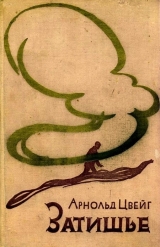
Текст книги "Затишье"
Автор книги: Арнольд Цвейг
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 29 страниц)
Кивнув присутствующим, он положил трубку и пошел к дверям, пропустив вперед Познанского и сестру Софи. Шествие замкнул Бертин; до него еще донесся очаровательный голос сестры Берб, сказавшей: «Да, это я». Сойдя вниз, они надели пальто и вышли на воздух. В ушах Бертина еще звенели произнесенные Понтом слова.
– Очень мало горючего, вовсе нет лошадей, а мы вступаем в новый военный год, – шепнул он на ухо сестре Софи. Они направились вдвоем к воротам парка и вдруг очутились наедине. – Ты заметила, как исчезли Понт и Познанский? Они по крайней мере простились с тобой? Бедная ты моя, подумать только, такая блондинка связалась с такой черной овцой!
– Разве я блондинка? – спросила Софи, оправляя свою косынку. – Такая же, как ты. – Она гордилась своими густыми красивыми золотисто-каштановыми волосами.
На темном восточном небе сверкало созвездие охотника Ориона, и под его тремя звездами, соединенными в одну линию, особенно светло горела спокойным, почти серебряным светом планета, не принадлежащая к нему.
– Это Юпитер, – сказала Софи, беря под руку друга. Часовой, по-видимому, удалился в свою будку и подремывал. – А ты веришь, что он принесет нам мир?
– Если мы на него понадеемся, мира наверняка не будет, – ответил Бертин. – Но, если наши люди чему-нибудь научились, если большинство рейхстага начнет пошевеливаться…
«Мир? – думал он. – В лучшем случае – затишье. Но нельзя же отнять у нее надежду и отпугнуть ее, единственного здесь человека, который тянется ко мне всей душой». И он постарался заглушить в себе голос, который говорил ему, что для немцев одна из целей войны – заполучить русские нефтяные источники на Кавказском побережье, и стал упрашивать Софи, если у нее есть время, выпить у него чашку чая.
– Ах да, – сказала она, стараясь ставить ногу в уже натоптанные следы, так как новые туфли и новый снег плохо уживаются друг с другом. – Давай переключимся на другую тему. Непременно прочти мне твою новеллу. Не лежать же ей зря в твоем ящике?
– Новеллу не прочту, а прочту совсем другое, – пообещал он. – Кто знает, не наступит ли теперь эон и не будут ли отомщены все загнанные в могилу человеческие существования, все гриши, все кройзинги, все науманы, быть может, и все бертины… – И, боясь, что она не поняла греческого слова «эон», он прибавил: – Эон означает мировую эпоху, эру, это слово встречается уже в греческой библии.
– «Не погибнуть в эонах»[25]25
Цитата из «Фауста».
[Закрыть], – процитировала Софи, показывая, что она его поняла.
Когда они наступили на тень старых буков, почти целиком сохранивших пожелтелую листву, она позволила ему привлечь к себе ее красивую голову и поцеловать бледный рот.
– Вот и мир, – прошептал он у самых ее губ и в благодарность за этот обман получил горячий и нежный поцелуй.
Где-то далеко в городке пролаяла собака.
Глава восьмая. Авторучка– Ты мне еще ничего не прочитал, – жаловалась сестра Софи, привставая в кровати.
Бертин лежа рассматривал ее шею, плечи, удивительно красивой формы руки и думал: и это прелестное создание целый день возится с открытыми и плохо заживающими ранами, перевязками, карболкой, йодоформом.
– Чего не было, то может еще быть, – блаженно пробормотал он, глядя на нее снизу вверх. – Я прочту тебе не новеллу о Кройзинге, ее мне придется отбарабанить, когда приедет Винфрид и вся компания будет в сборе. Но у меня есть нечто для тебя одной, для нас обоих.
Он следил за ее движениями; вот она ловко поднялась с постели, подбросила полено в кафельную печку, где еще тлели угольки, отнесла чайник с горячей водой на умывальник и стала тщательно приводить себя в порядок. По голым выбеленным стенам и плотно занавешенным окнам все время прыгали тени, отбрасываемые движущейся женщиной в свете плохо затененной абажуром лампы – то на переднюю, то на правую стену. «Как неуклюже тень, эта черная обезьяна, пародирует движения ее красивого тела», – думал благодарный любовник.
– Барин может встать, – рассмеялась Софи, – комната нагрелась.
И, пока Бертин одевался и мылся, моргая на свет близорукими глазами, она извлекла из единственного в комнате ящика содержащиеся в нем бумаги.
– Ищу сигареты, – сказала она, как бы оправдывая свое вторжение в его святилище.
– В моей лавочке есть только сигары, – ответил он, отдуваясь и вытирая полотенцем лицо. – Ты начни, я докурю после тебя.
Фрейлейн фон Горзе последовала этому совету; ее глаза скользнули по листу бумаги, лежавшему сверху.
– Совсем не плоха твоя коричневая сигара. А это что такое? – с удивлением спросила она. «В информационный отдел. Доставлено из Ковно».
Протирая очки, он заглянул в бумагу через плечо Софи.
– Хотел бы я, чтобы наши с этим согласились! – горестно вздохнул он. – Ты хорошо изучила нравы фон Горзе и иже с ними, я хорошо знаком с кругами прогрессивных граждан, но в последнее время мне пришлось наблюдать рабочих. Вижу, что и они пассивны. Никогда они искренне не отзовутся на этот человеческий голос, да и не могут они, как не могут ходить на головах. Прочти.
И Софи прочла своим приятным грудным голосом отрывок из речи Народного Комиссара Ленина от 26 октября 1917 года по старому стилю.
Декрет о мире
Рабочее и крестьянское правительство, созданное революцией 6–7 ноября (24–25 октября)… предлагает всем воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о справедливом демократическом мире…
Такой мир… заключить… немедленно… впредь до окончательного утверждения всех условий такого мира, полномочными собраниями народных представителей всех стран и всех наций.
– Трудящихся всех стран, – дополнил Бертин и взял из рук Софи сигару. – Да, если бы все были людьми такого образа мыслей, как мой товарищ Паль! А депутаты? Кто после трех лет войны им еще верит, у того мозги набекрень. Читай дальше.
И Софи прочла:
Под аннексией, или захватом чужих земель правительство понимает сообразно правовому сознанию демократии вообще и трудящихся классов в особенности всякое присоединение к большому или сильному государству малой или слабой народности без точно, ясно и добровольно выраженного согласия и желания этой народности, независимо от того, когда это насильственное присоединение совершено… Независимо, наконец, от того, в Европе или в далеких заокеанских странах эта нация живет.
– Стоп! – воскликнул Бертин. – На сегодня довольно. А впереди – еще самое лучшее, в особенности для нас, солдат. Перемирие на три месяца, чтобы наш брат солдат действительно получил передышку, мог отдохнуть. По-видимому, Ленин и его коллеги хорошо знают нас!
Сестра Софи покачала головой, красиво сидевшей на ее стройной шее.
– А через три месяца не заполучишь на фронт ни одного солдата, и Ленин отлично это понимает.
– Умное дитя, – сказал Бертин и поцеловал ее в затылок. – Но речь идет о мире и, кроме того, они чутко прислушиваются к биению пульса народных масс. Вот как доктор Якобштат слушал пульс у Анны.
Он обнял Софи за талию и хотел привлечь ее к себе на колени, но она высвободилась.
– Теперь читай, – потребовала она, – ты же сказал, что есть нечто для меня. А через полчаса мне надо уходить.
– Ладно, – согласился он и вынул из ящика тетрадь. – Когда все эти слова о мире упали мне в душу, как капли меда в молоко, у меня родилось намерение, которое я, вероятно сам того не зная, вынашивал в глубине души. Смотри, что написано сверху, но об этом никому ни звука, даже Берб, потому что это может кончиться для меня плохо. – Он сел на угол стола, чтобы пододвинуть исписанный лист к лампе, но прежде подал его Софи. – Имена я, конечно, изменю, но пока – имена подлинные, и все события я стараюсь описать возможно ближе к действительности.
Софи открыла первую страницу, и зрачки ее расширились.
– «Некто Бьюшев», историческая трагедия в пяти актах. – Ты написал, ты хочешь…
– …воскресить нашего Гришу, да. Удастся ли мне – знают только музы, из которых в данную минуту ты самая близкая и вдохновляющая. Пишется медленно, пальцы заржавели. А вообще-то, всего каких-нибудь несколько недель, как у нас появилось время на всякие посторонние занятия. Для этих страниц следовало бы дать подзаголовок «Написано под столом».
– Читай же, – нетерпеливо попросила она, – скоро вечерняя перекличка. Оказывается, ты и пьесы пишешь! Милый!
– Пьесы, – повторил он раздумчиво, – да будут ли их играть и когда? Если бы в моем распоряжении были актеры, сцена, если бы мне были видны подмостки, на которых разыгрывается мировая драма… В Вильно, Ковно, Риге работают так называемые фронтовые театры. Там можно было бы накапливать опыт, учиться режиссуре, определить вес слова…
Он помолчал и затем начал:
«Первый акт, первая сцена. Лагерь военнопленных в лесу. Все покрыто глубоким снегом. Заграждения из колючей проволоки, очень высокие, за ними угол барака с освещенным четырехугольником окна. Крыша – черная черта в сумеречном небе. Иногда над трубой взвивается искры. Доносится приглушенная хоровая песня русских военнопленных. Тихо звенит проволока, со стороны леса порывами налетает ветер.
Ефрейтор Биргольц
(стоит на посту, винтовка под мышкой, на нем тяжелый овчинный полушубок. Ефрейтор говорит сам с собою).Масла, думается мне, полтора фунта. Два с половиной фунта муки, что куплена у крестьян. Да еще каравай хлеба и горох. Это уже кое-что. Подкину ей – так она опять немножко продержится. Дам Фрицке, завтра он едет в отпуск. Масла, думается мне, целых полтора фунта.(Зовет.)Эмиль, Мермихель! Как же, дождешься, чтобы он тебя сменил! Его еще нужно специально приглашать!(Уходит вправо.)»
Софи, опершись подбородком на кулачок, смотрела на Бертина, полуоткрыв рот.
– Милый мой, – воскликнула она, – откуда ты знаешь, как они говорят, как мыслят, что их волнует? Кто ухаживает за ранеными солдатами – ты или я?
Польщенный Бертин не мог сдержать улыбки. Он продолжал читать:
«У проволочного заграждения появляются двое пленных, Алеша и Гриша. Они, крадучись, выходят из глубокой тени. У младшего, Алеши, в руках кусачки. Гриша – человек лет тридцати. Оба в шинелях.
Гриша. Давай кусачки, Алеша. Немного погодя запойте. Может ведь звякнуть проволока.
Алеша. Ты здесь собираешься выйти?
Гриша. Здесь.
Алеша. С ума ты спятил, Гриша. Неужели ты съедешь с холма в вагонетке и подымешь шум?
Гриша. Слышишь, как завывает ветер? Он все заглушит».
Автор продолжал читать. Алеша высказывает свои опасения и сомнения, а Гриша, твердо решивший бежать, отстаивает свой план.
«Гриша. Когда фельдфебель начинает надо мной глумиться, мне кровь в голову бросается. Не вышло бы беды. Этого, что ли, тебе хочется?
Младший некоторое время не возражает, но наконец отдает Грише инструмент.
Алеша. Мне с тобой идти? Да я же совсем ослаб, болен. Может, братец, увидимся в России. Храни тебя матерь божья, Гриша.
Они целуются. Оба исчезают.
На сцену медленно выходят двое часовых в длинных тяжелых тулупах.»
Далее автор, меняя голос и подражая говору солдат, читает:
«Второй часовой. Да по такому гололеду ползешь, как черепаха. Подошвы скользят. Пол-России прилипло к моим подошвам. А пока что завешивай окно. Пока что надо затемнить дурацкое окно. Приказ есть приказ.
Первый часовой. Я ни о чем не могу думать, Эмиль: все отпуск на уме. Совсем сбился с толку. Когда же домой?
Второй часовой. Пусть в России будет тысяча раз революция. Все равно каждое окно надо затемнять и после шести вечера не зажигать карманного фонарика. А то неровен час налетят вражеские самолеты. Это здесь-то, на Восточном фронте! А перемирие уже на пороге.
Первый часовой. Русские поют, как будто их там сто человек. На родине у них революция, Эмиль. Подпишут мир, и пойдем мы с тобой домой, дружище, к нашим станкам. И женка моя снова будет у меня в постели под боком лежать. А в воскресенье – за город, выпить белого пивка, а малыш тут же в коляске, а мать вяжет и рассказывает обо всем, что было, в перебивку с Робертой. Эмиль, надо бы нам повесить винтовку на первый попавшийся сук и – бегом домой, что есть мочи. Весна, ведь, понюхай только, понюхай! От леса весной пахнет.
Второй часовой. Да, революция, февраль, пахнет весной, и русский поет. Стоишь на часах от восьми до десяти – и все думаешь. Да еще хватит о чем думать от двух до четырех. При проверке инструментов оказалось, что не хватает кусачек. Если они не найдутся – мы, видишь ли, проиграем войну. И достанется же Клапке!»
Сестра Софи украдкой посмотрела на свои ручные часики и снова стала слушать, что говорит на прощание первый часовой.
«Первый часовой. Ну, счастливого тебе дежурства, Эмиль. Может быть, и вправду быть миру!
Второй часовой. Мир на одном только фронте – этого еще мало. Надо бы всем зашвырнуть подальше винтовки – и точка.
Первый часовой
(боязливо оглядываясь).Скажу тебе на ухо – нам тоже.Второй часовой. Скажи громко: нам в первую очередь.
Расходятся: один идет направо, другой налево. Ушли. Тишина.
Тихо позванивает проволока. Ветер.»
– Да, – сказала сестра Софи, как бы пробуждаясь. – Этого действительно нельзя никому читать. Ну, мне пора.
– Еще две минуты, – попросил Бертин. – Теперь очередь за Гришей.
«Гриша
(выпрямляется).Что это? Нет, послышалось. Только сердце стучит под горлом. Я должен бежать домой, к жене, к малышу. Вперед, дурак, назад дороги нет.(Тишина, позванивает проволока. Кто-то затемнил окно изнутри.)Солдату никто не поможет, ни бог, ни сатана.(Возится над проволокой. Слышно, как запели русские. После второй строфы.)К Марфе, к малышу, на телегу и в лес.(Просовывает узелок через проволоку, пролезает и сам, бесшумно и быстро уходит направо.)Русские громко поют. Тишина, ветер, из трубы вылетают искры, звенит проволока.
Второй часовой. Затемнили. Все как полагается. А искры – кто их разглядит? Не видно ни зги.
(Спотыкается обо что-то твердое.)Господи, кусачки. Вот это повезло! И Германия спасена.Полный мрак.»

Бертин поднялся, сунул тетрадку в ящик и надел куртку поверх синего шерстяного свитера. Софи тоже встала и, глядя на него широко раскрытыми глазами, протянула руки через стол. В этой неудобной позе они поцеловались.
– Спасибо, милый, – прошептала Софи, высвобождаясь. – Когда ты будешь писать? И прочтешь мне, что дальше?
– Вторая сцена будет готова послезавтра, – ответил он. – Боюсь я многословия. «Научитесь искусству вычеркивать», – твердил нам учитель Арндт еще в предпоследнем классе.
– Я горю от нетерпения. – Софи застегнула пальто, поправила косынку и взяла Бертина за руку. – Прощальный поцелуй, милый, и я иду.
Бертин выключил свет и затворил дверь. Они шумно спустились по лестнице.
Сделав несколько шагов по заснеженной дорожке, Софи остановилась.
– Смотрю вокруг и не знаю: что это, действительность или продолжение твоей драмы. Как сказал часовой? «Пол-России прилипло к моим подошвам». Я чувствую то же самое.
– Благодарная слушательница, – рассмеялся Бертин. – В пьесе еще март, а теперь у нас декабрь. Революция, о которой говорится в пьесе, называлась Февральской. А мы живем уже после Октябрьской. Помоги нам бог в Брест-Литовске!
Они вступили в круг света, отбрасываемого ярким фонарем, и ускорили шаг, боясь, как бы Софи не влетело от старшей сестры. Оба ведь были солдаты.
– Поистине трудно установить, – сказал Бертин, прощаясь со своей спутницей у белых каменных ворот, – где действительность и где творческий вымысел, трудно не отождествлять себя с персонажами, которых я вывожу в пьесе. Найдется ли для нее театр? Это зависит от господина Ленина и от нашей цензуры.
– До завтра, – и Софи скрылась в черном подъезде.
…И от того, что принесет с собой наступающий тысяча девятьсот восемнадцатый год, – мысленно закончил Бертин последнюю фразу.
На фронтоне госпиталя начали бить часы.
Глава девятая. ЛикованиеПоздно ночью в туман и метелицу новоиспеченный капитан Винфрид прибыл в Мервинск. Он дал верному Коршу горсть сигарет в благодарность за тяжелую езду по самым коротким лесным дорогам, на которых ветер нагромоздил снежные сугробы, затем велел принести себе в спальню перловый суп, селедку с кислым огурцом и два бутерброда с салом. Не откладывая, поздоровался по телефону с сестрой Берб, у которой случайно было ночное дежурство. Значит, она сможет прийти к нему завтра утром. Раздеваясь, он просмотрел в «Газете X армии» хорошо известную ему статью «Искусство побеждать», которую он еще раз внимательно прочтет утром.
Винфрид лег в постель и выключил свет. Чертовски талантлив этот Бертин, хотя портрет майора он нарисовал в своем рассказе очень поверхностно.
И не удивительно, что нестроевик Бертин не понял, да и не мог понять военного такого типа, как этот Янш. Янш, конечно, мерзавец, но дело, которое он защищал, – хорошее дело, дело Германии, поскольку речь идет о ее мировых интересах. Да, перед русскими в Брест-Литовске предстанет некий гигантский Янш. И он выторгует возможно больше благ за пролитую кровь немецкой молодежи, это его право и его долг. Генерал Клаус понимает этот долг и защищает это право более благородными, внутренне оправданными методами, чем какой-то случайный Янш. Надо рискнуть, надо бросить все силы на Запад, раз нам еще придется драться с ним, а если понадобится для этого хитрый трюк, так с божьего благословения пойдем и на трюки: скажем, что еще до начала переговоров все войсковые части уже были двинуты в дело. Конечно, в действительности мы двинем их не сейчас, дай бог, чтобы к весне, ибо кто знает, какое положение сложится к востоку от Вислы, как поведут себя наши союзники, а также Польша и Украина. Все это еще покрыто мраком неизвестности. Ему вдруг почудилось, что над его головой носятся снежные облака. Он улыбнулся и с удовольствием вытянулся.
Винфрид приправил свой ужин двумя стаканами крепкого бургундского вина марки «Помар» из запасов Лихова и поэтому не сомневался, что быстро заснет, еще слыша свист декабрьского ветра, треплющего верхушки елей, и перебирая в уме все, что он узнал за минувший день в ставке генерала Клауса. Главное – мир будет заключен. Русские не хотят и не могут сражаться. Новый военный комиссар Крыленко уже обратился из Могилева с посланием к русской армии и к немцам. Он сумел найти надлежащую форму, хотя, говорят, еще недавно был прапорщиком. И, значит, новоиспеченный капитан, горевший нетерпением рассказать обо всем своим друзьям, в особенности пессимисту Бертину, может заснуть сном праведника. Генерал Клаус утверждает, – Винфрид усмехнулся, – что уже научился кое-чему от советских людей: он понял, как важна пропаганда.
– Мы тут бранимся, – сказал Клаус, – делаем много, но плохо. Надо действовать лучше: всех, кто умеет грамотно писать по-немецки, сосредоточить в Ковно. Для пяти-шести умных голов еще найдутся штатные единицы в отделе печати и в пятом отделе.
Значит, надо переправить Бертина из Мервинска в Ковно – в отдел печати округа «Обер-Ост», где ему будет неплохо житься, хотя неких сестер милосердия, к сожалению, придется перевести в виленский гарнизонный лазарет № 2, который, кажется, помещается в пригороде Антоколь. Винфрид как-то побывал там, правда совсем по другим делам.
Впрочем, все это далеко не так просто, чтобы спокойно спать, ни о чем не помышляя. Опасностей не оберешься. Засыпая, Винфрид увидел перед собой ряды пехотинцев в защитного цвета мундирах, они маршировали на плацу, нарядные, как оловянные солдатики, в новой, с иголочки амуниции, которую теперь, во время войны, вряд ли где увидишь.
Наутро начались телефонные звонки, один за другим приходили представители различных отделов штаба и мервинской комендатуры, получали инструкции, поздравляли господина капитана, расспрашивали его. Явился и ротмистр фон Бретшнейдер, очень озабоченный тем, что у него могут забрать отряды егерей, пехотинцев и обозный парк. Винфрид успокоил его заверениями, коварства которых Бретшнейдер не понял.
Радости, скорби, что ждут нас,
В лоне времен сокрыты, —
продекламировал Винфрид, перефразируя слова одного классика, то бишь Шиллера, которого он считал земляком Берб и который действительно был им. Винфрид хотел объяснить ротмистру, что никто еще ничего не знает, пока русские парламентеры не вернутся в Брест-Литовск. Они обещали приехать и приедут. А примкнут ли к ним державы Антанты – на этот счет пусть господин ротмистр не ломает себе голову: Англия и Франция не желают иметь ничего общего с этим призывом к миру и знай себе твердят, что, мол, по договору 1914 года запрещается заключать сепаратный мир. Даже американцы, по обыкновению разговаривающие с таким апломбом, с каким могут говорить только янки и еще не сделавшие в этой войне ни одного выстрела, «оставляют за собой право предпринять тот или иной шаг».
– Хозяева России! – с возмущением и презрением воскликнул комендант Мервинска. – Какие-то проходимцы, заговорщики без роду без племени, как метко охарактеризовал их десять лет тому назад рейхсканцлер Бюллов. Трех недель не позволит им русский народ продержаться. Мы только должны дать генералам время опомниться и повернуть на Петроград.
Адъютант, подняв брови, дружески, почти с восхищением кивнул молодому заводчику в кавалерийском мундире.
– Давайте лучше предоставим это нашему генералу Клаусу и народным комиссарам, заседающим в Смольном. Они ведь знают, чего хотят и что делают. Во всяком случае, настаивая на скорейшем заключении перемирия, они обладают властью осуществить его. Ведь за ними – народ, как за всяким правительством, обещающим хлеб и мир рабочим и крестьянам.
– Чистая демагогия! – С этими словами ротмистр поднялся. – Мы обещаем нашему народу победу, и величие, на немцев это всегда производило впечатление.
«Ты еще подивишься, мой милый, – думал Винфрид, провожая Бретшнейдера до дверей, – когда у тебя заберут людей и перебросят неведомо куда – то ли на Украину, то ли в Аррас, – да и сам ты еще можешь пасть смертью храбрых, может быть, на Пьяве, а может быть, на Ла-Манше».
Винфрид поднял телефонную трубку и приказал Понту пригласить друзей на чашку кофе к четырем часам – на этот раз не для того, чтобы слушать рассказы Бертина о его переживаниях в таком-то году, а чтобы самому поведать о днях, проведенных с необыкновенным человеком, с немецким генералом Клаусом. Но не успел он еще открыть рта, как раздался спокойный голос Понта, попросившего принять на несколько минут его и унтер-офицера Гройлиха. В четверг в подвале штабной виллы случилось чрезвычайное происшествие.
– Поднимитесь ко мне, – сказал Винфрид. «Что там могло случиться? – подумал он. – Может быть, солдаты чужой части забрались в водочный склад, а строгие блюстители нравственности опасаются, что дело не обошлось без участия наших вестовых?»
Когда унтер-офицеры рассказали о самоубийстве нестроевого солдата Игнаца Наумана в коридоре подвала, лицо Винфрида окаменело.
– Я не ослышался? – спросил он строго официально. – Самоубийство в квартире его превосходительства?
– К сожалению, да, – ответил Гройлих.
– Безобразие! – сказал молодой офицер сквозь зубы, и вдруг в нем поднялась вся ярость, накопившаяся в душе за последние недели, когда он слушал рассказы Бертина. – Не могли присмотреть за парнем! Повеситься на наших телефонных проводах! Мало здесь, что ли, отхожих мест!
Гройлих взглянул на возмущенного молодого офицера, который думал не об отчаянии и страхе смерти, мучивших бедного парня, а, по-видимому, о неприличии его поведения.
– Уверяю вас, господин капитан, никто из нас не подозревал о его намерении. Иначе мы не отпустили бы его одного. Бертин сказал, что он сам с удовольствием проводил бы беднягу до ретирада.
Винфрид между тем взял себя в руки.
– Черт возьми! – сказал он. – Хотя мы-то не причинили ему никакого вреда, все равно не оберешься неприятностей. От дяди моего нужно все скрыть. В его квартире, прямо под его комнатой, – история! К счастью, у комендатуры будет дел по горло, Бретшнейдеру придется докладывать в Мюнстер и его превосходительству Щиффенцану совсем о другом.
Фельдфебель Понт взглянул на часы.
– Если господин капитан хочет повидаться с членом военного суда…
– Сохрани бог, – ответил Винфрид. – Когда он высидит акт об этом происшествии, он и сам доложит мне. Была бы жива моя старая бабушка, – прибавил он, очевидно стараясь успокоиться, – она весь подвал прокурила бы можжевельником, чтобы спугнуть блуждающую душу с того места, где она совершила грех.
– В таких народных верованиях давно прошедших времен всегда есть разумное зерно, – сказал Гройлих, – хотя это разумное теперь продолжает жить лишь как суеверие.
– Пусть Познанский займется унтер-офицером, – приказал Винфрид, – который избил того дурня. Боже ты мой, чего захотел! Говорить с русской делегацией! И надо же было, чтобы нам об этом стало известно, гром его разрази!
Гройлих доложил, что, по мнению юристов, обвинение, выдвинутое против Клоске, не произведет особенного впечатления на суд. Этому солдафону зачтется двигавшее им патриотическое воодушевление. Несколько месяцев назад он уже застрелил одного солдата, тоже из штрафной роты, но и тогда его дело было официально прекращено.
– Так или иначе, – сказал Винфрид, – напишите заявление и возможно скорее дайте его мне на подпись. Как только на нем поставят штамп и пришьют к делу, с эпизодом будет покончено.
– Кстати, докладываю господину капитану, что четверть часа назад получено известие, будто бы Антанта решила не признавать петроградское правительство, не участвовать в так называемом заключении мира. А Соединенные Штаты намереваются двинуть на красных из Владивостока японский корпус.
– А что делается в Могилеве? – спросил Винфрид после короткой паузы.
– О-ля-ля! – ответил Понт на французский манер, как во времена их пребывания в монфоконском замке. – Новый главнокомандующий действует энергично, господину Крыленко пальца в рот не клади.
– Браво, – обрадовался Винфрид. – Тогда, пожалуй, свяжите меня с генералом Клаусом. Я хочу спросить, вызвать ли дядю или пусть себе спокойно сидит в Висбадене. Все эти Клемансо, Бальфуры, Вильсоны хотят, видно, заставить нас решиться на последний ход. Открыть полонез.
– А русские могут бросить на чашу весов более двух миллионов убитых и отказ от всякого обогащения, – подчеркнул Гройлих.
– Да, если бы убитые имели право голоса, как говорит наш дальновидный Бертин, – заключил разговор Винфрид. – Все эти гриши, кройзинги и как там их называют, все его товарищи-землекопы.
– Да хотя бы этот несчастный Игнац, – дополнил Понт и, щелкнув каблуками, вместе с Гройлихом вышел из комнаты. Винфрид тотчас же принялся за свежий бюллетень, врученный ему Гройлихом.
А тот, спускаясь по лестнице в свой подвал, чтобы установить связь с Клаусом, бормотал про себя:
– С Клоске левые разделаются лишь тогда, когда и у нас появятся солдатские советы. Только они дадут слово Бертину.
Такой фабрикант и помещик, как Тамшинский, разумеется, располагает обширными сараями и конюшнями еще с тех времен, когда сани, кареты и фаэтоны с высокими колесами были единственно возможными средствами передвижения по плохим дорогам царской России. Сараи были ярко освещены тремя карбидными лампами. Шоферы его превосходительства Лихова давно уже соорудили на массивных козлах нечто вроде помоста, на котором производят необходимый ремонт автомобилей. Шофер Корш и два его помощника, без мундиров, в шерстяных джемперах, копошатся под машинами и возле машин; пахнет трубочным табаком, смазочным маслом и бензином, на стенах прыгают тени людей.
Когда к конюшне подошло маленькое общество – узнать, почему не подан автомобиль, который должен был в пять часов забрать сестру Берб, шоферы хотели стать во фронт, но Винфрид остановил их жестом.
– Только без церемоний, ребята, мы ведь пришли не для того, чтобы помешать вам, – как раз напротив.
Шофер Корш, черноголовый и коренастый, вынырнул из-под машины.
– Сломалась ось, – сказал он, – вот и остановилась наша машина. Видите – раздвинула передние ноги, словно такса. Если бы застигла нас такая беда посреди леса, где рыщут голодные волки…
– Ах ты, боже мой, – рассмеялся Винфрид, – пустили бы в ход револьвер или карабин. Только и всего. Шоферу полагается по уставу держать их справа от сиденья или в багажнике…
Корш рассмеялся. Он был родом из Вупперталя и часто переходил на рейнский диалект.
– А зачем бы этому самому шоферу таскать с собой карабин, когда теперь мир? – И он указал на стол, где лежал раскрытый номер «Кёльнише Фольксцейтунг». На газете были разложены гайки, шурупы, инструменты. Выделялся набранный жирным шрифтом заголовок «НА РОЖДЕСТВО МИР С РОССИЕЙ», а под ним более мелким шрифтом, но решительно и определенно: «Средства производства должны остаться в частных руках».
Посетители мельком просмотрели эти заголовки. Только вечером, когда Бертин писал Леноре, ему пришло в голову, что «Кёльнише» – самая распространенная из всех газет католической партии Центра. Она оказывает значительное влияние на католическое население, начиная от заводчика и кончая женой шахтера. Значит, «Кёльнише Фольксцейтунг» уже дает наказ будущим немецким делегатам на мирной конференции. Лауренс Понт, земляк Корша и потому более близкий ему, чем швабы, силезцы и бранденбуржцы, служившие в штабе, указал на этот заголовок и спросил:
– А если русские не будут считаться с этими лозунгами «Кёльнише Фольксцейтунг»? Если они приступят к конфискации и национализации?
– Ну и что ж! – ответил Корш, играя шурупами и гайками. – Против этого что же скажешь? Любой солдат в любой армии понимает: если в такой мировой войне вся нация, от мала до велика, защищает государство, не сыщется ни одного человека, если только у него все клепки целы, который хотел бы сохранить прежний несправедливый порядок. Н-е-ет, господин фельдфебель, пусть только подпишут мир и мы благополучно вернемся домой, тогда и Германию надо будет переиначить. Имения помещиков раздробить на маленькие участки да сдать их в аренду тем, кто поселится здесь и сам будет выращивать капусту и картофель. Ну, а рудники, шахты и все наши прекрасные заводы, где теперь женщины делают снаряды, – почему их не сделать такой же государственной собственностью, как железные дороги, почта, каналы? Можно провести голосование во всей армии. – Ему хотелось сказать стишок, который вертелся в голове у всякого солдата, и молодого, и старого:
Всех равно корми, всем равно плати,
И давно война была бы позади… —
но вдруг он увидел погоны Винфрида, блестевшие в свете карбидных ламп – правда, на них еще не было второй, капитанской звездочки, – и проглотил стишок.
– К утру машины будут отремонтированы? – спросил Винфрид, круто меняя тон и тему разговора.
– Непременно, господин капитан, – ответил Корш, и оба шофера, его помощники, прогудели: «Непременно, непременно».








