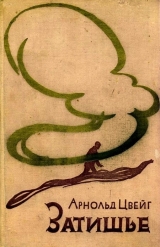
Текст книги "Затишье"
Автор книги: Арнольд Цвейг
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 29 страниц)
Мы уже наперед подозрительно относились к этому ящику. Мы видели в нем попытку вкрасться к нам в доверие и узнать, не собирается ли кто жаловаться. Мой сосед Халецинский сказал тогда после команды «вольно»:
– Не знаю, какому дураку придет в голову опустить сюда что-нибудь.
– Я разрешаю себе заметить, Август, – предостерег его Карл Лебейде с присущей ему язвительной вежливостью и чисто берлинской невозмутимостью, – что за подобный пессимизм тебя могут уволить из армии.
Судя по вашему смеху, господа, вы поняли, что он намекал на кайзеровское изречение – «Пессимистов я не потерплю».
Из зарядной палатки донеслось хлопанье в ладоши – сигнал к возобновлению работ. Мы поплелись под гору, мы не торопились. Я внимательно разглядывал черные блестящие носки своих сапог, ступавших по желтоватому грунту, покрытому жухлой травой.
– Возможно, что это и есть решение, – сказал я негромко, – надо подумать. – И у самого входа в проветренную палатку, где уже раздавались и стук молотков, и гул разговоров, и громкие возгласы, я прибавил: – Большое спасибо, камрад!
Спокойно и насмешливо отвечая на укоры товарищей, которые из-за его опоздания потеряли несколько рабочих секунд, Паль незаметно ухмыльнулся. Перед ним уже стояли три негодные железные гильзы в ожидании, пока он извлечет из них взрыватели. Унтер-офицер Бэнне собирался взяться за них сам, но, разумеется, никто не умел справляться с этим делом так, как Паль, и три гильзы одна за другой быстро покатились вдоль длинного стола, очищая место для последующих.
Значит, с этого и надо начать, если хочешь добиться, чтобы некие личности попали туда, где им быть надлежит. Только напиши письмо, а там видно будет, что получится. Конечно, это и имел в виду Паль, когда говорил о новом почтовом ящике.
Но таким наивным, как думал Паль, я все-таки не был. Ввинчивая блестящие медные капсюли в первые готовые заряды, я уже твердо знал: надо найти безобидный и в то же время достаточно правдоподобный предлог связаться с информационной службой командующего тяжелой артиллерией – заявление следует адресовать именно туда. Увидев, с кем мне предстоит иметь дело, я пойму, говорить мне или молчать. Время, чтобы выяснить все, что нужно, у меня было. В армии все солдаты занимаются своими частными делами, почему же мне быть исключением? Война длится уже два года. Если она зимой кончится, вся моя жизнь вновь будет подчинена одной цели – завершению курса юридических наук. За время войны я потерял два семестра, возможно, потеряю и больше; увольнение из армии произойдет ведь не сразу, предпочтение совершенно справедливо отдается боевым частям. Как же мне получше подготовиться к получению звания асессора? Зачтут ли мне часть времени, проведенного в армии, в счет обязательного года практики на должности референдария в прусских судах? Если конец военных действий не за горами, нельзя ли получить специальный отпуск на предмет окончания университета? Уж какой-нибудь предлог я рассчитывал найти, сочинить. Выставить свои писательские дела в качестве предлога я не решался, в прусской армии они никогда почетом не пользовались. В Австрии или Италии – пожалуй, но только не в долинах рек Шпрее и Хафель.
Глава четвертая. Челобитная– Дня через два я попросил вестового привезти мне из армейского магазина в Дамвиллере три листа писчей бумаги, взял из них один, сложил его по всем правилам, как нас учили в школе, и написал в левом углу сверху: «От нестроевого солдата Вернера Бертина, нестроевой батальон 1/X/20, парковый лагерь Штейнбергквель, немецкая полевая почта № такой-то и такой-то – прошение». В левом углу внизу я начертал: «В инспекцию пятой армии, при штабе командующего тяжелой артиллерией № 5», – а на правой стороне листка изложил свою просьбу.
Бертин, расстегнув куртку, извлек из внутреннего кармана сложенный вчетверо лист бумаги, который он, уходя, достал из ящика своего, стола, бережно расправил его, как того требовали слежавшиеся на сгибе складки, и с кривой иронической усмешкой над самим собой стал читать:
«Нижеподписавшийся, призванный в армию вследствие ошибки штаба военного округа в Берлине – адрес: Шенеберг, Папштрассе, – был вынужден прервать подготовку к защите дипломной работы по философскому факультету. Благодаря любезности руководства университета им. Фридриха Вильгельма нижеподписавшийся числится в списках студентов, которые находятся в отпуску по случаю пребывания на фронте. Мобилизованный в апреле 1915 года, он, получив назначение в нестроевую часть, с августа того же года непрерывно находится на фронте: сначала в Лилле, затем в Сербии и, наконец, под Верденом. В начале текущего месяца он получил четырехдневный отпуск на предмет женитьбы, включая два дня на дорогу. За этот срок у него не было никакой возможности заняться своими университетскими делами. Ввиду того что война затягивается, а на войне все его время поглощает чисто физический труд, возникает опасность, что плоды почти пятилетних занятий в университете пропадут даром. Признанный на всех освидетельствованиях годным к гарнизонной службе, он разрешает себе войти с предложением использовать его в качестве референдария при военно-полевых судах. Это позволило бы ему собрать и обобщить весь необходимый материал и по окончании войны написать свою дипломную работу на тему „Правовые представления о суде над умершими у древних народов“».
– И закончил я следующим веским соображением: «Я был бы чрезвычайно признателен за внимание к моей просьбе, ибо те исключительно большие жертвы, которые уже понесло на полях сражений научное и культурное пополнение Германии, заставляют ведущих деятелей нашей культуры опасаться за ее будущее». Засим следовала моя подпись.
Медленно кивая, Бертин пустил копию прошения по кругу своих слушателей, а когда те вернули бумагу, сложил ее и спрятал в боковой карман кителя.
– Вы, конечно, опять смеетесь, Винфрид, – продолжал он. – Вполне понятно. Не смешно ли в самом деле: этакая интеллигентская наивность! Ясно, что в глазах военных дипломная работа на подобную тему – материал для сатирического журнала! Заниматься древними поколениями, с полной серьезностью вершившими суд над мертвыми душами! Но вспомним, что с четырнадцатого года наши писатели по поручению министерства иностранных дел беспрестанно вколачивали в головы населения у себя в стране и за границей, что, если бы не мы, Европа погибла бы, что исцеление миру принесут только немецкий дух и немецкая культура. Разве не позволено было проверить на примере, как ценят у нас культуру?
Накануне войны в Зольне под Мюнхеном, в чудесные дни и ночи, я занимался темой суда над мертвыми душами, делал наброски и записи, а несколько позже на этом же материале написал статью «Магия и закат культуры»; мне и в голову не могло прийти, что мне суждено будет выступать адвокатом умершего и бороться за восстановление его прав. Вы эту статью читали, Познанский, так скажите же, разве я не доказал, что недостаточное понимание закона причины и следствия приводит к падению нравов и трагической гибели? Всемирный успех римской цивилизации, ее торжество над греками, семитами и варварами объяснялось тем, что она клала в основу решения социальных задач свой технический гений и сильную политическую волю. Рим нигде не подменял реальной действительности эмоциональным фантазированием и торжественными жертвоприношениями. Не стану отрицать, что я с величайшим удовольствием изучал представления, на которые опирались эти отошедшие в прошлое культы. Умершего, прозрачного, как стекло, древние ставили перед судьями душ, взвешивали его земные деяния и устанавливали потрясающее равновесие между добром и злом, между долженствующим и содеянным. Сердце мое трепещет от догадок, я восхищаюсь нравственной гениальностью и поэтической силой этих эпох, я чувствую, как во мне оживают пласты, восходящие к еще более далекой древности, чем времена Хамураби и первых фараонов. Египтяне и этруски тех веков считали жизнь человека после его смерти гораздо важнее его земного существования, важнее жизни на ярком дневном свете. И только вместе с Сократом и Платоном, Исайей и Кодексом жрецов медленно пробивала себе дорогу в государственном строе общин струя реалистических норм поведения. Я всегда знал, что такого рода представления подсознательно звали меня к борьбе за юного Кройзинга, они оплодотворяли меня идеями, укрепляли. Нынче, жестоко проученный, я никогда не забываю, что я рядовой ополченец, и мне самому кажется невероятным мое тогдашнее «я». Но, представьте себе, душевно я не был одинок, кто-то нашептывал мне, что предпринять и как поступить, тени умерших друзей жили во мне.
Да, надо помнить еще об одном обстоятельстве. Именно к этому времени я просчитался в бюджете своих душевных сил. До женитьбы я ощущал себя свежим, физически закалившимся, очень крепким, смешливым фронтовым кули. В ту пору, в начале шестнадцатого года, я начал входить в известность как писатель, С пятнадцатого года люди все больше и больше находили в чтении книг средство уйти от суровой действительности; на исходе второго года войны все устремились в мир фантазии. Границы были наглухо закрыты, поездки внутри страны представляли собой сомнительное удовольствие, железные дороги были перегружены постоянными перебросками войск, и вдобавок тогда уже начались затруднения с углем. А в воображаемом мире рассказов было невыразимо легко и прекрасно. Все, что печаталось, бурно поглощалось, читающая публика обратилась и к нашим книгам, книгам молодых писателей. Мой роман «Любовь с последнего взгляда», пренебрежительно замалчиваемый критикой, четыре года пролежал почти незамеченный, к великому огорчению моего издателя. И вдруг о нем заговорили, он дождался внимания и интереса, понадобилось новое издание. И за несколько месяцев оно полностью разошлось. Моя молодая жена получала гонорары, извещения о переизданиях, запросы от издателей, не залежались ли у нее рукописи моих талантливых рассказов.
Не залежались ли! В Крейцбурге у меня в чемодане оставалась гора ненапечатанных новелл, незаконченный роман, наброски к книге, задуманной как продолжение моего первенца. Жена посещала моих родителей, с чувством скорби и вместе с тем счастья забирала рукописи к себе на квартиру, в Далем. По моим указаниям она заключила выгодный договор с одним весьма уважаемым мюнхенским издательством: двенадцать рассказов, собранных в одной книге, издательство обязалось выпустить осенью. Это были те самые двенадцать рассказов, которые мы с женой на протяжении нескольких чудесных месяцев вместе гранили, полировали, и в результате получились до блеска отшлифованные новеллы, одни – слабее, другие – сильнее, но в общем букет вышел неплохой. Во мне проснулся писатель, который до скрежета зубовного отстаивает каждую свою запятую. Я пообещал, что буду сам держать корректуру моей новой книги. Сверстанные листы пересылались мне через полевую почту. Встреча моя с Кройзингом совпала с началом работы над корректурой. К концу августа книгу нужно было полностью подготовить к печати; мои рассказы, заключенные в красивый переплет и напечатанные пока еще на хорошей бумаге, должны были увидеть свет в Мюнхене к открытию осенней ярмарки.
Мне не следовало браться за эту работу. Каждый рассказ нес в себе особые, ощутимые только для меня и Леноры ароматы, трепет свободной и теплой жизни, бытия, подчиненного лишь внутренним, человеческим побуждениям. Было бы лучше, разумеется, если бы все это могло передаться и рядовому читателю. Но в те времена я исповедовал в вопросах формы приверженность к литературным традициям; я прятал свою независимость за отточенной, прозрачной прозой.
И вот на протяжении дня я был солдатом нестроевой роты, номером, которого любой ефрейтор мог отбросить в ничто примитивнейшего бытия, для которого страховой агент Глинский означал неприступную вершину, а младший лейтенант – божество судьбы; который ел из котелка, в минуты отдыха бил вшей, был на ты с портовыми рабочими, батраками и ассенизаторами и который погиб бы, если б не сумел без излишнего трения включиться в этот мир, другими словами, пребывать в состоянии расщепленного корнеплода. Но вот кончался рабочий день, и в те несколько еще светлых часов, которые можно было провести за стенами барака, а потом при свете лампы, когда вокруг галдели, смеялись, резались в карты, мне приходилось будить в себе писателя Вернера Бертина, сосредоточенно прослеживать ход каждой фразы, выбирать наиболее сжатое выражение, проверять музыку каждого абзаца и в зависимости от нее – расстановку знаков препинания. Это, знаете ли, стоило большого нервного напряжения, делало меня раздражительным, ибо рано утром я еще не мог забыть в себе того интеллектуального человека, каким накануне вечером засыпал. Громкий топот множества сапог, все то низменное, что меня окружало, я должен был каждое утро проглатывать, как жабу, о которой говорит Золя. Но, если бы я утратил связь со своими товарищами, я погиб бы. Глинскому не стоило бы труда подвести меня под самую жестокую и несправедливую кару, продырявить ту гладкую защитную корку, которую мне обеспечивали знание служебных обязанностей и отказ от сопротивления. Разумеется, без последствий эта двойная жизнь остаться не могла.
Мое прошение, подписанное и вложенное в конверт, исчезло в зеве серого жестяного ящика, и некоторое время я ничего не слышал о нем. Мы делали заряды, с каждым днем все лучше и быстрее, с каждым днем все в большем количестве. Мы пили по утрам нашу черную до горечи кофейную бурду с сахарином, получали к ней хлеб с повидлом, в обед – постный суп с картофелем и волокнами консервированного мяса, в лучшем случае – с фрикадельками, на ужин – хлеб с топленым свиным салом или другими консервами и были счастливы, если нам выдавали вместо них крошечку сливочного масла и окаменелого сыра, добрую половину которого нашей роте пришлось выкинуть, когда нас перебросили из крепости Бонвю в Сербию. Мы писали, как обычно, письма, читали газеты и книги, уничтожали ползавших по нас вшей, очень много играли в карты и еще больше – в шахматы. В ту пору нас охватило буквально какое-то шахматное бешенство. Все чертили на кусочках картона или на дощечках, добела обструганных нашими столярами, черно-белое поле с шестьюдесятью четырьмя квадратами, а вечерами выжигали или вырезали фигурки либо из дерева, топорные, словно кремневые статуэтки, найденные в могильниках, либо из глины, такие же топорные, точно первые опыты гончаров. Оглядываясь теперь на это время, я будто возвращаюсь к дням детства, мальчишеских забав и занятий. Мы вечно что-то мастерили, вырезывали, лепили крошечные фигурки, обжигали их, как послушные трудолюбивые дети, которые стремятся заслужить благоволение отца и поэтому благонравно проводят время, отведенное им для игр. Мы и в самом деле были детьми отца, имя которому – государство; этот отец нас одевал, кормил, давал нам кров, гнал на работу, воспитывал, и, так как он подарил нам жизнь, ему разрешалось отнять ее. Но за то, что он еще не отнял ее, и в благодарность за это мы обязаны были слушаться и не смели обижаться, если он нас по-отечески распекал за глупые поступки.
Как-то в обед, когда я, не чуя беды, тащился снизу, от водопроводного крана, в лагерь с только что ополосканным котелком, висящим на поясе, я увидел запыхавшегося писаря, который бежал мне навстречу.
– Бертин, чудак, что ты опять натворил? Ступай скорее в канцелярию, тебя вызывает подполковник Винхарт!
– Подполковник Винхарт? – переспрашиваю я уже на бегу. – Не имею чести знать этого господина, – и, мысленно оглядываясь на последние недели, добавляю: – Я ничего недозволенного не сделал.
Обмениваясь обрывками фраз, мы добежали до канцелярии, и не успел я собраться с мыслями и отдышаться, как на меня надвинулось нечто краснолицее, седоусое, белоголовое, с серо-стальными глазами, метавшими в меня молнии.
– Вот это и есть тот самый солдат, – указывает на меня точно из-под земли выросший Глинский, весь изогнувшийся в раболепном поклоне.
Солдат в тиковой куртке и бескозырке, с алюминиевым котелком на ремне, в серых штанах, заправленных в высокие сапоги, – зрелище далеко не эффектное. Я, разумеется, щелкаю каблуками и, как положено, смотрю в глаза господину подполковнику Винхарту прямо и благоговейно, словно взираю на самого господа бога.

– Значит, это вы возымели дерзость подать нам жалобу! – резким, хлестким, в каждой своей нотке колючим голосом выкрикивает низенький человечек в золотых погонах.
Жалобу? На мгновение у меня перехватывает дыхание. Вот как, оказывается, истолковано мое прошение!
– Я никакой жалобы не подавал, господин подполковник! – отвечаю я. Воздух с трудом проникает в мои легкие, кое-как проталкивается в них.
– Та-та-та-та, – отвечает начальство, – бабушке своей рассказывайте сказки. Вы жалуетесь, что вам дали слишком короткий отпуск на предмет женитьбы, но из трусости не говорите об этом открыто. Хорош солдат! Покажите свой котелок!
Самый жалкий солдатишка – и тот по мере сил содержит свой котелок в чистоте. Ведь и кошка вылизывает свое блюдце. Моя алюминиевая посудина, вся во вмятинах, до черноты закопчена на сербском угле, но внутри сияет белизной, как положено. Солнце, которое стоит прямо над нами в огненно-синем небе, льет свои лучи, словно расплавленный металл, в сверкающе-белый сосуд.
– Ну, это еще так-сяк, – несколько тише рычит широкоплечий лев. – Но вы помните, где находитесь, а? Мы деремся не на жизнь, а на смерть, а вы суетесь к нам со своими частными делишками.
На голос его сбежались люди, толпа окружает нас почтительным кругом, я вижу любопытные и даже изумленные лица.
Слова о нашем положении имели целью окончательно сразить меня, но они-то как раз и помогли мне овладеть собой.
– Мне это известно, господин подполковник, – отвечаю я. – И я бы не дерзнул, разумеется, подать прошение. Я это сделал по предложению командования, объявленному нам во время переклички две недели назад: не обременять нашими заботами родных в тылу, а с полным доверием обращаться непосредственно к начальству.
Подполковник дает мне высказаться, не перебивает меня, глаза его поблескивают строго, но не глупо и даже не зло. Поэтому я решаюсь прибавить:
– Я сказал чистую правду в своем прошении. Я референдарий, родом из Силезии, женат, признан годным к несению гарнизонной службы, образование – мое единственное средство к жизни. Я прошу, если есть возможность, использовать меня в соответствии с моей профессией.
Недурно это вышло. Я, сын государства, школьник Бертин, ответил господину директору без запинки, и мысли у меня не распылились, что так часто случается с многими. Что же скажет директор?
– В данный момент об этом и речи не может быть. Нам нужна каждая пара рук, надо думать, вы человек образованный, сами это понимаете. Через шесть недель положение будет иное, и тогда вы сможете получить отпуск. Обратитесь в канцелярию своей роты, попросите внести вас в списки отпускников и не пишите всякой неуместной ерунды. Можете идти!
Движение, которое делает солдат вслед за этим возгласом, многим помогало скрыть растерянность. Неожиданный разнос так оглушил меня, что не помню, как я очутился минут семь спустя в моей ложбине, на лугу, где обычно спал после обеда. Положив под голову вязаный жилет, надвинув на глаза бескозырку и все еще дрожа всем телом, я лежал и старался разобраться, что же, в сущности, было мне сказано, переварить это. Мне следует явиться в ротную канцелярию на предмет получения отпуска и сослаться на него, на подполковника Винхарта! Глинский стоял тут же, он был свидетелем. Но ведь с точки зрения рядового это означает полный успех! Что может быть лучше отпуска? Можно ли пожелать себе что-либо лучшее? Было ли в этой войне, кроме слова «увольнение», более драгоценное слово, чем «отпуск»? Думала ли рота, корпус, армия, весь воюющий народ о чем-нибудь другом, кроме отпуска? Отпуск! Мне обещан отпуск! Происходят знамения и чудеса. Но радоваться своему открытию я мог лишь наполовину: отпуск не был для меня самоцелью, я искал прежде всего человека, который помог бы сдвинуть с места дело Кройзинга. Подполковник меньше всего годился для этой цели, осмелься я даже еще раз к нему обратиться. Теперь и младенцу ясно, что этот столь безобидный на вид жестяной ящик – ловушка и ее назначение – обмануть нас, заглушить наши крики о помощи. Какое болезненное недоверие! Какая нечистая совесть! Как перейдены границы всех понятий о повиновении! Горе мне было бы, если бы я написал свою челобитную с тайной мыслью жаловаться!
Еще раз перебирая в уме последние минуты, я отчетливо увидел, как переломилось настроение у этого дикого льва. Уверенный вначале, что он поймал кляузника, он очень быстро разглядел мою наивность и, не меняя тона, переменил, однако, свое мнение. Но, к сожалению, тон делает музыку, всегда и везде только тон… Точно так же, как начальство не прощало нам малейших нарушений формальностей, так и мы не могли пропускать мимо ушей их бешеных окриков. Тот, кто на меня кричал – унижал меня, я чувствовал себя тряпкой, подстилкой, о которую вытирают ноги, в душе поднималась такая сумятица, что даже благожелательные слова воспринимались как удары кулаком. Подполковник, несомненно, не желал мне зла. Но его чин, его звание… В начале августа начнутся отпуска. До меня очередь дойдет в середине октября, подполковник Винхарт твердо обещал мне. С господином Глинским я не желаю иметь никакого дела. Ничего не предпринимать до увольнения в отпуск я, конечно, не мог. Но только глупец пытается перепрыгнуть через собственную тень.








