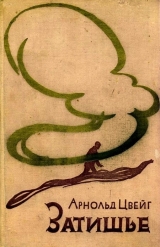
Текст книги "Затишье"
Автор книги: Арнольд Цвейг
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 29 страниц)
Понту и Винфриду, Познанскому и Берб хотелось сказать Бертину что-нибудь участливое, дать выход своему возмущению, отмежеваться от этого крокодила Янша. Особенно призадумался Винфрид. К концу рассказа он стал бегать из угла в угол, заложив руки за спину. Лицо у него перекосилось, правая бровь высоко взлетела, левый глаз сощурился. Все напряженно слушали, на него не обращали внимания, а, если бы кто и спросил, что с ним, он мог бы отделаться шуткой, свалить все на освещение. На самом деле двойственное выражение его лица было точным оттиском его душевного состояния. Он, в сущности, не знал, какую ему занять позицию, но чувствовал, что какую-то определенную занять необходимо.
Бертин был ему симпатичнее большинства тех, с кем он был на равной ноге, с кем встречался на пирушках, за обедом или во время работы. В то же время в нем говорил прусский офицер, которому возбранялось слушать речи, подобные тем, какие здесь произносились. Перевес в его душе брал то молодой человек нашего времени, изучавший археологию и увлекавшийся раскопками этрусских древностей, то питомец офицерской семьи, обязанный в корне пресекать всякую критику. А порой в нем заговаривал опытный солдат, которого никто не мог разубедить в том, что в настоящей войне власти – это знамя, под которым одерживаешь победы, пусть даже оно не сопутствует тебе в бою, а находится где-то в Берлине или в главной ставке, тщательно посыпанное нафталином. Иной раз его раздражал плохо скроенный мундир и недостаточная солдатская выправка этого типа Бертина, который так спокойно повествовал о своем превращении из человека доверчивого, готового идеализировать все происходящее, в нынешнего критика. Винфрид, однако, понимал, что причиной его тревоги был страх, который вызвало в нем «воспитание» Бертина. Что, если Бертин не единственный? Что, если вся армейская масса идет по тому же пути, если она начинает думать, трезво смотреть на вещи? Это было бы неплохо в момент заключения мира. А при условии, что одновременно и французы, и англичане, и итальянцы покончат со всеми иллюзиями, это было бы даже очень желательно.
Англичане все еще массами прибывают на Западный фронт. Неограниченная война силами подводного флота, столь превозносимая Яншем, длилась уже десять месяцев. Ни одна из грандиозных авантюр, о которых так высокопарно возвещали в начале подводной войны, не осуществилась; и речи нет о том, чтобы Англия на коленях просила мира, нет там ни голода, ни мятежей. Зато в Германии есть и голод, и эпидемии, все сильнее нависает угроза стачки шахтеров и рабочих военной промышленности. Правда, профсоюзные бонзы, несмотря на то, что немецкие рабочие с таким пристальным вниманием следят за Россией, пока, слава богу, удерживают их от выступления в собственной стране. Теперь в английские военные части ежедневно прибывают американцы. Правда, некий консервативный министр заявил, что они не умеют летать, не умеют плавать и толку от них мало. Но ведь это глупо, так же как глупо было утверждать в феврале перед всем светом, что немецкие подводные лодки, точно какие-нибудь пираты или викинги, имеют право брать на абордаж, другими словами, торпедировать все, что покажется на горизонте.
Мысль человеческая бежит быстро; слушаешь и осмысливаешь слова твоего собеседника, но за этим, точно за занавесом, текут твои собственные мысли. И, пока Бертин рассказывал о своем возвращении в барак и канцелярию, имя Тирпиц вызвало у Винфрида воспоминание о том, как он некогда попался на удочку. Он вдруг осознал, что в 1916 году битва на Сомме и месяцы верденских боев сделали его более развитым, более зрелым. И этот процесс был непосредственно связан с подводной войной.
Винфрид опустился в кресло за письменным столом так же бесшумно, как раньше двигался по комнате, взял сигарету и с любопытством окинул взглядом окружающих, особенно Берб.
Еще до того, как студент философии Винфрид записался в добровольцы, он горячо почитал одного человека, считал его спасителем родины – это был гроссадмирал фон Тирпиц, создатель немецкого военного флота и духовный вождь союза морских офицеров, а впоследствии «отечественной партии». Тогда для Винфрида, как и для десятков тысяч его сверстников, этот мореход был символом мирового господства, мирового могущества Германии. Маленькие пронзительные глазки, клинообразная бородка, темно-синяя морская форма, обильно украшенная золотом… При одном взгляде на портрет Тирпица сердце юного Винфрида билось сильнее и чаще. Этот человек олицетворял для него все, что можно требовать от военного и политического лидера: широту горизонта, знание дела, бескорыстие. Все восхищало тогда юного Винфрида в гроссадмирале: вот Тирпиц на ораторской трибуне, вот Тирпиц, окруженный восторженно аплодирующей толпой. Гроссадмирал фон Тирпиц, создатель германского морского флота, глашатай растущего могущества Германии, господства Германии над народами земного шара…
Винфрид, подперев голову рукой и мысленно созерцая Тирпица, оглядывался и на самого себя – молодого, восторженного патриота. Он горько сжал рот, пожевал сомкнутыми губами и дернул подбородком. Горько, горько вспоминать, каким молокососом он был каких-нибудь полтора года назад. Теперь, когда в памяти Винфрида, прошедшего через опыт войны, всплывали собрания, на которых выступал Тирпиц, он чувствовал запах крови, человеческой крови, и немецкой особенно. Иллюзии жили в нем, пожалуй, до весны 1916 года, когда гроссадмирал вышел в отставку. Грустные речи некоторых руководителей фракции точно соответствовали тогда настроению Винфрида. Сейчас он и на эту сброшенную с себя кожу взирал, высоко вздернув брови.
С тех пор как Лихов, его дядя, был переведен на Восточный фронт, Винфрид хорошо узнал воинские части, находившиеся в округе «Обер-Ост», и покровы спадали с его глаз один за другим. Политические мотивы, которыми руководствовалось отечество, представали перед ним во всей своей наготе, с тягостным чувством открывал он, что немецкая политика не только разбавлена водой, но и замешана на лжи; в этой политике было повинно и адмиралтейство, оно-то в особенности. В противовес возникло некое новое явление – буржуазная и социал-демократическая оппозиция. Особенное значение приобрела именно буржуазная, возглавляемая депутатом Гемерле. Он был первым, кто решил лично изучить вопросы, за которые шла борьба в рейхстаге. Его беседы с генералом Клаусом в Брест-Литовске еще и сегодня не утратили злободневности. С той поры Ганнес Гемерле превратился в искателя правды, опрокидывающего все политические кулисы, всю бутафорию, которой стараются обмануть немецкий народ в тылу, вместо того чтобы сказать ему ужасную правду: войну военными средствами уже выиграть нельзя.
Гемерле был шваб, а Берб – его, Винфрида, Берб – швабка. Сестра ее Гретель Реттих жила в Ульме, была замужем за советником народного просвещения и дружна с женой коменданта крепости. Обе подруги, и Гретель, и Марта, сочетали в себе разнообразные политические черты, которыми одарены швабы: здравый смысл, любовь к народу и к его судьбе, жажду мира, волю к правде. Берб называла письма сестры «передовицами Гретель», а Винфрид – «скорбными передовицами».
С месяц тому назад Гретель писала, что Гемерле приехал в Ульм, отчитаться перед своими избирателями, пославшими его в рейхстаг. А за десять дней до этого он выступал во Фрейбурге и разоблачил лживые сообщения морского министерства: не триста подводных лодок, а только пятьдесят три были налицо в феврале, когда началась неограниченная роковая подводная война. Вместо того, чтобы ослабить Англию, ее только довели до белого каления.
Что же произошло после этого в Ульме? Конечно, супруг Гретель не мог запретить депутату рейхстага произносить речи. Но он мог запретить и запретил ему даже мимоходом касаться таких военных вопросов, как подводная война. И Гемерле был вынужден подчиниться. Ему пришлось, к удивлению политически мыслящей части слушателей, переключиться на другие темы, на которые и без него бесконечно болтали в 1917 году. В 1917 году таких тем было немало. Да, Гемерле – это не Либкнехт, писала в заключение Гретель, как бы подчеркивая пропасть между «политической мудростью» Гемерле и страстной самоотверженностью брошенного в тюрьму борца-одиночки.
Таким образом, семья Озан указывала будущему зятю и шурину путь, возвращавший его назад, к буржуазному патриотизму, который господствовал и в собственной его семье. Критическая мысль и патриотизм отнюдь не исключают друг друга, подчеркивал всегда Винфрид-отец; наоборот, они нуждаются друг в друге для успешной борьбы с «парадной» политикой, которую так часто называют «вильгельмовской».
Но и у Лиховых было это здоровое начало. Винфрид почти машинально потянулся через стол и взял в руки фотографию дяди, которую он, готовя ему рождественский сюрприз, увеличил и вставил в бронзовую рамку, самовольно удалив из нее кого-то из семьи Тамшинских. Пристально всмотревшись в выражение глаз старого офицера, Винфрид тряхнул головой, поставил снимок на место и стал слушать снова. Умные глаза, думал он, умное сердце, откуда только старик все это взял!
Надо сказать, что Лихов первым восстал против увлечения племянника Тирпицом. Сначала он вел себя сдержанно и тактично: пожимал плечами, бросал язвительные замечания, но под конец пошел в лобовую атаку и нанес решительный контрудар. «Где твои глаза, где твой разум? Ведь от этого человека слово правды можно услышать разве что ненароком. Он врет, он заражает бациллой лжи весь свой штаб; он затуманивает тысячи бараньих голов своим бахвальством и просто погубил бы страну, если бы не мы, сухопутные крысы, кое-как расхлебавшие кашу, которую он заварил. Ставлю ему в счет и волнения, вспыхнувшие этой весной на судне „Луитпольд“ из-за плохого довольствия. Наше мировое господство! Наше священное достояние! Я согласен с небезызвестным Бисмарком, который тоже кое-что смыслил в немецкой политике, а он говорил, и я хорошо запомнил его слова, что вся марокканская руда не стоит крови одного бранденбургского гренадера. Для меня сей принцип незыблем, невзирая на белые стоячие воротнички, синие мундиры, „гип-гип-ура“ и весь этот блеск и треск. Когда Тирпица отстранили, я выпил полбутылки шампанского за здоровье его величества, я один, несмотря на все предостережения врачей и на указательный палец Мальхен, грозно поднятый вверх».
И Винфрид наконец понял: да, дядей его руководило не соперничество между флотом и армией, а здравый смысл, присущий Лиховым. Этот старый помещик и охотник нюхом распознавал, где правда, где ложь, как его собаки чуяли старые и новые следы серны. А уж почуяв фальшь, он вонзал зубы в свою жертву и не выпускал ее.
Глава пятая. Наряд вне очередиБертин вновь закурил трубку, сделал две-три затяжки и рассмеялся.
– Они думали меня особенно уязвить, еще сильнее разбередить рану, назначив в караул. Да только плохо они разбирались в людях. Ведь все равно я проспал бы не больше двух-трех часов в эту октябрьскую ночь. Слишком большой, огромный материал надо было продумать и переварить. Да это же благодеяние – прошагать два часа по свежему воздуху, в полной тишине, вместо того чтобы валяться в бараке, в этой зловонной пещере, и провести на нарах бессонную ночь. Унтер-офицер Мейлозе, в мирное время батрак, угадал инстинктом опытного живодера, что в караул меня назначили в наказание. Поэтому он выбрал самые трудные часы, от двенадцати до двух ночи и от шести до восьми утра, когда сразу же начинается рабочий день. Но меня это мало трогало. Всем своим существом я чувствовал, что мой организм вконец изнемог, меня бросало в жар и в холод, меня трепали лихорадка, лихорадка разочарования, лихорадка душевная. Наутро я заявлю, что более, и высплюсь. Я бросился на нары и положил под голову шинель, не дотронувшись до ужина, только выпил много кофейной бурды.
Когда караульный, которого мне предстояло сменить, разбудил меня, я выспался настолько, насколько можно выспаться в жару. Караул я нес у входа в парк, возле пригорков, между которыми были сложены снаряды. Шагая взад и вперед по дощатым настилам, я иногда присаживался, чтобы дать отдых ногам, которые, казалось, были налиты свинцом.
Мне часто приходилось получать такие наряды. И я даже предпочитал нести караул в ночную пору. Летом я вообще спал мало. Как писатель, я привык к ночной работе и люблю часы безмолвия, которых так боятся мещане, – те часы, когда отсыпаются люди тяжелого физического труда. Под белесым ночным небом, обложенным тучами, я машинально шагал взад и вперед с винтовкой на плече, задумавшись, перестав даже чувствовать четыре с половиной килограмма, которые весила винтовка. Я думал. Я продумывал историю с моим отпуском во внутренней взаимосвязи ее частей, во всех ее измерениях. В ярком свете, который зажгла в моем мозгу лихорадка – теперь он смешался с озарявшими горизонт вспышками, с игрой белых, зеленых, красных огней за полосой леса, – я не упускал ни одной детали в картине, которая мне вдруг открылась.
Над подполковником, находившимся теперь далеко, взял верх майор, находившийся на месте. Моя свободная инициатива, искренняя готовность сообщить из чисто патриотических побуждений о возникших у меня планах сведены на нет ничтожным солдафоном во имя глупого и грубого верноподданнического чувства, которое он намерен вколотить в меня, пользуясь такой же глупой и грубой силой. А ко всему еще тщательно насаждаемая система надругательства над нижними чинами, которые не смеют, вернее, не могут защищаться в одиночку, а стоит им объединиться, как их подведут под статью «действия скопом» и они окажутся преступниками.
Я совершенно ясно проследил все происшедшее в его тончайших связях, вплоть до самой первоосновы, до истории с краном и французскими пленными, когда я, бородач, впервые обратил на себя внимание наших властителей. Я знал, что в моем лице они бьют еврея. Но еще с большей злобой преследуют они во мне своего непримиримого врага – духовное начало, живую душу, страстную жажду справедливости. Они долго ждали, прежде чем нанести мне этот удар, – не потому, что я был важной особой или исключительной личностью, но потому, что им надо было и меня превратить в забитого солдата, отомстить за все неприятности, которые причиняло им мое присутствие со времени истории с водой. Неприятности? Для всех этих глинских, грасников, яншей неприятностью было уже то, что старый толстяк полковник Штейн разволновался, когда я посмел напоить жаждущих и утешить пленных. И я, невинная овечка, я все это наконец понял. Да, я начал понимать!
Видите ли, мне было известно, что происходит в эту ночь на переднем крае. Правда, я никогда не служил в пехоте и не познал на собственном опыте, что составляет ее удел: эту смесь из грязи, порабощения, героизма, пальбы, темноты, голода и возбуждения. Но ведь я уже побывал на артиллерийских позициях под огнем, а фантазия у меня не из самых бедных. Я знал, что грязь, фонтаном взлетающая при попадании снаряда, несет с собой смерть. Я видел, как люди идут с перевязочного пункта, я провожал их от Азана до Муарея, говорил с ними, делился с ними табаком. То, что сделали со мной этой ночью, было ничтожнейшей из ничтожных крупиц, комком грязи, приставшим к сапогу, по сравнению со всесокрушающей бурей, с великолепной дисциплиной, служением родине, со всем, что происходило с солдатом на линии огня.
Однако то, что случилось со мной, заставило меня, кажется впервые, вглядеться в структуру войны, открыть глаза на силы, которые нами правят и которым мы служим со всей нашей преданностью, с радостной самоотверженностью, не за страх, а за совесть, которым мы позволяем за нашей спиной, за спиной всего народа обделывать делишки вроде тех, какие обделывает паразит Янш. О нем я еще во что бы то ни стало хотел узнать поподробнее.
До сих пор я считал историю с юным Кройзингом исключением, преступлением, из которого неправильно делать далеко идущие выводы. А сегодня мне открылся симптом, показывавший, что дело Кройзинга знаменательно. Такое радостное упоение, с которым втаптывали в грязь прекраснодушного дурака, было садизмом; власть в армии в течение всей этой мировой войны использовалась для удовлетворения страстишек мелких тиранов. Мое ходатайство об отпуске после многих месяцев безупречной службы послужило орудием родовой мести – мести мелкого редактора, бывшего главаря антисемитов, по отношению к свободному писателю, достигшему успеха благодаря своему дарованию, тогда как его враг, одержимая бездарность, всю жизнь просидел бы в редакции ведомственного листка, не будь войны, которая сделала его майором и преподнесла ему в подарок бесконтрольную власть над двумя тысячами солдат, выхваченных наугад из народной толщи. Такие янши – раковая опухоль на теле армии. Они и сотни им подобных могут вытравить из нас всякое воодушевление, преданность, радостную готовность жертвовать собой.
– Ну-ну, – сказал Винфрид. Он ничего больше не прибавил, эти два слога и без того выражали достаточно энергичный протест.
Бертин твердо посмотрел ему в глаза.
– Каждое слово, сказанное мною, трижды проверено, господин обер-лейтенант. В ту ночь я только начал думать и слишком сильно ненавидел, чтобы найти окончательные формулировки. Но то, что я начал понимать, уже не было опровергнуто, и боюсь, никогда и не будет.
– Боитесь или надеетесь? – спросил фельдфебель Понт.
– Возьмите под контроль военную бюрократию, – ответил Бертин, – избавьте рядового солдата от сознания, что он выдан на милость Янша и ему подобных, и вам не придется ставить такой вопрос. Тогда Антанта еще хорошенько подумала бы, прежде чем отвергнуть мирные предложения кайзера в декабре шестнадцатого года, а теперешние возможности заключить мир, безусловно, подхватила бы. Тогда мне не пришлось бы вам рассказывать, как перевоплощается человек, чем он был и чем стал. Тогда вы не заставили бы меня начать, повествование, о котором я, приступая к нему, и сам не знал, что оно примет такой неприятный оборот и так затянется.
В ту ночь громыхание, клокотание, раскаты, доносившиеся со стороны фронта, казались мне совсем другими, чем в начале сентября, когда я был в карауле последний раз. Тогда стреляли мы, и выстрелы наших мощных батарей, глухие, отрывистые, сливались в относительно негромкий гул, который катился с нашей стороны волнами, напоминая рев убегающего стада быков. Теперь все звучало иначе, приглушеннее, зато неописуемо злобно. То был град частых разрывов, смягченных расстоянием. Француз ударял по нашим позициям, точно выбивая барабанную дробь. Влажный ветер приносил к нам все эти шумы, и в моем воображении вставала четкая картина, так как вслед за взрывом доносился чмокающий звук: это обваливались стены окопов, засыпая блиндажи, даже в тех случаях, когда не было непосредственного попадания. Брызги яркого свистящего пламени; вой чудовищ над головами солдат, прижимающихся к земле, когда снаряды прокладывают себе путь на позиции артиллерии; невообразимая грязь на изрытом воронками поле, которое отливает мокрым блеском, а белые ракеты французов освещают его своими мертвенными лучами или горят красным и зеленым огнем; отупение человека, прожившего хотя бы сутки в этой обстановке, когда даже в относительно спокойные часы серенького дня сидишь под непрестанно моросящим дождем, а к тому же еще сокращение пайка, уже всюду вызывавшее ропот, борьба за жиры и мясо, по которым тоскует утроба и которые все труднее подвозить из-за французской артиллерии, – все это соединилось во мне в нечто осязаемое, в картину действительности. О, я хорошо знал, что идет война! Мы вгрызлись в местность, которая под нашими сапогами превратилась словно в ландшафт из грязи, взрывов, воды и смерти, в пустыню, которая одним видом своим отнимала у человека всякую надежду уйти отсюда целым и невредимым. Чем глубже мы вторгались, тем труднее было удержать завоеванное, тем бессмысленнее становился спор за никому не нужные окопы. Зато для французов движение вперед означало вытеснение врага из родной страны, и было ясно, что нам не перезимовать в этих пустынях: враг ни перед чем не остановится, чтобы изгнать нас. И я повторяю: это было время наступления Брусилова на востоке и похода румын. Старые и новые союзники наших врагов заставили нас крепко стиснуть зубы. Командование непрерывно взывало к нашему чувству долга, к мужеству и выдержке каждого отдельного солдата. Самое подходящее время для такого воспитания, какое вознамерился дать мне майор Янш.
В восемь часов утра я вернулся из караула, заявил, что болен, и вместе с другими больными направился в околоток.








