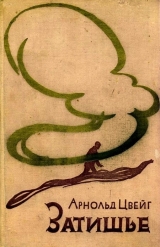
Текст книги "Затишье"
Автор книги: Арнольд Цвейг
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 29 страниц)
Бертин долго слонялся по развалинам Брест-Литовска: заглядывал в дыры подвалов, рискуя жизнью, проникал в современные многоквартирные дома; отведав обещанных ефрейтором Мау свиных рубцов с бобами, он отдохнул на своей койке в общежитии для приезжих солдат и ровно в три явился к доктору Вейнбергеру. И кто же сидел у него с сигаретой в руке за чашкой черного кофе?
– Господин обер-лейтенант! – удивленно воскликнул Бертин. – Вот это сюрприз! Что вас привело сюда – случай или судьба?
– Ни то, ни другое, – рассмеялся Винфрид. – Познанский, Понт и благословенный телефон. Ведь крепость кишмя кишит переводчиками, ординарцами и всяким людом, мне вряд ли удалось бы поговорить с вами наедине. Ну а здесь у нас ангел-хранитель в белом халате – доктор Вейнбергер. Его приемная – остров блаженных, а если не блаженных, то взыскующих мира.
Старший врач заказал еще кофе, нашлась у него и «офицерская» сигара для Бертина. Доктор Вейнбергер казался веселее, чем утром, – транспорт легких больных был составлен, солдат поздно вечером погрузят в вагоны импровизированного поезда-лазарета, и он медленно потянется из Мервинска в Вильно; локомобилей и осей у нас не слишком много, и поэтому раненых транспортируют главным образом ночью. Юргенсу поручено поместить маленького беспомощного Наумана под какую-нибудь крышу и оставить его в распоряжении военно-полевого суда, который с помощью Бертина снимет с него нелепое обвинение в государственной измене.
– Вам, может быть, придется еще остаться, мой дорогой, – сказал адъютант, – у нас есть для вас задание. У нас – это значит у меня и генерала Клауса, если можно впрячь в одну телегу такую неравную пару. Вам придется написать статью для «Газеты X армии». Надо позаботиться, полагает шеф, при посредстве пресс-бюро перепечатать статью для важнейших инстанций рейха. Заглавие статьи: «Искусство побеждать» или «Победа и мир» – как хотите.
Бертин сделал глубокую затяжку и выпустил дым через нос. Он посмотрел в карие, близко посаженные глаза Винфрида, обдумывая с молниеносной быстротой ситуацию. С ним говорят не как с солдатом, а как с писателем, затронули нерв, ведущий в сокровенную глубину его личности, нерв, от которого зависит формирование его характера и, быть, может, его будущность.
– Смею ли спросить, господин обер-лейтенант, – сказал он вскользь, – как обстоит дело с переговорами о перемирии? Правда ли, что делегация уехала?
– Она вернется, – ответил Винфрид. – Генерал Клаус вчера беседовал с руководителем делегации за ужином и после ужина. Русские – дети. И не сознают этого. Им нужно обеспечить благополучие всех, кто носит военную шинель, в том числе французов и англичан. Большевики-де понимают их интересы лучше, чем Клемансо и Ллойд-Джордж. Эта их причуда нас не касается. Если они непременно хотят ждать с заключением перемирия до тех пор, пока правительства Антанты не вправят им мозги, – пожалуйста, сделайте одолжение. Миссии союзников в Петрограде, эти их «друзья», хранят молчание и будут продолжать в том же духе, а может быть, даже обратятся к генералу Духонину, который в Могилеве еще разыгрывает из себя генерала. Генерал, окруженный офицерами, за которыми – пустота. Нет, самые трудные вопросы выяснены. Мы отказываемся от переброски войск, там, где она еще не начата, все солдатики и лошадки остаются на своих позициях, наши эксперты будут драться за Рижский залив и Моонзундские острова, и перемирие будет заключено – сначала на десять дней. А затем наши делегации соберутся снова в полном составе, и мы высидим мирный договор. Этот господин Ленин умеет держать в узде своих людей.
Доктор Вейнбергер влил в свое кофе немного коньяку.
– Французского образца, – сказал он, – а французы умеют жить. – Предложив коньяк Бертину, он обратился к Винфриду – Скажите лучше, господин обер-лейтенант, что общее мировоззрение делает из них дружный, хорошо спевшийся хор. Социализм – эта посюсторонняя коммунистическая религия – крепко спаял их. Они верят в рецепт, полученный от нашего земляка Карла Маркса: как сделать человеческое общество счастливым еще в этом мире.
– Начетчики, – сказал Винфрид, склонившись над своей чашкой кофе. – Без искусства книгопечатания они очутились бы в безвыходном положении. По словам Клауса, они утверждают, что Маркс изучил законы человеческого общества, его экономики, на самой действительности и так изложил эти законы, что, усвоив их, можно опять-таки воздействовать на действительность, на практическую жизнь. Книжица, где это записано, называется как будто «Капитал», и объемом она потолще библии. А Ленин истолковал это евангелие и продолжил, как апостол Павел продолжил учение Иисуса Христа. Теперь этот самый Ленин развернул деятельность в Смольном институте: он задался целью переделать настоящее и будущее по этой книжке. Мы не возражаем, пожалуйста, – прибавил Винфрид весело, – но только мы придерживаемся Фридриха, Наполеона и господа бога, да еще плюс сильные батальоны.
Три немца улыбнулись друг другу. Бертин стал размышлять вслух.
– Наполеона-то в конце концов неплохо били: и Кутузов, и Блюхер, и наш Гнейзенау. А Фридрих Великий отделался синяками только благодаря тому, что русская императрица Елизавета отправилась к праотцам.
– Отлично, – сказал Винфрид, – вы, как волшебник, читаете наши мысли. В статье, которую от вас требуют, как раз и придется сказать, что здание мира устойчиво лишь в том случае, если оно возведено на фундаменте победы, подлинной военной победы, и что не может быть прочной политической формации, если ее навязывают в результате поражения побежденному, то есть народным массам, которых никто не опрашивал насчет переустройства общества, ибо именно победа и мир…
– …решаются воюющими государствами и являются предметом торга, – закончил доктор Вейнбергер. – Совсем как у нас в Бадене: сделку совершают еврей и крестьянин, а корова или вол покидают свой хлев и, мыча, плетутся, куда их поведут на веревочке. Мой дедушка говаривал: «Нашего крестьянина на мякине не проведешь. Церковь и Французская революция умудрили его».
– Итак, нужна статья об искусстве побеждать! Могу, если только мне разрешается, указать, что победа старого Фрица в семилетней войне привела к поражению под Иеной и Ауэрштедтом по той причине, что прусский король воспитал своих подданных не свободными гражданами, а покорными слугами, действовавшими по указке созданной им бюрократии. Наш Лессинг где-то говорит, что в Пруссии можно критиковать даже бога и религию, только не короля и его министров.
– Да, подтвердил Винфрид, – так и напишите. Надо заключить прочный мир по образцу Версальского, заключенного столь выдающимся политиком, как Бисмарк, при участии Гамбетты и Тьера. Через полтора года во Франции не оставалось ни одного иноземного солдата. Пусть каждый поймет, читая вас, как необходима после войны в интересах наших детей и внуков умеренная, но победоносная государственная власть, которая прекратит войну, не затягивая ее ни на один день, как только ей будут гарантированы старые границы и как только она получит уверенность, что бремя этих военных лет не ляжет на плечи трудящихся миролюбивых народов. Там, где национальные меньшинства жили всегда под гнетом, после заключения мира будут созданы путем свободных выборов под наблюдением центральных держав самостоятельные государства. В этом пункте победители и побежденные в Брест-Литовске единодушны – вы же, конечно, скажете: договаривающиеся стороны. Если Антанта не поймет, что мы – непобедимый оплот мира, пусть сама и отвечает перед своими народами и перед грядущими поколениями.
– Неплохая схема, – сказал Вейнбергер. – Из нее торчат когти льва.
Бертин рассматривал свою сигару, узкое обручальное кольцо, запястье с наручными часами.
– Если я выжму достаточно материала из своих мозгов…
– Незачем писать длинно, – сказал Винфрид успокоительно. – Если хотите, статья может выйти без вашей подписи. Как полуофициальное заявление.
– Лишь бы она способствовала заключению мира! – воскликнул Бертин. – Знаете, я лучше сразу усядусь где-нибудь в уголке, черный кофе действует уже сам по себе вдохновляюще. Начну, пожалуй, с Александра Македонского, он за какой-нибудь десяток лет сколотил империю, которая в следующее же десятилетие рассыпалась, оставив одни осколки.
– Хороши осколки! – подхватил Вейнбергер. – Селевкиды, Птоломеи, Македония и, наконец, Парфянское царство… Они-то уцелели.
– Чудесно, – сказал Винфрид, – пришлите мне ваше произведение искусства в крепость, как только оно готовеньким вылетит из-под вашего пера. В поезде-лазарете вы наверняка найдете скамью, на которой сможете устроиться. Я еще задержусь здесь, дела в связи с перемирием много. Надо готовить армию для Украины, эту корзину с пасхальными яичками для Шиффенцана, – о, разумеется, лишь постольку, поскольку переброска войск уже начата, что может происходить и на бумаге. Если дело пойдет так, как предсказывают господа, собравшиеся в Париже – или где они там заседают вместе с американцами, – Антанта победит летом девятнадцатого на Рейне и Майне. Приятные известия, не правда ли? Получены сегодня ночью через Испанию. Ну, а теперь, молодой человек, айда! Беритесь за оружие, точнее, куйте слова и фразы! Как это поется в песенке, – рассмеялся он, надевая шинель и защелкивая пряжку пояса:
– Над вами, дураками,
Поставлен я царить,
А ваше назначенье —
Мне преданно служить…
– Хотя бы только деревянной скамьей в третьем классе поезда-лазарета, – подхватил Вейнбергер, вставая. – Мой письменный стол, господин Бертин, в вашем распоряжении. В правом ящике вы найдете бумагу, а, если хотите воспользоваться машинкой, она к вашим услугам.
– Я остаюсь верен своей авторучке, – ответил Бертин и улыбнулся. – А если мне попозже придется ее наполнить, предварительно вымыв по случаю перемены чернил, то ваш вестовой поможет мне. До шести я вряд ли буду готов.
– В семь наш грузовик отвезет на вокзал транспорт легкобольных. Свидетельство о болезни для Наумана мы дадим больному туберкулезом Юргенсу. Только бы он не забыл его у себя в кармане, если уедет из Мервинска раньше, чем Науман. Вообще не знаю, как этот бедный дурачок справится без своей долговязой няньки. (Добряк доктор еще не мог знать, что все сложится иначе, чем он представлял себе, так как Юргенс уже выехал в Вильно.)

Ничего вокруг, кроме четырех стен, хорошего света, льющегося в окно, да целой крыши над головой… В такой обстановке мысль течет легко и свободно, точно выходя из гавани на морской простор. Ополченец Бертин сидел, склонившись над бумагой, и писал. «Чертовски трудная задача», – подумал он, едва только оба его начальника закрыли за собой дверь. Ясность, взывал в нем какой-то голос, ясность прежде всего! Армия для Украины, корзина пасхальных яиц для генерала Шиффенцана – разве Винфрид не выдал замыслов, которые вынашивались в цитадели? Западные державы, опираясь на американцев, отказались участвовать в переговорах; вот на это, мол, и надо ориентироваться. Такой ход событий лишь оправдывает его, Бертина, умонастроения. Оправдывает чувство глухого отпора, протеста против радостных возгласов Винфрида и Понта, которое поднялось в нем две недели назад, когда он поддался их настояниям и начал рассказывать о себе целую повесть… Слишком затянувшуюся повесть о том, как человек стал тем, чем он стал. А теперь ему дано задание позолотить пилюлю всем читателям немецких газет, многочисленным своим соратникам на всех фронтах, объяснить им, почему мир будет только частичным. Но лучше четверть яблока и полсигареты, чем ничего. Пусть читатели уяснят себе, кому выгодно продолжение войны. Пусть узнают, что оно выгодно не только тем, кто находится по ту сторону западного фронта. Что и в самом рейхе хозяйничают своевластные группы, которые пустят в ход и зубы, и когти, если от них вдруг уплывет такое прибыльное дело, как война. И тем, кто стоит в окопах или за пушками, надо пораскинуть умом и проникнуть в эту грязную игру враждебных сил, в этот сговор…
Вот сидит некто и борется за мир, борется пером. Этот некто с трудом отбивается от обступивших его образов, которые хотят облечься плотью и кровью, стать провозвестниками идеи, почерпнутой в переживаниях автора, служить целям, ради которых только и даны человеку перо, творческие замыслы. Он борется за утоление страданий человека, за развитие и совершенствование его личности.
Когда наступит настоящий мир и по чьей инициативе – об ртом придется умолчать. Нет смысла писать вещи, которые рикошетом ударят по писателю; ведь за ним следит недреманное око. Было бы неумно дать повод для подозрений, для карательных мер. Как раз угодишь в штрафной батальон, разместившийся под стенами крепости… «Будь мудр, как змий, и кроток, как голубь», – подумал он и приготовился писать. Нет сомнения, что победить можно лишь в том случае, если необходимую для этого силу выжмешь из народа; а вот устойчивый мир достижим только на пути переговоров между представителями власти.
«В политической сутолоке государства трутся друг о друга, как льдины по весне, как ледяные поля, о которых повествуют полярные путешественники. Установлено, правда, что снежные хлопья и ледяные глыбы физически и химически почти не отличаются друг от друга, так же как индивидуумы и народы. Но нигде с такой силой не действует закон перехода количества в качество, как здесь. Справедливость во взаимоотношениях между государствами, умный мир требуют немало времени для своего осуществления. А до тех пор сталкивающиеся льдины могут смять тысячи, сотни тысяч снежных хлопьев, и от них едва ли останется какой-либо след, разве немножко пены на воде».
Когда Вейнбергер вернулся, на письменном столе горела лампа, писатель усердно черкал и правил.
– Неужели готово? – удивился доктор.
Бертин, еще погруженный в работу, утвердительно кивнул.
– Можно прочесть? – спросил Вейнбергер, и Бертин подал ему через стол три исписанных убористым почерком листа. Врач сначала читал внимательно, потом увлеченно, потом взволнованно.
– Вы хотите отослать эту рукопись, единственный экземпляр? Так нельзя, надо перепечатать на машинке. У нас есть машинистка. Я вызову ее по телефону, а вы пока идите в ваше общежитие, уложите вещи и принесите их сюда. Через полчаса у вас будет машинистка. Нам нужны копии, по крайней мере три: одна для вас, одна для меня, одна для Клауса. Взором писателя вы провидите, что мы, как в четырнадцатом году после Марны и Изера, можем проиграть войну на Западе и тогда на руках у нас не останется ни одного козыря. И, стало быть, рекомендуется быть сговорчивее по отношению к русским.
– Это угадывается в статье? – удивился Бертин. – Думать-то я так, вероятно, и думал, но как будто черным по белому не написал?
– Но вы же видите, что я сразу все понял. Вы, талантливые люди, – удивительный народ.
– А может быть, у цензуры не менее острый глаз?
– Вряд ли. Но хотя бы и так: вы уж видали напасти пострашнее.
Глава пятая. Наши морячкиК счастью, из крепостного лазарета в другие сборные пункты шли все новые и новые грузовики. Многие проезжали мимо солдатской казармы № 2. Поэтому Бертин относительно быстро очутился на своей квартире и уложил свой скудный багаж. Но надо было еще поделиться новостями с Робертом Мау; и он справился в регистратуре, двумя этажами ниже, где можно сейчас найти Роберта.
– Взбирайся опять наверх, как майский жук по стеблю, – ответили ему. – На третьем этаже под крышей живет и работает часовщик Мау.
В бывшей кладовке возле прачечной через щели в дверях просачивался яркий свет. На стук Бертина чей-то голос спросил с пфальцским акцентом:
– Кто там?
– Писарь из военно-полевого суда, – сказал Бертин.
– Войди! – ответил тот же голос.
Щелкнула задвижка. С деревянных полок, где некогда раскладывали белье, тикали заботливо разложенные на газетах часы разной величины, наручные и карманные, были здесь и изящные дамские часики. Перед узким и длинным рабочим столом стоял удобный деревянный стул для клиентов, а напротив, на круглом выщербленном табурете, восседал часовщик Мау; его лицо оставалось в тени, свет лампы, затемненный бумажным абажуром, падал лишь на рабочее место. Пинцеты, лупы, крохотные отвертки для винтиков были собраны в сигарном ящике, а в коробочках от сигарет лежали, рассортированные так, чтобы всегда быть под рукой у мастера, зубчатые колесики, кусочки спиральных пружин, микроскопические оси и винтики – остатки часов, которые пришлось разобрать за негодностью. В жирных бутылочках, из которых торчали утиные перья, хранилось масло; на блюдцах, разрисованных синими цветами, стояли две плотно закрытые пробками склянки, очевидно, с бензином. На деревянной стене, прикрепленные кнопками, висели две картинки. Одна изображала линейный корабль на полном ходу. Это был длинный и плоский стальной гигант, один из тех, которыми можно было бы заполнить целую улицу в каком-нибудь городке, из его коротких труб эффектно клубился дым. Бертин снял очки и, прочтя надпись, узнал, что это флагманский корабль океанского флота «Фридрих Великий» и что на борту его находится адмирал фон Хольцендорф.
– Гип-гип, ура! – иронически воскликнула сухопутная крыса и снова водрузила на нос очки.
Мало подходила к этой картинке вторая, очевидно вырезанная из газеты: портрет матроса с бородой и в фуражке, заштрихованной синим карандашом. Снимок был вставлен в траурную рамку из черного картона.
Бертин, пожав руку товарищу, вместе с формой сбросившему с себя солдатское обличье – на нем был серый вязаный пуловер без галстука, – поспешил опровергнуть слухи, ходившие вчера среди солдат, жертвой которых сделался Мау. Часовщик внимательно слушал, посматривая то на Бертина, то на большие открытые анкерные часы, над которыми работал.
– Слава богу, – вздохнул он, – хоть бы дальше не хуже было! Русские знают, с кем имеют дело. Им известно, что большинство рейхстага с удовольствием свернуло бы голову курочке и съело бы ее, но без кровопролития. Самоопределение народов! Мир без аннексий! Матросы из Вильгельмсгафена подхватили этот клич, так их и проучили. Вы же читали, что произошло в июле на кораблях «Фридрих Великий» и «Принц-регент Луитпольд»?
– А, вот откуда твоя картинная галерея! – Бертин, закуривая трубку, движением головы показал на картинки, украшавшие стену. – Я не знал, что вы, шварцвальдцы, так интересуетесь флотом. Можно подумать, что он плавает у вас на Боденском озере или что вы родом с поморья.
– Не прикидывайся дурачком, – нетерпеливо сказал Роберт, – будто тебе не известно, какие события там разыгрались в июле и августе?
Бертин, слегка смущенный, признался, что до него дошли только туманные слухи.
– Мы в Мервинске все это лето занимались одним русским, которому Февральская революция в России вскружила голову, а тут еще наступление Брусилова… Но мы слышали, что в Вильгельмсгафене что-то произошло. Как будто разыгрался мятеж и даже были вынесены смертные приговоры?
– Вынесены и приведены в исполнение, – ответил часовщик. – Два зачинщика расстреляны, трое «помилованы» – смертная казнь заменена им пожизненной тюрьмой. А в общем мятежники получили четыреста лет тюремного заключения. Один из «помилованных» – вот этот, – он указал большим пальцем на матроса, заштрихованного синим карандашом, – мой шурин Ханнес Рикле, тоже из Пфорцгейма, как и я. Учился на ювелира, но сбежал. В двадцать лет ему обязательно захотелось в море, в широкий мир, посмотреть чужие страны, тропики, южные океаны, немецкий юго-запад. Теперь может изучать собственную камеру, безумец этакий.
– Пожизненное заключение? – переспросил Бертин и откинулся на спинку деревянного стула. Он заложил ногу за ногу и стал рассматривать носок сапога, покачивая им вверх и вниз. – Выручим твоего шурина по окончании войны, будь покоен.
Часовщик кивнул.
– Да, то же самое ты предсказывал Юргенсу, когда ему закатили два года тюрьмы. Видишь, что получилось на деле: штрафной батальон и туберкулез.
– Война-то еще не кончена, – с возмущением ответил Бертин. – Вот погоди, пусть только подпишут мир!
– Знаю, знаю, – сказал Мау, – вам в ваших канцеляриях мерещится, что везде сплошная благодать. Но за этой благодатью стоят бронированные башни и пушки, а кругом – только серая вода. А Кебес и Рейхпич лежат в земле где-то под Кёльном. Когда революционные солдаты морской пехоты отказались совершить казнь, матросов отвезли в Ванерхейде, и отряд ополченцев расстрелял их. Идиоты не понимали, что стреляют в самих себя, говоря образно.
Бертин выпрямился и крепко уперся ногами в пол.
– Рассказывай же, старина! – сказал он хрипло. – В числе мятежников был и твой шурин?
– Рассказывать о нем – значит выносить сор из избы, – сердито ответил Мау. – Захотел этот дурень домой, к своей жене, он жил с моей сестрой в счастливейшем браке. Он был одним из застрельщиков, но как раз в это время находился в отпуске и подался на Баден. А там нелегально перемахнул через границу, в Швейцарию. Радисты предупредили его, они вообще были заодно с техническим персоналом, с кочегарами.
Разумеется, дело началось с того, что выбрали хозяйственную комиссию, взбунтовались из-за харчей – сушеных овощей, заплесневелого хлеба, муки с червями пополам. Мятеж перекинулся на двенадцать кораблей, все с этакими важными названиями: тут тебе и «Король Альберт» и «Принц-регент Луитпольд», величество на величестве. А матросы сошли с кораблей, собрались в своих кабачках – около четырех тысяч человек. Из них четыреста подписали резолюцию – что они, мол, за мир по русскому образцу: без аннексий и контрибуций, с самоопределением народов. «Мятеж!» – завопили мерзавцы из всевозможных ведомств. А что произошло потом, советую почитать. Поройся в архивах, там ждут тебя целые ящики исписанной бумаги. По сколько бы золотопогонники в голубых мундирах ни рыли носом землю, им бы все равно ничего не разнюхать, если бы не Рикле, мой дорогой шурин Ханнес. Встретился, понимаешь, в Лерахе с моей сестрой и провел с ней ночь, а наутро его застукала тайная полиция. Это был отчаянный парень, не трус, никогда не прятался в кусты. Но у него под крышкой карманных часов нашли бумажку с фамилиями всех организаторов, всех членов хозяйственной комиссии и сборщиков подписей. Когда он вспомнил об ртом и попытался выбросить часы через окно, было уже поздно. Так он и предал товарищей, этот проклятый Ханнес, сам того не желая. Но какой же это товарищ, если он хранит такую бумажку у себя в часах! Надо было сожрать ее, а уж потом перейти границу и поскакать к жене. А теперь – хоть бы он все волосы на себе выдрал, Рейхпича и Кебеса ему не возвратить. Они сошли в могилу, проклиная наш милитаризм, а адмиралтейство принесло поздравления военному суду, команды вернулись на корабли и приступили к исполнению своих обязанностей, как писали твои коллеги в газетах. Но их держат в портах, там они и останутся. Пошлет ли их командование в Северное море, – это еще большой вопрос.
Он взглянул на Бертина, вставил в глаз лупу и приложил тонкий резец к открытому механизму карманных часов. Бертин, тяжело дыша, спросил после долгой паузы:
– А рейхстаг? А левые фракции?
Ему чудилось, что мансарда превратилась в каюту военного корабля, идущего сквозь серую ночь в неведомую даль, неудержимо, но осторожно.
Мау вынул лупу из глаза и в полумраке посмотрел поверх козырька в лицо товарищу.
– Ты слышал, чтобы во время Вильгельмсгафенского процесса хоть кто-нибудь из этой братии поднял голос? Только поспешили, милый мой, отмежеваться. Они, мол, реформисты, не имеют ничего общего с событиями на кораблях, со всеми этими бесчинствами. Наши, разумеется, ничего от них и не ждали, от этих «товарищей», как там они ни называются, Шейдеман или Дитман, Носке или Гаазе. (Бертин впервые слышал, чтобы слово товарищ произносилось с такой издевкой.) Из всех депутатов можно было положиться только на Карла Либкнехта, но он уже тогда сидел там, где они сидят теперь, – за решеткой, за семью замками. Нет, писарская душа, кто в самом деле хочет мира, кто по-настоящему хочет взять за глотку войну, тот должен помнить, что у него ни отца, ни матери нет и что вызволят его только свои, носят ли они синюю или защитную форму и произойдет ли это завтра или через год. Ну, а от наших генералов, что сидят там наверху, в крепости, разит точно так же, как от флотских господ, – это знает всякий, кому приходилось их обслуживать, когда они пьют коньяк или шампанское за успехи, за победу.
Часовщик из Пфорцгейма встал, и Бертин увидел, что он дрожит.
– Не надо так волноваться, друг, – произнес он успокоительно. – Оставь в покое свои часы и отдохни хоть минут пятнадцать.
– Да, – тяжело переводя дух, сказал ефрейтор, – я и сам не думал, что это так разволнует меня. Все, конечно, от безнадежности. Ею так и дышишь здесь, в воздухе штаба, со всей его лестницей чинов. Эти ассы с самой весны ставят русским палки в колеса. Я тебе не говорил, что рабочие верфей поддерживают наших моряков? И металлисты тоже. Слышишь? И скажи об этом Гройлиху, этому кавалеру Железного Креста первой степени. С тем, что обстряпывают наши генералы в крепости, металлисты мириться не захотят, а заодно с ними и рабочие военных заводов по всей Германии и у наших союзников. Разве что случится чудо и все эти высокие начальники вдруг начнут поступать по-честному. Посоветуй долговязому Юргенсу, пусть расскажет об этом только самым надежным парням из «легкобольных», но уж им-то надо растолковать все хорошенько. А теперь, брат, – сказал Мау в заключение этого достопамятного разговора, – ступай-ка вниз. Там ты увидишь, что происходит на деле и что еще произойдет. Не забудь кстати подставить свой котелок кашевару. И смотри, о Роберте Мау и Ханнесе Рикле, сидящем сейчас в одиночном заключении, рассказывай, да с оглядкой. Счастливо, брат.
Бертин спустился с третьего этажа, взволнованный, как никогда, тяжелыми мыслями. Надо ли печатать писанину, которую он только что сочинил? Не забрать ли ее у доктора Вейнбергера, не позвонить ли Винфриду и сказать, что ему пришли в голову новые важные соображения? Но четверть часа спустя в ожидании грузовика, который повезет его на вокзал, он говорил себе, глядя на сверкающий снег и хлопая застывшими ладонями, что одиночка, кем бы он ни был, не в силах изменить ход событий. Стальные зубы схватившего их чудовища можно раздробить только стальными же кулаками. Пока никто еще не способен зажечь сигнальные огни у въезда в царство мира. Какое счастье, что там, наверху, – он поднял голову и взглянул в сторону цитадели, – в этих освещенных комнатах есть люди, которые по крайней мере положили начало курсу на мир, хотя бы на одном фронте. Все, что расскажет Винфрид, Бертин теперь будет пропускать через двойной фильтр, но выслушает, не моргнув глазом, если ему дорога жизнь и надежда свидеться с Ленорой. О, как он понимает Ханнеса Рикле, возможно, даже лучше, чем его шурин! Он-то, Бертин, никогда не писал своей жене каких-либо подробностей, которые могли бы повредить Палю, Халецинскому или Карлу Лебейде. Это само собой разумеется, никакой заслуги тут нет. Но зато и вожаком его тоже не назовешь, не так ли?
Грузовик с светящимися фарами свернул за угол.
– Садись, приятель, довезу на вокзал.
И Бертин, усевшись на мешке с почтой, продолжал думать: простые люди жизни своей не пожалели, чтобы покончить с войной, – все эти матросы, кочегары, радисты, даже – на свой лад – наш Игнац. А он, господин интеллигент, не соизволил даже поинтересоваться Вильгельмсгафенским делом! Бертин почувствовал стыд, сердце у него так сильно забилось, что к горлу подступил комок. «Желаю тебе успеха, друг Мау», – подумал он и живо представил себе человека с часами в руках и с лупой в глазу.
Зал ожидания на Брестском вокзале был битком набит солдатами. Пахло карболкой, повсюду мелькали бинты, костыли, руки в лубках. Солдаты болтали, курили, жевали бутерброды. В одном углу, под тусклой лампочкой, сидел, вытянув длинные ноги, Гейн Юргенс. Он изучал врученные ему бумажки. Игнац Науман, с тугой повязкой на левом ухе, от которой его тонкая шея казалась еще более хрупкой, сидел рядом на деревянной скамье и заглядывал в бумажки через его плечо.
– Это обо мне, – сказал он. – Дай-ка прочитать.
Его глаза медленно скользили по строчкам. Больничный писарь сменил ленту в пишущей машинке. Игнац читал: барабанная перепонка повреждена, равновесие нарушено, рекомендуется нейрологический стационар.
– Когда придет Бертин, я у него спрошу, что это значит – нейрологический стационар.
– Могу и сам тебе объяснить, – сказал Гейн. – Это нервная клиника. Им надо установить, не повредил ли тебе Клоске мозги.
– Нервная клиника, нервная клиника, – повторил Игнац дрожащим голосом. Его большие бледно-голубые глаза, поднятые вверх, беспомощно блуждали по потолку.








