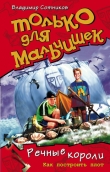Текст книги "Радуга (сборник)"
Автор книги: Арнольд Цвейг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц)
Смерть Сен-Мара
 уществует достоверное предание, будто Людовик XIII сказал кому-то из своих приближенных в тот час, когда Сен-Мар, так недавно бывший его любимцем, взошел на эшафот:
уществует достоверное предание, будто Людовик XIII сказал кому-то из своих приближенных в тот час, когда Сен-Мар, так недавно бывший его любимцем, взошел на эшафот:
– Хотелось бы мне видеть, какую он скорчил гримасу!
На эту чисто королевскую, подчеркнутую улыбкой непристойность он получил неожиданный ответ – хотя она вовсе не заслуживала ответа, – и притом необычным, окольным путем.
Четырнадцатого июня тысяча шестьсот сорок второго года капитан мушкетеров маркиз Сен-Мар, ставший в двадцать два года милостью кардинала, герцога Ришелье, великим шталмейстером и фаворитом короля, был арестован в Нарбонне вместе со своим другом Гастоном де Ту и герцогом Бульонским. Обвиняли их в государственной измене – они задумали убить кардинала и вступили с этой целью в союз с Испанией. Хотя дворяне держались твердо и отрицали перед судом все обвинения, не приходилось сомневаться, что их осудят, ибо для укрепления своей партии они, на беду свою, вовлекли в заговор Гастона Орлеанского, брата короля, который всей душой ненавидел сурового кардинала.
Гастон Орлеанский был тот самый принц, который однажды после «lever» – утреннего одеванья в присутствии дворян, свиты и нескольких друзей – хватился, что у него исчезли часы – золотые, украшенные эмалью, которыми он постоянно, и еще накануне вечером, любовался. Кто-то предложил запереть двери и обыскать всех присутствующих, но хозяин возразил:
– Я, напротив, желаю, чтобы все удалились, а не то часы еще зазвонят у кого-нибудь в кармане и своим чудесным звоном выдадут того, кто прельстился ими.
Но несмотря на столь гуманные и благородные взгляды, Гастон не обладал способностями, необходимыми для участия в политическом заговоре. Испугавшись угроз кардинала, предупрежденного своими шпионами, потеряв присутствие духа, он сознался во всем, чтобы спасти жизнь, которой, впрочем, не угрожало серьезной опасности: он был принцем королевской крови, и к тому же Людовик отнюдь не любил своего слишком властного министра.
Хотя судебная процедура затянулась и приговор еще не был вынесен, дворяне по всей Франции гадали, будут ли обезглавлены все трое подсудимых или же герцог Бульонский, как наименее скомпрометированный, избегнет смертного приговора. Ибо со времени казни последнего отпрыска древнего рода Монморанси, более древнего, чем даже королевский, считалось, что кардинал достаточно смел и беспощаден, чтобы как мудростью, так и насилием добиться подчинения королю самовластных феодалов. Поэтому главного виновника заговора в семье оплакивали почти как мертвого, хотя отец юного Сен-Мара, маршал д’Эффиа, чуть не на коленях молил короля заменить казнь ссылкой. Но Людовик, смущенно пожимая плечами, искренне ответил, что кардинал настаивает на справедливом возмездии, соответствующем тяжести преступления, а ему, королю, вмешиваться в это дело невозможно.
– Он говорит об авторитете короны, – сказал монарх, взволнованно чертя шпагой какие-то фигуры на паркете, – ну, а уж тут, посуди сам, никто не может возразить ему – даже я… Любил я мальчика, – прибавил он в заключение аудиенции, – но тот, чуть только я заговорю о твоем сыне, напоминает мне о моем.
И едва только в доме маршала решили, стиснув зубы, примириться с неотвратимым – ведь тогда, в эпоху заговоров, смерть на эшафоте отнюдь не бесчестила французского дворянина, ибо среди родовитейшей знати многие семьи считали своим правом вступать в заговор против кардинала – захудалого дворянина Дюплесси, который с бесстрастной суровостью и с большим успехом стремился подорвать власть дворянства в государстве, – как пришло известие, принесшее новые страдания семье Сен-Мара и совершенно ее сразившее: Анри, которого разлучили с его другом Гастоном, впал в сильнейшую меланхолию и почти ничего не ест, так как лишился аппетита; он бледнеет, чахнет…
Это означало, как легко можно было угадать, что подсознательный изнуряющий страх смерти, принятый самим узником за тоску по разлученному с ним другу, в конце концов одолел его и угрожает семье позором. Ибо, если приговор будет вынесен лишь осенью – а это вполне вероятно, – то Сен-Мар до тех пор утратит все силы души и тела и не сможет с достоинством встретить смерть, примириться с гибелью в столь юном возрасте; все и каждый сочтут его подавленность проявлением трусости, позорного страха перед мечом. А это непоправимо запятнает честь и репутацию его семьи и, может быть, навсегда подорвет их. Беду необходимо предотвратить во что бы то ни стало; и после трех дней растерянности, страхов, совещаний супруга маршала, маркиза д’Эффиа, приказала отнести себя в носилках к кардиналу, который принял ее, заставив прождать всего лишь пять минут.
Ришелье, изможденный, но все еще воинственный старец, сидел, зябко поеживаясь, в своем большом кресле на ярком и жарком июльском солнце; окаймленное седыми волосами желтоватое лицо его, которому усы и остроконечная бородка придавали сходство скорее с воином или с государственным деятелем, чем со священником, находилось в тени зеленовато-синего занавеса, в то время модного и весьма им любимого цвета; было известно, что кардинал хворает. Поговаривали, что его крепкий организм, закаленный верховой ездой и многими походами, подточен каким-то медленно действующим ядом. Поднявшись, кардинал оперся на руку секретаря, которому только что перестал диктовать, и стоял, пока маркиза не села. Затем он тоже сел, отослал секретаря и начал беседу.
– Надеюсь, – сказал он, – что госпожа маркиза пришла не для того, чтобы просить меня спасти жизнь человека, который сам себя умертвил.
Дама, побледнев под слоем румян и новомодной пудры – ибо в сокровенной глубине души она, вопреки голосу рассудка, надеялась вымолить у человека, некогда бывшего ее другом, то, чего не мог даровать ее мужу король, – тотчас же холодно заявила, что она далека от этого, и быстро, отчетливо, сжато рассказала, какое она получила известие и что за этим может воспоследовать. Для предотвращения этих последствий надо, безусловно, – и никаких возражений тут быть не может – принять надежные меры. Она пришла указать, какие именно.
– Мне нужно ваше согласие, кардинал, и вы мне его дадите. Предположим, что мой сын заслуживает смерти, но семья его не заслужила бесчестия.
Ришелье держал на свету свои длинные желтые руки; некоторое время он молча и задумчиво поворачивал их то в одну, то в другую сторону. Затем он заговорил, начав с того, что намерен быть до конца откровенным:
– Мне следовало бы подумать, мадам, что очень скоро меня не станет и я уже не смогу служить Франции. Во имя ее будущего мне следовало бы отказать вам. Если бы на примере вашего сына стало видно, что господа, прекрасно умеющие вступать в союз с врагами родины, дабы ослабить корону, не умеют твердо и достойно умереть, то такие заговоры потеряли бы свою притягательную силу и все мятежники-дворяне в лице вашего сына были бы раз и навсегда ославлены трусами. А я считаю, что сбить спесь с дворянства было бы весьма желательно; и, право же, никто не станет упрекать при этом ни в чем не повинную семью.
Маркиза содрогнулась от спокойной логики рассуждения, которая прежде привела бы ее в восторг.
– Оставим теорию, – сказала она, – и обратимся к моему сыну.
– К нему я и обращаюсь, – произнес кардинал, взволнованный и углубленный в свою мысль. – Если бы я был уверен, что проживу еще два года, опорочить вашего сына было бы для меня выгодно, и я даже счел бы своим долгом сделать это. Ибо ваш сын – мой ставленник.
Кардинал на мгновение умолк и схватил большую лупу в черной оправе, чтобы направить солнечное тепло на свою левую руку. Маркиза с трудом удержалась от возражений. Она была вне себя от скорби и гнева.
– Ваш позор был бы для других моих ставленников наглядным уроком. Они поняли бы, что должны быть мне преданы душой и телом. Но, – быстро прибавил он, видя, как пальцы маркизы впиваются в ручки кресла, – двух лет жизни мне не дано, и других ставленников у меня не будет. К тому же я слишком хорошо помню о дружбе и симпатии, которая еще недавно связывала меня с преступным юношей и его семьей; поэтому, маркиза, я согласен со всеми вашими планами, лишь бы приговор был приведен в исполнение.
– За этим дело не станет, – слабым голосом сказала маркиза, освободившись от мучившего ее страха. – Все совершится на глазах вашего высокопреосвященства. – И она напрягла все силы, чтобы удержать слезы радости, набежавшие ей на глаза, дабы ее враг и мучитель не понял, как много он даровал ей.
На вопрос, что она намерена предпринять, маркиза предложила тайно сообщить узнику, что ему и его другу не грозит иной кары, кроме ссылки; это известие, чтобы оно показалось правдоподобным, необходимо облечь строжайшей тайной. Верно ли, что а тюрьмах, подобных той, где содержится Анри, невыносимо холодно и даже летом приходится разводить огонь в камине, иначе заключенные там погибли бы?
– Да, – вздрогнув, сказал кардинал и придвинулся еще ближе к солнцу.
– В соответствии с этим я и составила план.
И маркиза открыла ему свои намерения, а он обещал дать соответствующие инструкции коменданту. Вскоре маркиза поднялась, Ришелье не преминул поцеловать ей руку и, опершись на палку, проводить до дверей.
– Разрешите, маркиза, это мой долг, если не перед супругой маршала д’Эффиа, то, уж конечно, перед матерью Сен-Мара.
Таково было последнее слово кардинала в последнюю встречу с женщиной, которая некогда была его другом.
Два дня спустя тюремщик подал Сен-Мару четыре яйца в серебряной корзинке с гербом его семейства и сказал, что мать просит его для времяпрепровождения самому спечь эти яйца и ради нее съесть их: она же каждое утро будет присылать ему с фермы свежие. Молодой человек взял корзинку своими бледными, уже не холеными руками, испытывая то чувство радости, которое вызывает у человека, долго бывшего в заключении, любая перемена в его жизни. Он вспомнил, что это та самая корзинка, в которой подавался хлеб к завтраку за столом у него дома, и с нежностью ощупал орнамент. Привыкнув слушаться матери, он подошел к камину; там горели большие буковые поленья, боровшиеся с холодом, который еще с ночи выдыхали стены и каменный пол.
Когда Сен-Мар осторожно, с помощью щипцов, начал вертеть над огнем лежавшее сверху яйцо, скорлупа стала быстро покрываться темными точками и черточками, которые, соединившись, складывались в буквы. Он так испугался, что драгоценное яйцо чуть не выпало из дрожавших щипцов. Лоб его покрылся испариной: это был почерк маркизы, лишь слегка искаженный от того, что она писала на непривычной выпуклой поверхности яичной скорлупы. Сен-Мар прочел: «На всех яйцах – сообщение. Строжайшая тайна!»
Он положил яйцо. «Она достала химические чернила», – думал он. Сердце его билось так бурно, что он весь дрожал, и ему пришлось на минуту присесть, чтобы успокоиться и совладать с собой; успокоившись, он стал вертеть над огнем яйца, одно за другим. «Король обещал помилование, ссылку», – было написано на одном. «Завтра опять съесть яйца. Иначе – подозрения», – прочел Сен-Мар на следующем. И на последнем: «Р. болен, процесс – видимость, побольше бодрости». После этого он долго и бурно плакал и, еще весь в слезах, испек все четыре яйца и съел их костяной ложечкой, с солью, в которую они были положены, следя за тем, как на остывшей скорлупе исчезают буквы. «Р. означает Ришелье, – думал он час спустя, все еще не придя в себя. – Р. означает Ришелье».
Сен-Мар был болен, его разрушала мысль о предстоящей казни; с этого дня он стал снова здоров и юн, ел, как прежде, и часами бегал, чтобы восстановить гибкость членов, по своим двум большим камерам. Вдруг – но это не явилось для него неожиданностью, так как он был предупрежден матерью, – ему разрешили подолгу гулять во дворе замка. Он счел эту поблажку подтверждением всего, что ежедневно, с каждым новым восходом солнца, как золотой дар утра, предрекал ему в отрывистых фразах волшебный огонь. Мать сообщала ему в своих посланиях, что процесс для видимости завершится смертным приговором; для него уже заготовлен патент на звание лейтенанта, он будет служить в одном из полков, отправляющихся в Вест-Индию. В лионской гавани, в тот момент, когда он взойдет на эшафот, воздвигнутый на рыночной площади, его будет ждать бригантина, и она доставит его в новую страну, в Новую Францию. Никто не сомневается, что он отличится и после смерти кардинала, разумеется, будет возвращен на родину. Как обычно в таких случаях, решено, что он выслушает свой смертный приговор и вынужден будет склонить голову на плаху, прежде чем ему объявят милость короля. По двум признакам Анри убедится, что все это только для виду: палач лишь соберет в пучок, но не срежет ему волосы; прежде чем ему завяжут глаза, он увидит карету семьи у подножия помоста, но не в трауре: головы лошадей будут украшены бело-зелеными страусовыми перьями, как в дни больших торжеств. Та же участь ждет де Ту. «Поблагодари своих судей», – прочел он на скорлупе яйца.
И высоким судьям довелось услышать нечто весьма странное и удивительное: когда они огласили смертный приговор (их лица, обрамленные жесткими локонами париков, были бесстрастно-спокойны), один из осужденных, глядя на них светлым взглядом, поблагодарил их за милостивый приговор, который дает им возможность пролить свою кровь, не все ли равно где, за величие Франции. Не все ли равно – где.
Утром двенадцатого сентября он стоял на эшафоте, точно на театральных подмостках; под ним, сияя золотом и перламутровой белизной, стлался город, взбегая на волшебно-красивые холмы, покрытые осенними лесами, а дальше, синяя, как драгоценный камень, несла свои воды Рона. С налетевшим ветром в сердце Сен-Мара проникло чувство потрясающего счастья. С лошадиных голов приветливо кивали ему зелено-белые перья – цвета его дома. Когда он поцеловал друга в холодные уста, глаза его блестели. Он торопливо подошел к плахе, белая палочка сломалась. Река, река, думал он, пока палач завязывал ему волосы, собрав их в пучок; он хотел этим сказать: свобода, свобода. Когда он склонил колени, еще прежде, чем ему завязали глаза, ощущение счастья, которым полнилось сердце, осветило его лицо блаженной улыбкой. Но вот, описав блистающий, как солнце, круг, упал меч. Когда палач, сдернув повязку, поднял за волосы голову, с которой капала кровь, и показал ее зрителям, белый лик лучился такой сияющей и гордой радостью, что в ответ у толпы вырвался крик восторга и любопытство народа превратилось в благоговение.
Слух об этой смеющейся смерти достиг Парижа раньше, чем карета доставила родителям – уже без всякой помпы – труп сына. Весь Париж, вся высшая знать провинции посетила в этот день семью казненного, и маркиза принимала всех, даже самых далеких знакомых. Она сидела, неподвижная и бессильная, в своей большой нарядной кровати и принимала как должное дань уважения и почета. Через неделю маркиза умерла, и только кардинал знал, в каком огне она так быстро сгорела – в огне, в котором возникали таинственные письмена. И поэтому он решительно запретил Людовику и Гастону Орлеанскому сопровождать катафалк, за которым рядом с королевской двигалась и его, кардинала, карета. Он сидел, погруженный в раздумье, восхищенный подвигом маркизы, и, хотя на нем была тяжелая меховая шуба, зябко поеживался.
1912Перевод Р. Розенталь
Покорность
 ак начался этот знаменательный день. Ровно в шесть постучал хозяин – пора вставать. Хотя Гартмут Шнабель лег всего четыре часа назад, он ответил в полусне, по-солдатски четко, превозмогая нервную усталость, сменившую возбуждение, вызванное прощанием.
ак начался этот знаменательный день. Ровно в шесть постучал хозяин – пора вставать. Хотя Гартмут Шнабель лег всего четыре часа назад, он ответил в полусне, по-солдатски четко, превозмогая нервную усталость, сменившую возбуждение, вызванное прощанием.
– Да, да, спасибо, – сказал он, поднялся, не мешкая, оделся и позавтракал в холодной, освещенной голой лампочкой комнате чаем и яйцом. Теперь этот хорошо одетый двадцатитрехлетний господин с усталым лицом и светлыми глазами стоял у окна купе, ожидая отправления поезда. Пробежали люди, красная фуражка метнулась возле самого его лица, кто-то засвистел, впереди проревело в ответ, и скорый поезд Берлин – Франкфурт, кряхтя, отошел от неуютного вокзала.
Серый рассвет оседал по обеим сторонам поезда, и юноша, закрыв глаза и зевая, прислонился русой головой к серой спинке дивана. Он чувствовал себя разбитым и достойным жалости: его отец и шеф опять проявил ненужную жестокость и совершенно не вовремя послал его в деловую поездку, которая никогда еще не была так ненавистна сыну, как сейчас, как сегодня, в канун Нового года; да к тому же скоро, четвертого января, – день его рождения. Ну обращались ли с кем-нибудь еще так безжалостно? А он? О таком ли будущем он мечтал? Морской офицер – нечто голубое с золотом, овеянное туманом моря, – с золотым кортиком у пояса. Ему хотелось вдыхать, как аромат женщины, неподвижную покорность людей, стоящих перед ним навытяжку. Небрежным движением, не повышая голоса, заставлять их проделывать самые невероятные вещи – выполнять все, что он потребует, и хорошее и дурное. В стальном мире, ограниченном бортами корабля, эти парни, куда более сильные, чем он, целиком отданные в руки господ, преданно взирают снизу вверх на них, на него, на Г. III., молодого лейтенанта. А что такое он теперь? Горе-коммерсант, коммивояжер… Тьфу, гадость… Правда, он наследник фирмы «Э. Г. Шнабель – Электросоль», но это еще очень не скоро даст ему положение в обществе. А пока он только утративший мужество, меланхоличный пассажир, которого отправили по делам, наказав быть всегда неизменно приветливым, вежливым и всегда располагать к себе окружающих, как бы ни было у него на душе. Он обязан нравиться, обязан унижаться, чтобы делать деньги, и должен улыбками и любезностями расположить к себе людей, которые ему противны, омерзительны, которых он глубоко презирает. Отец никогда не находился в подобном положении, никогда! Для этого воинственного старого господина, которого все принимали за полковника в отставке, мир выглядел поразительно просто! А вот в нем, в Гартмуте, жило два человека: один, которого он прятал от окружающих, и другой, который был у всех на виду. Он, Гартмут Шнабель, не мог не восхищаться цельностью натуры господина Шнабеля, своего отца; что правда, то правда. И на красивом, здоровом, румяном лице появилась горькая улыбка, такая незаметная, что даже не тронула его закрытые глаза и только чуть шевельнула небольшую светлую бородку.
Для Эбергарда Готфрида Шнабеля люди, каковы бы они ни были, разделялись прежде всего на два класса. К первому принадлежали все не интересующиеся, те, кто не являлись потенциальными покупателями электросоли Г. П. 187723 марка «ЭГШ». С ними он знался только в обществе, а то и вообще не знался, в зависимости от обстоятельств. Другие – все интересующиеся: клиенты и те, кто могли ими стать, кто должны были ими стать, или, напротив, конкуренты – фабриканты и заказчики других фабрик. Эти последние, все без исключения, были «преступники», первые же, тоже без исключения, «благородные люди» (употребляя выражение Гартмута и его сестер, которые не разбирались в делах и поэтому позволяли себе язвительные замечания).
Мир был устроен удивительно просто. И нет ничего странного, что будущее, которое придумал себе Гартмут, – стать офицером, нарядным и подтянутым, начальствовать над людьми и бороздить просторы морей – но выдержало столкновения с этой устойчивой и плотской простотой фактов.
«У меня есть сын – вот он, и у меня есть дело – вот оно. Так определил бог. Когда-нибудь ты будешь мне благодарен».
Не надо, не надо вспоминать отвратительное и тягостное время борьбы с отцовским решением, время унизительных мучений и храбрых слов – теперь здесь сидел усталый и достойный жалости пассажир Гартмут Шнабель, накануне Нового года, за пять дней до своего дня рождения…
Разве он не просил: «Оставь меня здесь до пятого, папа! С Мейером из Геттингена я успею договориться». Он просил отца после обеда, когда старый господин, естественно, был в самом хорошем расположении духа… И что он услышал в ответ? «Очень сожалею, дорогой сын, что на этот раз дела помешают твоему празднику, но ничего не поделаешь. Мейер из Геттингена действительно подождет, но Гербштедт во Франкфурте имеет обыкновение делать заказы второго числа, и будет очень кстати, если первого ты нанесешь Мейеру дружеский визит, который прежде всегда делал я… Ты будешь у них в первый раз, и это большая честь, дитя мое. К Брандту и Функе ты тоже заедешь. Новый год встретишь в поезде; мы ведь труженики, друг мой…»
Новый год в поезде, обратный путь не через Кельн, а снова через Геттинген, чтобы закончить дела с Мейером, побывать заодно в Ганновере и вернуться через Гамбург. Это было отвратительно, хотя ему очень хотелось бы при других обстоятельствах побывать именно в Геттингене! Провести день рождения во Франкфурте, где множество скучных людей говорили на прескверном (в их устах он действительно казался прескверным) немецком языке! Гартмут вздохнул, глубоко-глубоко. Потом энергично тряхнул головой, стараясь сбросить с себя все, что его тяготило, встал и прислонился лбом к окну.
А между тем наступил уже светлый день, и земля бросалась навстречу летящему поезду. Зеленые поля и канавы, полные снега в эту мягкую зиму 1911 года, голые деревья и птицы, которые, казалось, летят медленно-медленно. Где-то далеко позади безостановочно вращался крылатый крест ветряной мельницы, и небо было все в полосах облаков – бледно-голубых и розовых, словно женский фартук. Гартмут опять вздохнул, вынул сигару из изящного кожаного портфельчика, закурил и улегся на серый диван, радуясь, что может сейчас, пока поезд, гремя и трясясь, мчит его вперед, вернуться в мечтах назад, к Камилле и к прошлому.
Камилла… и Геттинген! Они соединены, нерасторжимо и навеки. Только вчера ночью, когда он долго и мучительно прощался с ней, и ее матушка, вдова подполковника, вскоре деликатно исчезла из комнаты, она напомнила ему, обнимая и прижимаясь к его груди: «Геттинген! Передай ему привет! Помнишь памятник поэтам Союза Рощи! И могилу Бюргера на старом кладбище! Ах, как это было прекрасно!» Да, это было прекрасно, это было изумительно, так беззаботно счастливо, молодо и влюбленно! Он, ученик выпускного класса, сопровождал тогда свою слабую здоровьем матушку в Бад-Соден, городок, весь полный старых домов и расположенный неподалеку от Аллендорфа, который выглядит еще древнее и романтичней. Там они познакомились с госпожой Вольтере, вдовой подполковника, которая потеряла мужа на войне и теперь отдыхала в Бад-Содене с дочерью Камиллой. И вот тотчас же все случилось именно так, как должно было случиться. Шестнадцатилетняя Камилла, светловолосая и бойкая, обе его сестры и он, единственный мужчина в дамском обществе, составили беззаботный квартет, подружились, и он влюбился в эту соблазнительную, очаровательно-дерзкую девушку… Неожиданно ей пришлось поехать на три дня в Геттинген навестить богатую кузину своей матушки, которая была замужем, конечно же, за тамошним профессором. Гартмуту было разрешено сначала проводить ее, а потом поехать за ней. А он что сделал? Просто-напросто остался там на все три дня; пусть себе сердятся обе матушки! Да, тогда у него еще было мужество, тогда он шел напрямик, молодой и свободный, и поэтому они вовсе не рассердились, а лишь посмеялись. Ночевал он в «Короне», остальное же время гулял по городу и целые дни проводил с Камиллой. Она знала этот старинный город с приземистыми, кривыми очаровательными домиками, с извилистыми улицами и дорогами, с высокими шпилями церквей и с «Аудиторией», сердцем города – университетом. Три года назад Камилла, хорошенькая тринадцатилетняя жительница Берлина, пробыла здесь пять недель, строя глазки и кокетничая со студентами… Теперь, в день их приезда, она повела его к вечеру за город, на холм, который называется Роне и на котором высится памятник поэтам Союза Рощи. Всю дорогу она судорожно болтала – ведь они в первый раз были одни. Там в сумерках, пока легкий летний ветер плескался в кронах деревьев, она читала вслух имена юных поэтов, высеченные на камне и увитые плющом: два графа Штольберг, Фосс, Бойе, Хельти… При имени нежного Хельти он прорвался наконец через свой страх и скованность, бросился к ней, привлек ее к себе и стал целовать слепо, бездумно, прямо в лицо. А она замерла, дрожа, пока не встретились их губы… Так начались эти изумительные три дня, потому что в тот же вечер он позвонил по телефону: «Мама, я остаюсь здесь». Эти три сумасшедших, пьянящих дня, когда они, держась за руки, ходили без конца в каникулярной тишине летнего города, по улицам, где четырехугольные доски на домах сообщали, как долго жили в Геттингене носители выгравированных на них прославленных имен, имен, которые надлежало знать всем: Гейне и Шлегели, Бюргер, Брентано и некий Лихтенберг, короли, принцы и Бисмарк, американцы, математики и филологи – необыкновенная и славная компания. А в «Короне», в том самом доме, где он, Гартмут Шнабель, ночевал и каждый день обедал, жил Гёте, Гёте из Веймара. Бесспорно, в Европе не было второго города, где столь чтили бы память великих мужей; ни один народ не может похвастать столькими поэтами и мыслителями, как немецкий, и то, что символизируют сегодня армия и флот – «Германия, вперед, за свое место в мире», – тогда было воплощено в сокровищах немецкой культуры и в ее создателях, на которых молодые люди взирали с тем большим уважением, чем меньше отклика находил в их душах духовный мир этих людей. Держась за руки, влюбленные обошли старый город, они бродили по городскому валу, прекрасному месту для прогулок, сплошь засаженному теперь уже старыми деревьями. Они нанесли визит бронзовому господину Гауссу[8]8
Гаусс, Карл Фридрих (1777–1855) – крупнейший немецкий математик, известны его работы по физике, астрономии и геодезии.
[Закрыть], нежно склонившемуся над сидящим господином Вебером[9]9
Вебер, Вильгельм (1804–1891) – известный физик; вместе с Гауссом построил первый в Германии электромагнитный телеграф.
[Закрыть], тотчас после того как они вместе придумали телеграф (может быть, и наоборот – это Вебер стоял, а Гаусс сидел, точно они не знали). Перед «Аудиторией» они по-детски, снизу вверх, смотрели на господина Вёлера[10]10
Вёлер, Фридрих (1800–1882) – первый получил органическое вещество из неорганического, открыл бериллий, алюминий.
[Закрыть], тоже из бронзы, на химика Вёлера, которому мы обязаны алюминием (что должен был знать Гартмут) и, кроме того, химической формулой неких человеческих выделений, а говоря прямо и грубо – формулой мочи, – достижение немецкого духа, о котором Гартмут, к сожалению, должен был умолчать, потому что кавалеры не говорят, конечно, молодым девушкам из хороших домов ничего, что заставило бы их краснеть, даже когда этим кавалерам просто не терпится показать свои знания. А затем они стояли у могилы Бюргера, поэта, который, очевидно, в качестве компенсации за свою нищенскую жизнь, получил в Геттингене еще два памятника, и Камилла, отдавая дань бессмертному искусству, стала декламировать: «Леноре снился страшный сон, проснулася в испуге…» На этом месте она запнулась, к сожалению, окончательно, но так как она охотно разрешала целовать себя за могильными плитами, то в конце концов это было неважно… Да, тогда они были счастливы и обручились – и союз их длится и по сей день. Он устоял даже против тяжелого удара судьбы, когда Гартмуту Шнабелю не разрешили стать офицером…
Эта сухая жара в купе! Он вскочил, вышел в коридор, потушил сигару, от которой все равно почти ничего не осталось, и начал ходить взад и вперед в покачивающемся вагоне. Он заглядывал без всякой цели в соседние купе, смотрел в окна, наслаждался, как знаток, вкусом только что выкуренной сигары и был занят собой. Дикая, дерзкая мысль ошеломила его и уже не оставляла больше. Если бы он мог провести сегодняшнюю ночь в Геттингене, предаваясь возвышенным и нежным мыслям о своей Камилле, это было бы прекрасно! Ах, это было бы такое интимное, такое милое сердцу начало Нового года! За накрытым белой скатертью столом, конечно, в той, его прежней комнате – золотой «сотерн», бутылка шампанского, когда пробьет полночь, фрукты в серебряной вазе, розы в хрустале и фотография Камиллы, прислоненная к подсвечнику, – разве это не прекрасно? Как хорошо мечталось, пока благоухала сигара, – казалось, что не существует этой коммерсантской действительности, что он морской лейтенант, возвратившийся из Восточной Азии, которому нравится походить недолго в штатском платье! Прежде всего он навестит дорогие сердцу места: памятник поэтам Союза Рощи, дом сухопарой тетушки, в котором жила она на Крейцвег 4, могилу Бюргера и вал, по которому в сумерки можно обойти весь город, а крыши – где-то внизу, под тобой… Ах, это было бы паломничество любви в канун Нового года. Разве это не похоже на обет, разве нет в этом чего-то священного?.. Почему же он не решается? Почему он не поступает так? А вот возьмет и поступит! Он тоже хочет взять хоть что-нибудь от жизни, даже если это только торжественное и сладостное воспоминание о счастливых днях. Старик, в чьих руках власть, – далеко. Пусть потом негодует сколько угодно! Дело решенное. Он приедет в Геттинген в четверть третьего, у него достаточно времени для приятного сердцу времяпрепровождения, а завтра утром он отправится дальше и возьмется с божьей помощью за дела, раз уж это необходимо. Ах, как успокоило его это решение, как оно подняло его в собственных глазах и как согрело душу! Господину Шнабелю-старшему совершенно незачем обо всем этом знать! А если это все-таки дойдет до него, ну что ж такого?! Пора наконец в ответ на его недовольство презрительно пожать плечами. Хотя, если он, Гартмут, не сделает традиционных новогодних визитов, это, конечно, не укроется от господина Шнабеля-старшего – что правда, то правда, – и тогда разыграется грандиозный скандал из-за богохульства, неуважения к авторитетам, преступного небрежения к делам – словом, начнется такое, от чего человек с нелепо чувствительными нервами нелепо глубоко страдает. Как неприятно, как глупо, что он обо всем этом вспомнил…
Это отравило ему радость; так уж он был устроен – предстоящие неприятности нервировали его…
Поезд громыхал мимо станций, мелькавших одна за другой. Гартмут стоял у окна и, глядя на прозрачную тень вагона – слабо очерченный контур, как бы летящий по воздуху, – пытался представить себе ожидавший его праздничный вечер; но это ему плохо удавалось. Подсвечники, цветы, вино – все это никак не хотело принять отчетливую форму. Тогда он решил, что прежде можно зайти к Мейеру и получить хороший заказ, и облегченно вздохнул. Это, несомненно, обрадует отца, и таким образом он честно заслужит свой вечер. Но подчинение! У Мейера есть время, а вот Гербштедта осаждают еврейские конкуренты… Интересы фирмы! Невозможно не считаться с ними. Если Гербштедт передаст заказ другим, отец устроит ему, Гартмуту, нахлобучку. Что же делать? Как тут выпутаться? Гартмут уже было решил послать депешу, что заболел и хочет показаться в Геттингене специалисту. Это не вызовет подозрений, как и та хорошо подделанная записка о болезни, которую он однажды отдал учителю. Полно, так ли это? Он, видно, плохо знает своего отца. «Я старик, а не болею! Когда ездят по делам – не болеют! Не дети, а наказанье божье! Весь в тебя». И на бедную тихую маму обрушится поток злобы. Ведь она совсем не умеет защищаться, и весь дом окажется жертвой того чудесного настроения, которое они называют «динамит»… Нет, так тоже нельзя. Да, не было выхода, кроме повиновения; повинуйся со скрежетом зубовным или с философским спокойствием, робко или веселясь, повинуйся, все равно всегда все кончается победой отца… Так уж устроен мир. Мятеж и покорность, восстание и слабость – их вколотили в одинаковой степени – он только не знал куда, во вселенную или в мозг человеческий; очевидно, в мозг всех нормальных людей, – так ему представлялось…