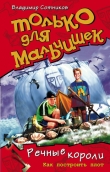Текст книги "Радуга (сборник)"
Автор книги: Арнольд Цвейг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц)
В этот серый дождливый час женщина, живущая без цели и смысла, под влиянием письма мучительно любящего юноши поняла вдруг – вероятно, в эту минуту прорвалось то, что давно уже зрело у нее в подсознании, – поняла вдруг, что у нее есть место в жизни. Она почувствовала в себе силу сломить свое существование дамы из общества и где-нибудь, где никто ее не знает, начать все сызнова и в деятельном раскаянии искупить грех своей трусости. Она посвятит себя молодости, поселится в большом равнодушном городе, где люди исчезают без шума, беспощадно изъеденные, как дерево, в котором муравьи прогрызают ходы, выращивают свое потомство и, вечно суетясь, копошатся до тех пор, пока дерево не рассыпется в прах.
1911Перевод И. Горкиной
Помощник
 н проснулся внезапно. Толчок – должно быть, карета наехала на камень – отбросил его к стенке и вырвал из путаницы сновидений. Он не шевелился. Перед усталым взором в медном фонаре с дребезжащими стеклами мерцал и подпрыгивал язычок пламени, тускло озаряя внутренность кареты; блики перебегали по бледному умному лицу. Во рту было ощущение горечи, и он вспомнил о яблоках, которые она дала ему в дорогу. Тихонько позвякивали оконные стекла, по обледенелой земле цокали копыта трусивших рысцой лошадей; эти звуки словно воплощали в себе зимнюю стужу и усиливали ее, но он не зябнул в теплой крылатке, запрятав в карманы руки в толстых перчатках, подняв до ушей лисий воротник, нахлобучив касторовую шляпу по самые брови, а ноги засунув в мешок из овечьей шерсти. Карета ехала деревней, а у него не было сил придвинуться поближе к окошку: тоскливая сонная одурь словно парализовала его. Пронзительно пискнула какая-то птичка. «Овсянка, – привычно подумал он и тут же спохватился: – Овсянка в зимнюю пору, да еще ночью?» Глаза его закрылись. «А вот и Веенде, скоро и дороге конец»; но веки его снова смежились, и что-то мертвенное проступило на маленьком, утонувшем в мехах личике. Уснуть не удавалось, вереницей проносились мрачные мысли, словно угрюмо поблескивающие тучи в ночном небе.
н проснулся внезапно. Толчок – должно быть, карета наехала на камень – отбросил его к стенке и вырвал из путаницы сновидений. Он не шевелился. Перед усталым взором в медном фонаре с дребезжащими стеклами мерцал и подпрыгивал язычок пламени, тускло озаряя внутренность кареты; блики перебегали по бледному умному лицу. Во рту было ощущение горечи, и он вспомнил о яблоках, которые она дала ему в дорогу. Тихонько позвякивали оконные стекла, по обледенелой земле цокали копыта трусивших рысцой лошадей; эти звуки словно воплощали в себе зимнюю стужу и усиливали ее, но он не зябнул в теплой крылатке, запрятав в карманы руки в толстых перчатках, подняв до ушей лисий воротник, нахлобучив касторовую шляпу по самые брови, а ноги засунув в мешок из овечьей шерсти. Карета ехала деревней, а у него не было сил придвинуться поближе к окошку: тоскливая сонная одурь словно парализовала его. Пронзительно пискнула какая-то птичка. «Овсянка, – привычно подумал он и тут же спохватился: – Овсянка в зимнюю пору, да еще ночью?» Глаза его закрылись. «А вот и Веенде, скоро и дороге конец»; но веки его снова смежились, и что-то мертвенное проступило на маленьком, утонувшем в мехах личике. Уснуть не удавалось, вереницей проносились мрачные мысли, словно угрюмо поблескивающие тучи в ночном небе.
Уехал! Долгие месяцы он не будет ловить ее взгляд, а голос – чего доброго, он забудет его! В последнюю минуту она упала ему на грудь – большие милые глаза заволоклись слезами – и всхлипнула: «Увези, увези меня поскорее! Я так измучена…» Он похолодел от ярости: да, его вина, что ее терзают. Годы, долгие годы длится их помолвка, а он так и не сделал ее своей женой. Мать что ни день насмехалась язвительно, отец хмурился. А он, фантазер этакий, позабыв обо всем, мечтал провести в Нортгейме несколько недель, наслаждаясь ее близостью и безмятежной работой; и вдруг спешно собрался в дорогу, обратно в тот самый Веймар, откуда намеревался бежать. Теперь, когда великая герцогиня предложила ему жалованье и прочное место при дворе, лишь бы он согласился и впредь руководить воспитанием наследного принца, вот теперь-то его прямой долг решительно принять это предложение, ухватиться за него и вступить в брак; правда, тогда ему придется преодолеть отвращение к наставничеству и браться за перо лишь в редкие часы досуга, поверяя чистым листам бумаги свои мысли, облекая их в стройную форму, стяжая им бессмертие. Мало, ох, мало будет таких часов, застонал он в бессильном отчаянии, куда как мало! Любимая так близка от него и днем и ночью; двор, его манящие соблазны, кипучий водоворот людей, милых, благожелательных, но отвлекающих от дела; наконец, эта роковая страсть к театру: воруя время у работы, она, подобно блуду, давала радость лишь затем, чтобы сменить ее мучительным раскаянием. Но главное – Учитель, мудрый, могучий, колдовской старик…
Вскочив – пусть его рвется мешок! – он стукнулся головой о верх кареты, распахнул окно, жадно глотнул леденящую свежесть хлынувшего воздуха, ночного, зимнего. Искрились, излучая слабое сияние, заснеженные поля; там и сям среди огороженных садов уже виднелись одинокие домики, а впереди в ореоле неярких огней лежал Геттинген. Вот справа показался павильон Лихтенберга, а поодаль – деревья на кладбище и надгробный памятник Бюргеру. Он захлопнул окно, сел в свой угол; спустя десять минут карета подкатила к гостинице – три дня пути, и дома! Как все здесь привычно… Да, неплохую карьеру он сделал с тех пор, как впервые очутился в этом городе в… дай бог памяти… ну конечно же, в двадцать первом году, ровно девять лет назад. Сейчас, живя в Веймаре, он ежедневно бывает в доме с великолепными лестницами, бродит по саду у берегов Штерна, разъезжает в карете и обучает стрельбе из лука того самого старика, которому пишут и говорят о своем поклонении самые блестящие умы Европы; когда старик показывает или читает ему черновые рукописи своих прекраснейших творений, ему, простому смертному, тоже дается право судить о законченности или незавершенности тех произведений, которые станут бесценными сокровищами Германии. Великовозрастный студент, лишь к тридцати годам поступивший в университет, скромный стихотворец в ту пору, он и во сне не мечтал об этом… По мановению Учителя ему присудили докторскую степень в Иенском университете, а позже старик даже послал его вместе со своим сыном в Италию; оттуда-то, переполненный впечатлениями, он и возвращается сейчас.
Полно, а не обманывается ли он? Как можно было покинуть страну, где все блещет чувственной красотой, обетованную страну искусства, как можно было уехать из Генуи и не увидеть Рим! Рим! Не увидеть Неаполь и Сицилию! Право же, он истый сын Северной Германии; вот почему упоение первых дней сменилось трезвым, критическим взглядом на то, что так и осталось чужим, ненужным, даже неприятным. К тому же он заболел. Но не лихорадка гнала его прочь из Милана, где он лежал в полном одиночестве, и не разочарование. Он не думал: я здесь погибну, не печалился о судьбе возлюбленной; его волновало только одно: что станет с рукописью, которая ждет своего окончания в ларце, с его дневником, хранящим ежедневные беседы с Олимпийцем, с самой зрелой книгой человеческой, которую от века давал миру смертный! Были в ней страницы без единой помарки, хоть сегодня в печать, – так искусно создавали они впечатление непринужденной, живой беседы; но были и другие: бесформенные, наскоро записанные воспоминания, беспорядочные наблюдения, едва намеченные, ему одному понятные мысли; если друзья посмертно издадут такие записки, прощайте мечты о славе! И он повернул назад, снова увидел Альпы, остановился проездом в Женеве, Франкфурте, а теперь вот – здесь. Творить! – повелевал ему какой-то внутренний голос. – Созидать! Искать для пространных рассуждений и брошенных вскользь замечаний, сразу уводящих от будничной повседневности к высоким прозрениям, искать для них в муках и радости достойное и прочное облачение. Пусть не он, другой владеет истиной, что ж, он не Учитель жизни, а лишь внимающий ему ученик; и все же он может передать векам замысловатый строй и словесную форму мысли, тонко выраженное чувство, величавый жест седовласого пророка. Именно он, скромный помощник, запечатлевал все это на бумаге; за письменным столом он был хозяином, а не слугой; обеими руками черпая из сокровищницы, он связывал воедино, искусно переплетал мысли о поэзии, живописи, физике; он вкрапливал сюда воспоминания, шутки, повседневные наблюдения, создавая фон для главного; кое-что он отбрасывал, другое отшлифовывал, возвышая случайное до бессмертного искусства. Как часто далеко за полночь перечитывал он при свете свечи удавшиеся страницы! Ведь это был его труд, который уже сейчас, при жизни, прославит его.
Там, под сенью виднеющихся вдали деревьев, есть одна могила: в ней погребен Бюргер – поэт, повеса, которому Шиллер не раз мылил голову за беспутную жизнь; но, несмотря на это, его славили, почитали, знали даже в самых глухих углах! А он что?.. Нет, он не желает прожить свою жизнь, словно крот, и его имя должна узнать вся Германия, доблестные мужи и девушки… только не медлить, только закончить, выпустить в свет книгу… но как же теперь?.. Одно лишь слово Учителя, и он обречен умереть в неизвестности. Вот оно шелестит в кармане, это полученное во Франкфурте письмо; в нем за дружескими, ласковыми фразами скрывался приговор: разрешение опубликовать дневник лишь после его, Учителя, смерти. Разве не права была в своем ожесточении любимая, когда бранила Гёте за эгоизм, за черствое, злое сердце? Тише, тише, только не разглашать ничего! Но почему бы и нет? Имел ли он, Гёте, второго такого преданного слугу? Кто в целом мире почитал его искреннее? Славы и радости желать бы такому помощнику. А, вот она, причина запрета: он, этот старик, хочет один блистать перед миром, он не дает поднять ему головы. Ведь он так еще здоров и крепок, что наверняка переживет его, тщедушного тихоню, и почтит его память сдержанной похвалой, когда кто-нибудь другой издаст дневник, его детище. Нет, баста! Не покорится он ему! Да лучше в праведной скупости сжечь свое сокровище! Хватит и того, что Учитель вовлек его в свою орбиту, лишив пусть скромного, но все-таки собственного места в жизни. В свое время и он мог бы стать самобытным писателем, как Иммерман или братья Шлегели. Но сейчас уже поздно, и повинно в атом могучее влияние Учителя. Кому бы от таких мыслей кровь не бросилась в голову! Что же он, ропщет? Да, а разве он всегда не любил его? Любил. И сейчас… неужто и сейчас любит? Какой-то тайный голос беззвучно нашептывал ему – да. Но он упрямо заглушил его.
Карета прогромыхала под городскими воротами; большой висячий фонарь – в нем горел рожок с репейным маслом – ярко осветил пожилого мужчину, с которым кучер на ходу перебросился несколькими словами. Круглые роговые очки да борода с проседью, пожелтевшая у рта от долгого курения, – вот и все, что разглядел молодой доктор. Он насмешливо улыбнулся: вот поморщился бы старик, если бы, не успев подъехать к воротам города, увидел у первого встречного оба столь презираемых им порока: очки и трубку. Лошади пошли рысью по безлюдной улице. Ее скупо освещали редкие желтые фонари, укрепленные на массивных деревянных столбах и защищенные проволочной сеткой от озорных буршей. Все выглядело, как и семь лет назад. При виде знакомых мест его захлестнуло непривычное чувство умиления, смягчившее ожесточение и тревогу. Вот высится убеленная снегом островерхая крыша манежа, а там зияет темная пропасть еврейского квартала; вон в том узеньком переулочке, освещенном висячим фонарем, он жил – оттуда рукой подать до живописных окрестностей города.
«Славная, старая комнатка, – думал он. – Славный, старый город…»
Колокольня св. Иакова вторгалась в узкую улочку, словно разбойник-исполин, у которого на шляпе вместо перьев облака; когда карета проезжала мимо, как раз отбивало половину – видимо, половину девятого; эхом отозвались куранты с ратуши и у св. Иоганна; высоко над городом, на пожарной каланче, затрубил в рожок дозорный, возвещая, что наступает ночь и что он на посту. Завтра доктор пойдет бродить по городу, вспоминая минувшее и разыскивая Диссена – своего старого учителя.
Карета подкатила к гостинице «Корона».
Умывшись с дороги, голодный, он спустился по витой лестнице – откуда-то с другого конца дома неслись приглушенные звуки студенческой песни – и вошел в залу, служившую столовой. Она была полупуста. Ему стало не по себе в этой длинной голой комнате, но он поклонился учтиво, приподнял полы коричневого сюртука и, сев за стол под белой скатертью, с хрустом вытянул онемевшие ноги в плотных панталонах и широконосых, опушенных мехом туфлях. Слуга подал обед, и он с аппетитом съел перловый суп, затем кассельское жаркое с зеленым горошком и кислой капустой и на закуску сыр. Разомлев от сыт ной еды и приятной теплоты, он спросил еще кружку пива; потом кельнер раскрыл перед ним толстенную книгу, и он, поморщившись при виде плохо отточенного пера, записал свое имя и цель путешествия: «Доктор Эккерман из Веймара, проездом из Франкфурта, следует в Веймар», – а в конце поставил число: «20 ноября 1830 года, Геттинген». Книгу унесли, и он принялся оглядывать залу. Вот два молодых англичанина развернули «Тан»; один из них, очевидно, не понимает по-французски, и второй, то и дело взглядывая на приятеля, отрывисто переводит ему самые важные сообщения. Эккерман слушал и радовался: он без труда понял, что Гизо произнес замечательную речь, а разногласия между Кювье и Сент-Илером непримиримы. На стене, на кожаных ремешках, висели две пары деревянных коньков с великолепными стальными оковками; несколько минут он, зачарованный, следил за капельками воды, которые все еще сбегали с полозьев, образуя растекающуюся по полу лужицу. Над шахматной доской сосредоточенно обдумывает очередной ход молодой капитан Ганноверского полка, расквартированного в городе; иронически поглядывает на фигуры его партнер, бритый старик в черной паре, по всей вероятности – профессор. Над ними большой офорт в темной раме – портрет английского короля Вильгельма IV. Внезапно в залу вошел щупленький, маленький человечек в сером платье, со свежим номером «Франкфуртер нахрихтен» под мышкой; и доктор сразу определил по приветливой мине, с какой тот отвешивал низкие поклоны, что это хозяин.
– Если не ошибаюсь, господин доктор едет в Веймар? – спросил он пискливым голосом.
– Да, – ответил Эккерман, добавив, что он, собственно, там и живет.
– Сколько же лет может быть сейчас господину Гёте?
– Восемьдесят один год.
– Ужасно, ужасно, – забормотал серый человек. – В столь преклонном возрасте и этакое несчастье…
– Несчастье?.. – рванулся со стула Эккерман. «Господи помилуй, только бы не…» – подумал он, бледнея. И тогда тот, другой, сказал веско и сочувственно:
– Во время путешествия в Риме скончался сын его, камергер, – он быстро заглянул в газету, – еще двадцать седьмого того месяца. От удара. Какое печальное событие…
Приезжий вдруг весь как-то вытянулся, глаза его расширились, рот приоткрылся; он глотнул воздух – при этом кадык его странно задергался, – потом схватил обеими руками кружку пива и залпом осушил ее; плечи, руки, даже пальцы его тряслись. Откинувшись на спинку стула, он вытер лоб носовым платком.
«Чудной человек этот доктор… Бьюсь об заклад, он знал покойного!» – думал хозяин, готовясь к чувствительной и занимательной сцене. Но приезжий встал, посмотрел на него, откашлялся и проговорил сдавленным голосом:
– Господин хозяин, вы разрешите… свечи… Я, право же, устал.
Поклонившись гостю, хозяин крикнул слуге: «Свечи!» – да так свирепо, словно вымещал на нем все свое разочарование. А доктор подошел к окну, приподнял штору, прижался лбом к холодному стеклу.
«В аптеке еще светло, – машинально думал он, между тем как слезы все набегали и набегали на глаза. – Держись, бога ради, по крайней мере пока ты на людях».
Заслышав шаги возвращающегося слуги, он обернулся, взял оловянный подсвечник и с молчаливым поклоном удалился. На лестнице он крепко схватился за перила; свеча в его руке дрожала, отбрасывая на стену пляшущую тень. Он только что начал, спотыкаясь, медленно подыматься по ступенькам, как неожиданно грянул студенческий хор:
При первых же звуках он выпустил перила, заткнул уши, взбежал одним духом наверх, промчался по коридору, с шумом захлопнул за собой дверь комнаты. До чего же пошлы эти люди…
И вот он стоит в убогом, холодном номере, неподвижно глядя на пламя свечи, которую поставил на стол. Чудовищность известия вытравила все мысли, кроме одной: Августа фон Гёте нет. Уму непостижимо… Человек, которого он обнял на прощанье ранним утром, когда голубое небо так чисто, а первые солнечные лучи золотят старинные палаццо на генуэзских улицах, – человек с бронзовым загаром, веселый, бодрый, молодой, в самом расцвете сил, жизнелюбивый и деятельный, оживленный и пылкий, человек этот вдруг умер… Ушел навсегда. Уже забыт звук его голоса, скоро сотрутся в памяти черты лица, а плоть, живая плоть, которую еще недавно он прижимал, теплую и трепещущую, к своей груди, покоится в деревянном гробу глубоко под землей; она истлеет, обратится в прах, исчезнет. Это и есть смерть – вечная загадка для человека. Сейчас, в этот трагический час, она представлялась ему в образе Аполлона, который мечет из-за облаков свои невидимые стрелы.
Но сознание его не переступало той черты, где кончается предчувствие, а попытка понять истину вытеснялась инстинктом самосохранения, заглушалась медленными, болезненными ударами сердца.
– Ложись-ка в постель, – проговорил он наконец. – Ты так устал, отдохнешь по крайней мере. Заснуть? О нет…
Он лег и закрыл глаза, но тотчас же увидел громадное, словно изваяние, лицо Гёте, лицо отца, страшное, окаменелое. Он содрогнулся.
– Страдалец! – вырвалось из глубины его души, когда лицо исчезло. Как вынесет все это его страстное сердце и старческий, пусть даже крепкий организм? Погиб его единственный сын; он любил его, хоть и таил свое чувство, он воспитал в нем помощника и уже с нового года намеревался частично передать ему свои дела и заботы, – как он, должно быть, мучается! Недаром боги, создав его по своему образу и подобию, вложили в его душу дар нечеловеческого страдания. Первым он потерял Шиллера, потом жену, два года назад – великого герцога и вот теперь – сына, человека, который в самом недалеком будущем должен был стать преемником и продолжателем его кипучей деятельности при Веймарском дворе. Что же теперь? Теперь он, словно пирамида без вершины, словно огромный обгорелый пень. Семидесяти четырех лет, расставаясь с фрейлейн Левецов, он занемог от горя и страсти; что же будет, что может статься с ним сейчас, когда смерть унесла последнее дитя Христины? Молча, нечеловеческой силой воли подавит старик отчаяние, которое хлынет черным потоком, стремясь поглотить его. Упорные приступы горя и столь же упорное напряжение воли будут неслыханно мучить Гёте! Но если он обессилеет, неизбежна катастрофа, и бог знает, что тогда с ним станется. А что если восьмидесятилетний старик не выдержит, и он никогда больше не увидит его?.. Холодный пот выступил на лбу доктора. Мир опустеет. Тогда пропади все пропадом. Тогда безразлично, существует ли какой-то там Эккерман и пишет ли он, безразлично, чем кончится его помолвка и придет ли к нему слава. И радость и горе потеряют свой смысл, а сама жизнь кончится.
Вдруг ему почудилось, что на кровати, с ломотой во всем теле, лежит вовсе не он, а какой-то крохотный человечек; обычно это чувство появлялось, когда он смотрел на церковные шпили. Он саркастически улыбнулся, представив себе пигмея, взирающего, задрав голову, на собор. Еще так недавно он мечтал о самостоятельной работе, о независимой от Олимпийца жизни; но ведь это все равно, что отломать от дерева крошечный побег, который вырос в его тени, обильно вспоен его соками, да и вообще живет только потому, что существует это щедрое дерево. Ибо кто он такой, собственно говоря? Откуда у него, заурядного малого, это право на исключительность? Он заслужил, чтобы люди попросту забыли его. Впервые он ясно понял, какое место в его жизни занимает этот человек; только на пороге его небытия он осознал величие его бытия. И вот этот колосс страдает в гордом одиночестве, истерзанный и величавый, как прикованный Прометей. А он, Эккерман, роптал на него! Не в тот ли самый миг, когда старца пронзила боль, он взбунтовался и, презренный, бранил его? Как он ни мал, а у него, видно, есть когти, чтобы показать их своему господину. Как же одинок Учитель, если так поступил тот, кто, казалось, знал и любил его больше всех! А если все друзья предадут его, как он, Эккерман, предал его в душе своей, чего ему ждать от чужих, чего тогда простым людям ждать друг от друга? И хотя сейчас он жадно тянулся к Учителю, хотя в этот ночной час, словно во искупление предательства, его сердце зажглось доселе невиданным пламенем страстной любви, благодарности, преклонения, но содеянного не вернешь. Он так же низок, как апостол Петр, его не оправдает ни жгучий стыд, ни искренний обет быть преданным помощником и искать славу там, где оно и положено ему – в служении.
Он лежал без сна, с закрытыми глазами, и думал о Гёте. Он слышал звук его голоса, слово за словом припоминал нескончаемые разговоры то в комнате Юноны, то в саду, то в карете. Он видел его большие строгие глаза и приветливую улыбку. Он вспоминал различные происшествия, его жесты и выражение лица во время утренних визитов или на больших приемах. Память подбрасывала ему все новые и новые картины прошлого, он был переполнен им, своим Учителем. Тик-так, тик-так – болтливо твердили часы, а бессонная ночь все тянулась, долгая и мучительная; уже к утру незаметно подкралась дремота, перешедшая в глубокий, свинцовый сои с калейдоскопом каких-то призрачных видений. И только когда начало светать, он, точно наяву, увидел себя и Августа фон Гёте на берегу моря, где-то в окрестностях Генуи. Ландшафт был словно облит светящимся воздухом, и он знал, что и ландшафт и они сами – все это лишь акварель Гёте. Справа простиралась роща с оливами, лавром и дубами, нога ступала по упругому изумрудному мху, заливался жаворонок в небе, а в зарослях роз порхали, перекликаясь друг с другом, синицы и дрозды. Из-за деревьев манило море, сплавленное с небом в одну светозарную синь. Несказанно счастливый, он дышал ароматным воздухом, будто пил его маленькими живительными глотками; потом он принялся метать стрелы из ясеневого лука, а его юный друг ловил их на лету. Когда же колчан опустел, Август – им обоим было лет по двадцать – бросился за новым большим пучком стрел и принес их ему.
– Чудесная это затея, а все ваш батюшка, – крикнул он Августу.
Вдруг откуда-то с берега донесся милый смех, и ему показалось, что самое море, а может быть, и небо проговорило такие знакомые слова:
– Ну, разумеется, любезнейший Эккерман.
Он протянул для приветствия руки и проснулся. В промерзшей комнате стояла мутная предрассветная мгла; холод, мрак и жгучая скорбь пронзили его сердце.
1911Перевод Л. Бару