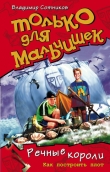Текст книги "Радуга (сборник)"
Автор книги: Арнольд Цвейг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 22 страниц)
Монета
 исатели, знакомые с наблюдениями канадских следопытов, утверждают, что дикие звери лишь в крайних случаях, страдая от жестокого голода, нападают на детенышей своей же породы. Запомним это и обратимся к одному детенышу человеческой породы, милой, очаровательной девочке. Так как описываемый эпизод относится к временам до Майданека и Аушвица, не приходится опасаться, что этому ребенку жилось хуже, чем детенышу медведя или лисицы в лесах Рингсваака или Оттанноозиса.
исатели, знакомые с наблюдениями канадских следопытов, утверждают, что дикие звери лишь в крайних случаях, страдая от жестокого голода, нападают на детенышей своей же породы. Запомним это и обратимся к одному детенышу человеческой породы, милой, очаровательной девочке. Так как описываемый эпизод относится к временам до Майданека и Аушвица, не приходится опасаться, что этому ребенку жилось хуже, чем детенышу медведя или лисицы в лесах Рингсваака или Оттанноозиса.
Наступила пора, когда дни становятся короче и сумрачней. Даже Париж не может смягчить ощущения, что жизнь уходит. Вот и моя жизнь уходит, скованная, бесцельная, думает изгнанник, нахлобучивая на лоб черный берет и засовывая руки в карманы. Вокруг него течет то темный, то пестрый поток людей, наводняющий в октябре к пяти часам широкие Елисейские поля. Вереницы автомобилей, словно спущенные с цепи собаки, устремляются к Триумфальной арке, как только ажан освобождает им путь; на другой стороне улицы такая же вереница рвется к площади Согласия. Небо, высокое и бесцветное, тянется над ущельями улиц. Как здесь жить? Серый свет никого не радует. Зато витрины сияют и сверкают; они бросают на прохожих огромные снопы света, на мгновение выхватывают из сумрака многокрасочные пятна – группы людей – и обводят светлой рамкой спины тех, кто стоит, точно приклеенный к самому стеклу. Но какой смысл эмигранту, которому приходится учитывать каждый грош в ожидании, пока на родине рушится ненавистный и подлый режим, вожделеть к сверкающим и соблазнительным изделиям французской столицы?
Изгнаннику, одному из множества не знающих покоя людей – во время европейской войны они бежали под сень Эйфелевой башни, спасаясь от политических репрессий и распада общества, к которому некогда принадлежали, – бездомному изгнаннику было лет сорок пять, а может быть, и меньше. Его худое лицо, выразительно сжатый рот, дугообразные брови, длинный и острый нос изобличали в нем южанина и человека умственного труда.
У дона Пабло Сервато не было ничего общего с политикой, хотя он по призванию и страстному влечению занимался историей. Родом он был из Сицилии, из Палермо, его испанские предки уже давно приобрели там права гражданства и неведомыми нам путями повлияли на его склонности, а стало быть, и призвание: он стал студентом исторического факультета, затем обратился к хроникам и подвигам знатных родов, определивших развитие Южной Италии, и скорее случайно, чем намеренно, благодаря подвернувшимся заказам, стал составителем родословных; этим он и зарабатывает на жизнь. Ибо весьма многие чувствуют непреодолимую потребность проследить, в какие подпочвенные слои уходит своими корнями их существование, чтобы, узнав свое происхождение, выделиться из безымянной массы; тем, кто исследует их родословную, они охотно платят скромный гонорар. Дон Пабло, разумеется, мог бы заниматься этим в Неаполе или в Риме, где он пытался осесть в первые годы после войны. Но ему не нравились происшедшие там перемены. Он спокойно перенес бы несправедливость и даже жестокость, при помощи которой прокладывают себе иногда путь новые режимы, ибо человек, который любит историю античности и средневековья так, как любит ее дон Пабло, кто так хорошо освоился с XVII и XVIII веками и свыше двух лет выносил ужасы войны, не имеет права, по его искреннему мнению, порицать новую власть за то, что она прибегает к насилию, закладывая новый фундамент жизни. Но он не мог вынести притязаний государства на душу и тело человека, не мог вынести тирании, поддерживаемой марширующими по улице лоботрясами. Он отказался представлять свои мысли на одобрение деревенского старосты, а три пятых новых властителей, по его мнению, стояли ничуть не выше этого уровня. Человеку нужна свобода, пусть в скромных рамках, но подлинная, думал дон Сервато, и уж, во всяком случае, он должен быть свободен у себя дома, в своих четырех стенах; малых и больших тиранов девятнадцатого столетия погубили их же оголтелые репрессии и шпионство. Поэтому дон Пабло без долгих сборов и шума переселился в Париж, в тот город, где были провозглашены права человека. Сначала он собирался податься в Германию, в Мюнхен, где учился еще до войны. Но известия о путчах и расстрелах, приходившие из этой страны, не предвещали ничего доброго. Он искал устойчивой обстановки, хотел спокойно работать в библиотеках и музеях. Поэтому он выбрал Париж и не пожалел об этом.
Париж, этот гигантски разросшийся город свободы, пленил его не столько своим настоящим, сколько историей, атмосферой десяти столетий борьбы, отраженной в церквах, дворцах, площадях, где названия улиц, памятные перекрестки дорог, гигантские деревья, укромные уголки – все дышит историей. Эти места он лучше всего знал и любил. Чтобы не ослабить своего чувства привычкой, а быть может, из капризного противоречия и тяги к удобствам, он жил как раз в самой современной части города. Каждого первого числа он решал, что нужно наконец, хотя бы по материальным соображениям, перебраться на левый берег, и снова оставался в своем маленьком отеле, где его так добросовестно обслуживали, в отеле, который так спокойно расположился недалеко от площади Звезды, в одном из тех переулков близ Елисейских полей, куда надо взбираться, точно на вымощенный холм.
Дон Пабло достиг того места улицы, где можно пересечь ее, пройдя через туннель. Правда, он привык шагать между «островками спасения»; поток автомобилей отлично регулируется, и улицу можно пересечь, точно ручей, посередине которого положены камни. Но, углубившись в свои мысли, дон Пабло предпочитает идти спокойно, не обращая внимания на окружающее, и ноги словно сами несут его к дверям туннеля. Дон Сервато спускается вниз, вдыхает особый «местный» воздух, напоминающий прачечную, развязывает свое темно-синее кашне, потом завязывает его плотнее. Через минуту он выныривает на другом конце извилистого коридора, подобно Орфею, вынужденному с сожалением покинуть свою Эвридику. Как раз сегодня у него созрели важные мысли – хоть сейчас садись и пиши – об экономических причинах переселения норманнов из Скандинавии, а затем из Нормандии, о падении дохода от отечественных пастбищ, полей и рек. Ему хочется скорее записать эти мысли; Наверху, в тесном номере гостиницы, до которого он быстро доберется на лифте, лежит на стопке бумаги его авторучка, и он заранее радуется минуте, когда окунется в свет маленькой лампы, падающий сверху и вырывающий из мрака комнаты письменный столик, подобный камню в сумрачном храме, на который возлагается жертва.
Приветливо поклонившись и бросив беглый взгляд на свой пустой почтовый ящик, он идет мимо мадам Терез, которая сидит по ту сторону низенькой загородки, вернее – деревянного барьера, над большой конторской книгой и делит свое внимание между записями в книге и сигналами коммутатора, которые вспыхивают и гаснут, когда звонят из номера или конторы. Мадам Терез склоняет бледное красивое лицо, приветствуя гостя, вполголоса объясняется со своей дочуркой То, играющей у барьера, и немедленно исчезает из мыслей дона Пабло, как только он один, без портье, начинает подниматься на лифте. Гостиница – около тридцати номеров – обходится всего четырьмя служащими. Мадам Терез ведет всю бухгалтерию, ее супруг, мсье Грио, осуществляет верховное руководство, ведая решительно всем. Он отличается точностью, сдержанностью и вежливостью.
В этой гостинице – обычно говорит дон Пабло своим знакомым – нет боев, наряженных в ливреи и болтающихся без дела. Вместо холла здесь небольшой вестибюль и рядом – единственная приемная, к тому же довольно мрачная. Зато здесь помнят о каждом телефонном звонко и, возвращаясь, дон Пабло неизменно находит в своем ящике записку с именами всех, кто его вызывал. Понимаете, что это значит?
Друзья доп Пабло понимают это до ужаса ясно. У парижских отелей много приятных свойств, но передавать жильцу, кто звонил, кто приходил, не в их привычках, и от этого особенно страдают литераторы – до диких вспышек гнева, до заболевания меланхолией.
Войдя в свой номер на третьем этаже, включив свет и усевшись за письменный стол, дон Пабло берется за авторучку и обнаруживает, что с ней что-то случилось. Она сломана: ее перо, это бледное золотое острие, с которого стекают мысли, наполовину согнуто и искривлено, как раненый палец, а другая половина, словно жало, вонзается в бумагу. И дон Пабло чуть не посадил кляксу на том самом листке, на котором предполагал изложить стройный ряд мыслей, объяснить, по каким климатическим причинам в восьмом столетии у берегов Дании и Норвегии так уменьшился улов рыбы, что молодых скандинавов голод на родине пугал больше, чем опасное переселение во Францию.
Еще не сняв пальто, берета и кашне, историк смотрит удивленными глазами на маленькое любимое «орудие производства», которое кто-то испортил. Мысли его рассыпались, словно стая испуганных воробьев. Кто был в его комнате, кому понадобилось здесь писать? Кто бросил ручку на пол, отчего она вонзилась острием в ковер? Быть может, кто-то и прежде тайком писал его ручкой? Быть может, гостиница уже не та? Быть может, это следствие происков, направленных против эмигрантов? Надо ли известить мсье Грио, потребовать возмещения убытков, выселить виновника?
Но прежде всего, друг мой, овладей собой, своим волнением. Забудь о случившемся, приведи в порядок свои чувства, возьмись за работу. В случае нужды можно и карандашом записать важные для тебя мысли. Соблюдать душевное равновесие – вопрос гордости для интеллигентного человека; он умеет сам справляться со своими затруднениями в отличие от обывателя, который немедленно бросается за помощью к полиции. Раздевайся, забудь – я так хочу – об этом эпизоде, пока не придет пора заняться им. Пусть эта ручка, последний дар друзей, которых ты вынужден был покинуть в Риме, приросла к твоему сердцу; пусть расход на ремонт поколеблет твой строго ограниченный и чувствительный бюджет, – теперь ты должен думать о косяках сельди, о времени метания икры, о морских течениях, о команде весельных судов, отличающихся высоко поднятым носом – грубо сделанной головой змеи со злыми глазами и двойным рядом оскаленных зубов, викинги называли ее морским драконом.
Когда Сервато записал все, что нанизывалось на эту нить, не потеряв ни одной мысли, он вытянулся в кровати, потушил все лампы, даже ту, что горела у письменного стола, и сосредоточился на одном вопросе: кто это мог быть? Очевидно, некто, имевший право входить в его комнату и не нарушавший этим размеренное течение дня в гостинице, обычный здесь распорядок. Комната дона Сервато была в два окна; длинные, почти до пола, они выходили на треугольный дворик, где единственное деревцо изображало природу в борьбе с мрачными дворовыми постройками. Темно-красные обои, темно-красные занавеси… В мозгу отдыхающего человека проходят фигуры служащих, которых он мало знает, так как мало бывает дома. Долгие месяцы не было никаких нарушений порядка, и он колеблется: кого винить? После долгих сомнений ум его, словно световой конус от карманного фонаря, останавливается на воспоминании: днем прачка забрала его рубашки, носки, носовые платки. Может быть, она не нашла списка, который дон Сервато, аккуратный, как всегда, оставил перед уходом, написала новый и по неловкости уронила ручку на пол?
Но вместе с бельем исчез и листок со списком. И после недолгих размышлений дон Пабло приходит к выводу, что здесь, должно быть, действовала совсем беспомощная рука – детская. Судя по всему, авторучку сломала маленькая прелестная То.
На эту мысль дон Пабло навели воспоминания о двух-трех незначительных эпизодах. Однажды он застал То в своей комнате, когда горничная, проворная и ловкая Виктуар, занималась уборкой. Другой раз он не нашел в ванной своей губки, она как сквозь землю провалилась. На следующее утро он спросил об этом Виктуар; она сделала удивленное лицо, а когда он пришел перед обедом домой, то нашел губку, этот маленький кирпичик из красной резины, в сетке совершенно сухою. Третий раз исчез зажим для брюк. Поиски стоили дону Пабло драгоценных минут и заставили его проделать неприятные гимнастические упражнения: достойный ученый лег плашмя на пол, чтобы поглядеть, не найдется ли зажим под шкафом или под кроватью. Предмет, состоящий из металлических скоб, темных, отполированных деревянных боковинок и двух полос красного сукна, не может же распасться на атомы, чтобы с помощью пятого измерения уплыть из комнаты! На следующее утро зажим оказался на месте! Вернувшись к себе после завтрака, дон Пабло обнаружил, что он висит в шкафу и с невинным видом качается на своем крючке.
Разумеется, То, заключает дон Пабло свои рассуждения, мне остается только доказать твою вину. За ремонт обязан уплатить Грио, а не я.
Поскорей внести определенность в неопределенное положение – это одно из правил жизни Сервато. Встать, выйти, спуститься вниз. На Елисейских полях, не очень далеко от гостиницы, рядом с табачной лавкой, он заметил магазин, где продают и ремонтируют авторучки. Дон Пабло время от времени рассматривал витрины этого магазина, не подозревая, что вскоре ему придется побывать здесь в качестве клиента, и сквозь стекла видел, как молодые продавщицы подают американские ручки покупателям, которые их пробуют. Если поторопиться, то он поспеет в магазин еще до закрытия; а затем поужинает.
Собственно говоря, теперь уже восьмой час, но магазины закрывают не столь уж точно. Темноволосая девушка сочувственно морщит красные губы, рассматривая сломанное острие.
– Ручка будет готова послезавтра; придется, само собой, вставить новое перо. Это стоит семьдесят восемь франков.
– Семьдесят восемь? – сдержанно переспрашивает дои Пабло.
– Конечно, мсье. Ведь плохое перо вам ни к чему. Золотое острие с наплавкой иридия. Цена известная.
– Значит, в субботу вечером? – уточняет дон Пабло. Благодарит, кланяется и исчезает в толпе прохожих.
Дон Пабло машинально направляется в ресторан, где имеет обыкновение ужинать четыре раза в неделю; остальные три вечера он проводит у себя в номере, и ужин его состоит из хлеба с сыром, фруктов и вина. Человек, которому приходится зарабатывать себе на жизнь умственным трудом и поддерживать свой бюджет в искусственном равновесии, подобен канатному плясуну; все его движения на туго натянутой дорожке должны быть точно рассчитаны контролирующим мозгом. Ремонт авторучки становится важным происшествием, он может вывести из равновесия. Золотой паритет европейских валют постоянно меняется, и когда курс хромает, стоимость жизни растет – медленно, но неизбежно повышаются цены на продукты, производимые природой и человеческим трудом. Человек становится все менее искусным, с горечью думает дон Пабло, отыскивая глазами место в ярко освещенном зале, в который он вошел через маленький палисадник. У меня на родине перо исправили бы, вместо того чтобы заменять его новым. Твой геройский подвиг, маленькая То, стоит мне четырех ужинов, многих поездок на метро, новых подметок на башмаки. Как будет недоволен мсье Грио и какое неприятное объяснение мне предстоит! Родители любят своих детей, но когда те становятся виновниками неожиданных расходов, на них сердятся, их наказывают. Зато отец и мать мстят нарушителю их спокойствия, заподозрившему милое им дитя. Улики и те не меняют дела, а у меня даже нет этих улик. Будь у меня возможность увеличить свой заработок! Но исследования генеалогического древа моих клиентов оплачиваются по твердым ценам, да и охота за еврейскими предками наших сановников пока приносит мало дохода, а тем временем франк того и гляди снова упадет. Горе тому, кому пришлось бежать с родины! Он вынужден стоять чуть не голый под стрелами судьбы, на нем дырявые латы, и щит его слишком мал. Ну ладно, так или иначе, вооружимся. Войдем в пещеру врага, в которую вдруг превратился маленький отель, ставший моим домом… Попытаемся доказать в сущности недоказуемое, скрытое в маленькой душе То.
Когда дон Сервато своими тихими шагами прошел через вестибюль гостиницы, его ищущие глаза не обнаружили на стуле у конторки за деревянной оградой ни мсье Грио, ни мадам. На стуле сидела То. Она писала. Усердно нажимая указательным пальцем, она двигала ручкой, обычно лежавшей на приборе, опускала стальное перо в чернильницу и вырисовывала цифры в своей тетради. Дон Сервато смотрел на нее с удивлением, почти с радостью. То играла «в маму». Пройдя мимо и поздоровавшись с девочкой, он обнаружил, что перед ней лежала не школьная тетрадь и что страница была исписана вкривь и вкось, без всякого порядка, – каракули букв сменялись цифрами. Для него, человека, привыкшего к логическому мышлению, эта картина обладала силой доказательства. Вот точно так же То играла «в маму» и за его письменным столом; она писала ручкой дона Пабло, подражая матери, которую она так часто видела за этим занятием. Но добьется ли дон Пабло от нее признания? Расскажет ли девочка, как неудачно кончилась ее игра? Тогда можно было бы посмеяться над неприятным происшествием и не возбудить недовольства родителей.
То, маленькая То, как всколыхнуть твою кристальную душу? Быть может, ты не только хорошенькая девочка, но юное существо, становящееся человеком, способным взять на себя вину, исправить причиненное зло, облегчить сердце признанием, примирить с собой обиженного? Маленькая дочь цивилизованной нации, которой варвары соседи наделали так много хлопот, протянешь ли ты мне свою маленькую ладошку, развеешь ли огорчение, которое нечаянно причинила мне?
С этими мыслями Сервато прошел мимо нее и уже дошел до лифта, который вызывают сверху нажатием кнопки. Но за это короткое время дон Пабло принял решение действовать, поговорить с То. И вот он наедине с девочкой в небольшом помещении, рядом с которым ее родители еще сидят за ужином; сюда выходит лестница, ведущая на верхние этажи. Слышится стук тарелок и звяканье приборов. Когда еще ему представится такой благоприятный случай для разговора по душам? И Пабло поворачивается к малютке и, словно мимоходом, с тем же дружеским видом, как всегда, небрежно делает шаг по направлению к ней. Ибо он и То хорошо знают друг друга, их можно было бы назвать друзьями, если бы родители не воспитали в девочке своего рода вежливую сдержанность; а может быть, она робка по натуре. Девочке на вид лет пять; возможно, что она на полгода моложе или старше; она проводит утро в детском саду или с матерью в тех немногих комнатах, которые супруги Грио оставили за собой. Но дон Пабло Сервато знает, как надо разговаривать с детьми: точно так же, как со взрослыми, наделенными тонкими душевными покровами и нежным сердцем. Он терпеть не может манерности и сюсюканья, которые только показывают детям, до чего глупы некоторые люди.
– У тебя много работы, То? Не правда ли?
Малютка на мгновение поднимает глаза. Окидывает взглядом знакомого постояльца и, серьезно кивнув ему, продолжает писать. Ее длинные темные ресницы под тонкими бровями то открывают ясный глаз, то снова прикрывают его; так мотылек поднимает и опускает крылышки.
– Даже наверху, в номерах, тебе приходится писать, если там есть ручки? Жалко, что они иногда падают на пол. Но что тут поделаешь?
В этот момент лифт спускается и заявляет о себе тихим, глухим стуком. Дон Сервато поворачивается к кабине. Щечки То порозовели, даже ее склоненный лоб покраснел, однако она не отвечает. Она только сильнее нажимает указательным пальчиком на ручку, и взгляд ее с еще большим вниманием следит за рядами выводимых ею каракуль.
– Жалко, То, что ручка испортилась. Как же сделать, чтобы папа не рассердился, а мама не огорчилась?
И он еще раз кивает, отворяет дверь лифта, потом захлопывает ее и поднимается с помощью знакомой игры магических кнопок на третий этаж, где находится его комната с широкой кроватью и длинным окном. Аккуратно повесив пальто, кашне и берет, он набивает свою трубку и садится поработать перед сном.
Пока он сидит над бумагой, стараясь сосредоточиться, у него перед глазами в мелькании штрихов и букв возникает личико То, красивая линия щек, маленький заостренный подбородок, прелестный ротик, который когда-нибудь станет девичьим ртом и будет властен дарить людям счастье или делать их несчастными. Но тут дон Сервато усаживается поудобней, вынимает заметки, которые он сделал утром, работая в историческом архиве, и стенографирует карандашом набросок исследования, или, вернее, удостоверения, которое заказала ему одна итальянская семья. Безумные претензии немцев, которым итальянцы при Муссолини подражают так же рабски, как прежде варвары подражали итальянцам, заставляют знатные семьи из Ливорно искать доказательств, что их предки до середины восемнадцатого столетия были католиками, а не евреями, как будто есть смысл заниматься подобным вздором. Важна сущность человека, его характер, его деятельность на благо общества. Нет ничего более бессмысленного в современной Европе, где перемешались все нации, чем дурацкая мания подчеркивать преимущества или недостатки расы.
На следующее утро дон Сервато сходит вниз в тот момент, когда мсье Грио получает у почтальона заказные письма для своих клиентов. Здесь может оказаться почта и для Сервато, а для ученого-эмигранта ценное письмо или чек – приятнейшее утреннее приветствие, поэтому он решает дождаться конца церемонии, сидя, в плетеном соломенном кресле, и пока что просмотреть газету, одну из тех гибких, законопослушных газет, которые осторожные хозяева гостиниц выписывают для своих жильцов: ведь крайние органы печати у иных читателей могут вызвать протест.
На плетеном диванчике, который с двумя плетеными креслами придвинут к столу и составляет вместе с ними всю обстановку вестибюля, уже сидят, широко раскрыв глаза, несколько кукол, целое общество. Кукла-папа, в цилиндре, весь в черном, устроился в углу, охраняя русокудрую даму, прислоненную к ручке дивана. Странное общество, подумал Сервато, которому не терпелось почитать о новейших признаках распада Европы. Бессловесные создания, таращась, как рыбы в аквариуме, подражают нам, впрочем безобиднейшим образом, гордятся румяными щеками и правильными чертами лица, как будто они сделаны на заказ тем господином, который уже пятнадцать лет терзает мою родину и которого за его приторно-сладкую улыбку, короткие ноги и толщину я называю энгадинским кондитером. Куклы, думает Сервато. Что такое люди для этих диктаторов, если не куклы? Разница только в том, что мы, существа из плоти и крови, обладаем голосом; впрочем, большинство европейцев научилось и голосом пользоваться по-кукольному. Не лучше ли было бы по нынешним временам, если бы нас набили опилками и заменили нам нервы швами? Как бы то ни было, моя подружка То уже играла здесь, а вот и она сама выходит из маленькой приемной, где стоит красивая, обитая желтым бархатом мебель, толкая перед собой кукольную коляску. Какое у нее серьезное личико! И кого же она везет на прогулку, раз «папа» и «мама» уже расположились здесь на плетеном диване?
То, одетая, чтобы идти в детский сад – на ней пальтишко и шапочка, – бросает дону Сервато дружелюбный взгляд и робкое «здравствуйте». И тут же обращается к двум сидящим в ожидании «родителям» и приглашает их погулять вместе с ней. В коляске сидит еще одна кукла, самая большая, в плиссированной юбке и в капюшоне – это «ребенок». То говорит на разные голоса – за каждого из членов своего «семейства» – и не обращает внимания на дона Сервато. Ученый прислушивается. Он отмечает, что То впервые разрешила ему слушать ее беседу. Раньше, играя в вестибюле и наталкиваясь на гостя, она немедленно скрывалась в своих комнатах – боялась помешать. Дон Сервато достаточно давно живет в гостинице и хорошо знает все обычаи хозяев. Мсье и мадам, пожалуй, больше чем другие французы, стремятся провести грань между своей частной жизнью и профессиональной деятельностью. Никакой фамильярности! Никому не известно, приятна ли То жильцу, и, кроме того, сдавая номер, ведь не сдаешь внаем свою душу. То, маленькая Антуанетта, хорошо усвоила привычки родителей. Если сегодня, увидев, что дон Сервато уселся за столиком, То не уходит играть в задние комнаты, значит, она хочет этим что-то выразить. Не дает ли она ему понять, что благодаря несчастному случаю с авторучкой он стал ее близким другом и это обязывает его молчать? Не приобщает ли она его к своим милым выдумкам, стараясь смягчить его, обеспечить сохранение тайны? Быть может, она думает: «Вот наше семейство. Вы сидите с нами, как друг нашего дома. У папы и мамы. Пожалуйста, оцените эту милость правильно, не выдавайте нашей тайны». Она продолжает вести разговор за кукол, погрузив их всех троих в колясочку. И дон Сервато с удивлением слышит, как с ее милых губ слетают слова, произнесенные щебечущим голоском, но прежде никогда не срывавшиеся с детских уст.
– Мсье, надо выкупить вексель, мадам уже выписала чеки. Вот они.
То поднимает розовую ручку куклы с зажатой в пальцах запиской, одной из тех, над которыми девочка так усердно работала.
– Но если разразится война, если бомба попадет в соседний дом, после того как мы сполна за него заплатили?
Двигая головой и туловищем, кукла, выступающая в роли мамы, дает понять, что это она, объятая материнской тревогой, вложила в уста То такие зловещие предостережения.
– Значит, мы все будем разорены, – говорит мсье, – и ребенку придется переселиться к бабушке. Она и в порту Сент-Андре может вырасти здоровой.
Тем временем настоящий, взрослый мсье кончил разговор с почтальоном, он подходит к ним, держа письмо, покрытое сургучными печатями, и какие-то пакеты – дон Сервато видит, что это заказная бандероль, вероятно, корректура его статьи о семействе Борджиа для газеты «Геральдика». Мсье выражает надежду, что То не докучает дону Сервато своей болтовней, и благодарно улыбается: горячий протест жильца звучит очень искренне. Затем он берет То за руку, и девочка исчезает на улице, за большой, бесшумно закрывающейся дверью. Предварительно Грио напоминает девчурке, что надо проститься с доном Сервато.
Дон Сервато остается, ему хочется посидеть здесь. Он вынимает из кармана серую пачку табаку и трубку, набивает ее, зажигает и, выпуская клубы дыма, раздумывает о том, что он только что слышал. Скоро он выйдет погулять и купит почтовые марки, потом будет читать свои корректуры, а ценное письмо распечатает сейчас же. Но все это не к спеху, гораздо важнее для него то, что он заглянул в чувства, заботы, дела хозяев, о которых он никогда не задумывался. Вот оно, наше время, прославленное двадцатое столетие, в котором кондитеры и австрийские шоферы взмывают на гребне волны, становятся во главе больших народов и, как истые дилетанты в сфере политики, непрестанно бряцают оружием, этим ultima ratio regum, последним аргументом власти. Мсье Грио, худой, молчаливый человек, и молодая бледная мадам с короной волос принимают решения и выполняют их, стараются увеличить свои сбережения – результат неустанного труда, правильно поместить их, а ребенок, помимо их воли, все примечает. Так растут дети в наше время. Но и в простые коммерческие операции врывается военная опасность как вечная угроза, как зловещая туча, нависшая над всеми. Так в умах людей возникают гораздо более важные заботы, чем вопрос о том, кто заплатит за починку авторучки, упавшей на пол из рук ребенка. Эмигранту-ученому и вправду трудно удерживать свой бюджет в равновесии; да и кому охота нести убытки, в которых он неповинен. Но ведь дружеская и бережная забота хозяев о своих жильцах – неоценимое благо и, уж во всяком случае, стоит того, чтобы примириться с единовременным расходом. Дон Сервато не женат, у него нет детей. Он был рожден для монашеской жизни, если бы только мог поверить во всемогущего и всеблагого бога и подчиниться дисциплине монашеского ордена. Одно из двух – либо всемогущего, либо всеблагого, думает он, вытряхивая остатки табака из карманов брюк.
Ценное письмо пришло из Америки, в него вложены две пятидолларовые кредитки; итальянская газета, выходящая в Штатах, перепечатала его статью о государствах, основанных предводителями норманнов, и выслала гонорар. Весьма кстати для Сервато: теперь он может с легким сердцем отказаться от объяснения с Грио. Викинги, пролившие столько крови, оказали ему сейчас, спустя тысячелетие, недурную услугу. Во все времена большие войны влекли за собой ужаснейшие бедствия – и дон Пабло плотнее завязывает кашне, запахивает пальто, переступает порог и выходит в переулок. Тридцатилетняя война, Семилетняя, наполеоновские походы – сплошные бедствия, бойни, неоплатные долги. И в наше время война есть война, только с той разницей, что народы теперь собраны в еще более огромные массы, которые легче натравить друг на друга. Но с «делом То» покончено. Будем считать, что это луч, при свете которого мне многое стало виднее. Вот что случается иногда при общении иностранцев с детьми.
Однако с «делом То» отнюдь не покончено. Дон Сервато вынужден был убедиться в этом, когда он вернулся после обеда в отель поспать. Мсье Грио, бледный и задумчивый, сидел на своем месте между конторкой и коммутатором, а То играла за решеткой. В руках у нее была монетка, которую она бросала на пол, радуясь ее звону. Дон Пабло перекинулся несколькими словами с Грио, как обычно, когда в маленьком вестибюле никого не бывало. Характер Грио он уже понял; прожив девять месяцев в гостинице, дон Пабло узнал, что его хозяин прекрасно говорит по-итальянски. Но Грио ни разу об этом не обмолвился, заметив, что жилец дорожит возможностью усовершенствоваться во французском языке. Разговаривая с Грио, дон Пабло вдруг услышал гудящий звук, это был лифт; точно управляемый рукою духа, он плавно спустился вдоль бронзового столбика. Девчурка бросила красноречивый взгляд на гостя-друга, который мог стать обвинителем, подняла свою монету и на цыпочках, изо всех сил вытянув ручку, дотянулась до кнопки. Этого То еще никогда не делала; лифт, этот удивительный, почти демонический слуга, – не игрушка, и когда он уносит людей вверх, То следит за ним почти благоговейным взглядом. А когда ей разрешают подняться с другими, это для нее большая радость. Служащие гостиницы и прачка охотно доставляют ей это невинное удовольствие. Но мадам, вечно чего-то опасающаяся, не очень довольна, когда девочка исчезает за дверью лифта. Как легко прищемить крошечный пальчик между бронзовыми решетками!
Мсье Грио поднимает брови. Он удивлен и обрадован, видя, как быстро растет его дочурка.