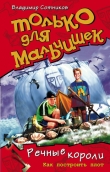Текст книги "Радуга (сборник)"
Автор книги: Арнольд Цвейг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 22 страниц)
Шикоре
 ироко расставленные серо-голубые глаза и крохотный нос были причиной того, что Женевьеву Аллер – девочку, сообразительную по природе, прозванную в младенчестве Шикоре[18]18
ироко расставленные серо-голубые глаза и крохотный нос были причиной того, что Женевьеву Аллер – девочку, сообразительную по природе, прозванную в младенчестве Шикоре[18]18
La Chicorée (франц.) – цикорий.
[Закрыть], так как она напоминала невыразительный бледно-голубой цветок цикория, – считали несколько придурковатой, тем более что она была неграмотна, и когда кто-нибудь, например господин Кристоф, пытался ее дразнить, ее единственным оружием была кроткая удивленная улыбка. Она не понимала, что обидчику можно дать отпор, ответить бранью на брань, и, удивленно улыбаясь, молча смотрела на него добрыми глазами до тех пор, пока тот не умолкал, пожимая плечами в знак презрения к такой ленивой, тупой девчонке.
Неизменно одетая в полинялое голубое платье, облекавшее ее лишенную всякого женского очарования неуклюжую фигуру, Шикоре двадцать лет проработала у господина Соана, арендатора фермы, лежащей к северу от Ля Мадлен, возле Лилля, не обидев за это время никого, разве что упомянутого выше кума Кристофа, владельца кабачка «Услада Рубе», который, живя поблизости, частенько заглядывал на ферму и каждый раз выходил из себя, когда она, ну, никак не хотела понять его веселых, ехидных шуточек. Он посоветовал ей вставить себе в лоб третий глаз – она рассмеялась. Он принес и предложил ей носить на шее табличку с надписью: «Я не корова!» – и она снова засмеялась. А табличку Кристоф, сам того не зная, унес домой, ибо ее тайком прикрепил к его шляпе собственный его племянник Поль – ведь дети любили Шикоре.
У нее были золотые руки. Самозабвенно ухаживала она за детьми и птицей, готовила, стирала, пекла хлеб и сладкие пироги и запрягала лошадей в тяжелую трехколесную повозку; она доила двух коз, задавала им корм и с мягкой улыбкой ухаживала за четырьмя бельгийскими коровами – гордостью фермы.
Шикоре могла бы заменить батрака, будь она более крепкого сложения и, главное, не испытывай она безумного страха при виде любой сельскохозяйственной машины. Трепеща от ужаса, глядела она на эти ярко окрашенные земледельческие орудия, на эти катящиеся на колесах, хотя и полезные, но злые и мудреные существа, которые с помощью скрытых валов и острых гребней, колес с угрожающе зазубренными вращающимися лопастями, ошеломляющих своей непонятностью механизмов сеяли, жали, подбирали колосья, вязали снопы и обмолачивали зерно без участия человека, за исключением восседавшего на своем месте водителя. Это не могло кончиться добром. В конце концов злые духи, служащие благому делу, вырвутся на свободу и начнут свирепствовать! Зато каким-то удивительным чутьем она хорошо понимала животных. По ушам лошадей, по движению их хвостов она определяла, испытывают ли они любопытство, растерянность или радость; ей были понятны переживания гусей, когда они кидались куда-то, громко гогоча и хлопая крыльями, и враждебное, а иногда дружелюбное кудахтанье кур. Под ее внимательным наблюдением весь домашний скот рос и прибавлял в весе, и никто не понимал, в чем тут причина. В своей детски наивной душе Шикоре не делала различия между человеком и животным, она старалась представить себе чувства кошки, которая, мяукая, терлась у ее ног, или утки, крякающей вдали, и, исходя из собственных переживаний, она смиренно и просто проникала в никому неведомую душу животного. По воскресным дням Шикоре могла в послеобеденные часы неподвижно сидеть на солнышке и глядеть, как куры безбоязненно клюют ее деревянные башмаки, а щенок, не то со скуки, не то приглашая ее поиграть, тихонько покусывает и теребит ее полосатый фартук. Она просто любила своих братьев-животных. В тиши и чистоте протекало ее существование, и она чувствовала себя счастливой.
Когда в 1914 году разразилась война, господин Соан был призван в артиллерию, а оба молодых работника – в кавалерию. Затем в один октябрьский день на ферму, задыхаясь, прибежал кум Кристоф, и вскоре легкая коляска, в которой сидела мадам с детьми, быстро покатила в Ля Мадлен, к вокзалу, провожаемая ничего не понимающей, растерянной и плачущей служанкой. Через несколько часов Кристоф приехал обратно в пустой коляске. Он вернулся в свой кабачок, а Женевьева осталась одна на безлюдной ферме. Она часто плакала. Кристоф сказал ей, что хозяевами в их местности теперь стали немцы, и обещал помочь ей сохранить имущество его родственников, надеясь при атом извлечь немалую пользу и для себя. Страшась мрачного безмолвия пустого дома, Женевьева перебралась в населенный живыми существами хлев. Спустя два дня явился Кристоф: немцы, заявил он, приказали зарезать всех голубей, и он обязан выполнить приказ. Но Кристоф не стал объяснять ей, что распоряжение это касалось исключительно почтовых голубей, доставлявших сведения французской армии; он сказал лишь, что немцы – враги не только людей, но и животных, и тайком ухмыльнулся, когда она бурно выразила свое возмущение. Затем Кристоф объяснил, что будет скупать голубиные тушки за хорошую цену, пусть только она поможет ему зарезать голубей, и подал ей нож. Она отдернула руку и, побледнев так, что даже губы ее побелели, выбежала из ворот усадьбы. Он же, несмотря на природную ловкость, промучился один до самого вечера, ловя ускользающих из его рук испуганных птиц, которых он сначала подманивал пшеницей, а потом хватал и душил, испытывая странное возбуждение и совсем не чувствуя усталости. Ночью Женевьева вернулась; в воскресенье, исповедуясь у аббата Дэтаппа, она покаялась ему, что просила у бога смерти для немцев, – она ненавидит их, и объяснила, что именно послужило причиной этой ненависти. Молодой исповедник, помолчав, кротко упрекнул ее за чувство, внушенное дьяволом, и, зная ее бесхитростную душу, дал ей отпущение грехов, приказав лишь прочесть десять молитв перед статуей ее покровительницы святой Женевьевы. Высокий, слегка сутулый молодой аббат был одинок с самых ранних лет и хорошо разбирался в людских душах. Его учитель Мерсье, кардинал Малинский, послал его в деревню, чтобы он проникся заботами тружеников, их повседневной жизнью. Мудрый знаток человеческой души надеялся таким образом вырвать юношу из плена грустных мечтаний и научить его любви к людям.
Женевьева старалась подавить в себе ненависть к немцам, когда они являлись на ферму, иногда поодиночке, иногда целым отрядом; некоторые приходили только для беглого осмотра, другие – чтобы выведать у нее, сколько на ферме зерна и картофеля, сколько скота. Проникнутая недоверием, она отвечала, что ничего не знает; тогда враги начинали обыскивать все постройки, записывали что-то в маленькие книжки и затем уезжали. Сердце ее сжималось при виде этих недобрых людей, и она с дрожащими губами безмолвно обращалась к своей святой покровительнице, прося ее о помощи. Вскоре немцы забрали лошадей с коляской и трех коров, оставив ей только одну, и выдали расписки с подписью и печатью, которые кум Кристоф заботливо спрятал. Совсем рядом с фермой немцы оборудовали площадку и выставили около нее охрану; с этой площадки они поднимались в воздух на гудящих и жужжащих машинах с черными крестами, намалеванными на них, точно в насмешку; завидев эти чудовища, Женевьева в ужасе пряталась в дом. Люди, называвшие эти отвратительные желтые машины «голубками», несомненно были слугами дьявола! Кум Кристоф злорадно сообщил ей это прозвище, зная, что она непременно посмотрит при этом на окна опустевших чердаков… Наконец-то его слова дошли до нее, до этой безобразной, старой скотины!
Однажды поздно вечером он принес ей что-то трепыхающееся, завернутое в черный платок. Это были четыре крупных голубя – два ржаво-рыжих и два сизых, с ярко-красными, словно распухшими у основания, клювами. Пусть она хорошенько спрячет голубей от немцев, да еще вот это – четыре маленькие трубочки из белого металла, легкие, как перышки. Ее сердце забилось от счастья; краснея, она стала целовать руки Кристофа. Освободив платяной шкаф хозяина, она спрятала в него своих любимцев, положила капсюли в футляр своего молитвенника и стала кормить голубей и ухаживать за ними, словно это были любимые ею господские дети, о судьбе которых она ничего не знала. Через несколько дней, ночью, пришел господин Кристоф, взял две капсюли, всунул в них маленькие записки и, прикрепив капсюли к лапкам ржаво-рыжих голубей, забрал птиц с собой, пообещав заменить их другими. Женевьева вполне ему доверяла. На рассвете она проснулась от грозного жужжанья низко пролетающих машин, грохота пушек и страшных, глухих громовых раскатов; разбитые оконные стекла, звеня, посыпались в комнату. В чердачное окно Женевьева увидела, что площадка, охраняемая немцами, полыхает огнем, а утром обнаружила на ближней лужайке тлеющие обломки разбитого самолета и растерзанный, изуродованный труп летчика в французской форме, при виде которого она с криком бросилась бежать. В полдень жандармы уже нашли сизых голубей и оставшиеся капсюли. Они связали Женевьеве руки. На все вопросы и угрозы она отвечала молчанием. Шпионку отправили в цитадель Лилльской крепости. Она молчала и на суде во время короткого разбирательства этого совершенно ясного дела; она сказала лишь: «Я ничего не знаю», – так как действительно не понимала, что произошло, и ненавидела немцев. И только получив разрешение исповедаться, она призналась аббату Дэтаппу, кто дал ей голубей. Аббат не стал расспрашивать больше. Он был уверен, что она ни о чем не догадывается: ни о назначении полученного ею подарка, ни о его последствиях. Ночь, проведенная без сна, укрепила в нем горестное сознание, что он не вправе выдать настоящего виновника, да это все равно и не спасет Женевьеву. Одно лишь не вызывало у него никаких сомнений: хозяин кабачка, конечно, ни в каком случае не донесет на себя – его-то он хорошо знал.
Наутро постаревший за ночь аббат добился приема у губернатора Лилля. Он попросил отсрочить исполнение приговора, дать ему время через кардинала Малинского и через посредничество его святейшества Бенедикта Пятнадцатого обратиться к германскому императору с просьбой о помиловании невинной служанки Женевьевы Аллер. Губернатор потребовал доложить ему подробности дела и распорядился отсрочить исполнение приговора, отвечающего законам военного времени. Тогда аббат Дэтапп написал подсказанное ему взволнованным сердцем письмо, в котором, между прочим, говорилось: «Ласточки в ночном полете рассекают свою слабую грудь о телеграфные провода, приносящие нам радостные вести, и сколько перелетных птиц разбивается об огни маяков, благословляемых теми, кто находится в море. Любой закон современного человечества перпендикулярен законам чистой природы: он рассекает их. Но и нарушенные законы природы, чем глубже они и чем незыблемее, всегда торжествуют. Не люди властны над жизнью, ибо над ней властен один только бог. Но простая и чистая душа может, подобно ласточке или стае перелетных птиц, пасть жертвой случайного, жестокого и чуждого закона времени, если только спасающая длань того, кто властвует над всеми законами, не вырвет ее из рук жестокого произвола».
Аббат закончил письмо и отослал его. А результат? Разве так уж важно знать, дотянулись ли руки божьи, простирающиеся над злобной путаницей нашего дня, до бедной некрасивой служанки, чтобы сохранить ей жизнь и, может быть, после заключения мира отпустить на свободу? Не следовало ли опасаться, что ее чистое, бесхитростное существо окажется навсегда разбитым после перенесенного ею потрясения? И на случай, если бы пули действительно пронзили это человеческое сердце у каменной стены Лилльской крепости, не покажется ли более естественным завершением безвинно погибшей жизни представление о том, что простая душа, нежно сияющая и полная невинного благородства, подобно голубому цветку цикория, вознесется в излучающие кроткий свет небеса, где, как было ей твердо обещано духовником, встретит ее в голубом одеянии, в коем изображена она в церкви, покровительница страждущих – святая Женевьева, нарекшая Многострадальным сына своего, некогда вскормленного самкой оленя во франконском лесу.
Но жизнь, творящая и объемлющая всех нас, предпочитает незавершенное придуманному, неприметное насильственному, и в этом ее поддерживает вся бесконечная мудрость целесообразного. После того как была расстреляна английская сестра милосердия, павшая жертвой опрометчивости и произвола пьяного генерала, возмущение, охватившее весь мир, породило страх перед убийством беззащитных женщин. Вот почему Женевьева Аллер в качестве пленной стала работать у немцев, оставаясь такой же нетребовательной, как и раньше, когда она была служанкой и находилась на свободе. В тюрьме здоровье ее очень ухудшилось, и поэтому ее перевели работать на свежем воздухе, внутри ограды из колючей проволоки; она стирала белье, мыла полы, готовила пищу и обслуживала в дезинсекционных камерах пленных женщин. Неприметная, но прекрасная сущность ее души сказывалась в ее работе, в ее молчаливости, в беззащитной кротости. Молодые женщины, попавшие в плен, тянулись к ней за утешением, удрученные горем мужчины провожали ее благодарными взглядами. Лагерный священник как-то сказал коменданту лагеря, католику, что в былые времена, когда люди были более верующими, именно из такого металла чеканились великие святые.
После внезапного окончания войны, когда господин Соан вернулся без руки из того, из другого мира вместе со своими взрослыми детьми и постаревшей супругой и ферма его была вновь восстановлена, Женевьева Аллер, как и в былые годы, опять сидела на своем пороге; вокруг нее летали новые голуби, и новая охотничья собака, играя, теребила ее фартук.
А на выбеленной стене ее комнаты висело в рамке подаренное ей аббатом Дэтаппом изображение святой в голубой мантии рядом с большеглазой самкой оленя и смуглым мальчиком в звериной шкуре. И под ним, составленные из наклеенных самим аббатом золотых букв, сверкали написанные по-французски слова писания, которые она даже не умела прочесть:
«Блаженны чистые сердцем, ибо их есть царствие небесное».
1915–1920Перевод З. Васильевой
Счастье Отто Темке
 опробуйте поставить бочку на зеленый газон в вашем саду. Уже через два-три дня нежные травинки, лишенные света, пожухнут и сморщатся. Так под несравненно более тяжким общественным прессом вянут люди на уродливых улицах с безликими стенами, глазастыми фасадами домов, серой каменной мостовой. Вот к такому существу, к пожелтелой былинке, задуманной и родившейся на свет в виде чудесного зеленого стебля, мы и присмотримся здесь поближе…
опробуйте поставить бочку на зеленый газон в вашем саду. Уже через два-три дня нежные травинки, лишенные света, пожухнут и сморщатся. Так под несравненно более тяжким общественным прессом вянут люди на уродливых улицах с безликими стенами, глазастыми фасадами домов, серой каменной мостовой. Вот к такому существу, к пожелтелой былинке, задуманной и родившейся на свет в виде чудесного зеленого стебля, мы и присмотримся здесь поближе…
Что сталось бы с Отто Темке, если бы не событие, пережитое им в восьмилетнем возрасте? Впервые в Берлине с неслыханной до тех пор быстротой пронеслась электричка, она неслась под улицами, под домами, вырывалась на поверхность и мчалась то над зданиями и площадями, то пересекая линии железных дорог. Желтые и красные вагоны, гигантская круглоголовая гусеница! Боже ты мой! – думал Отто, восхищенный величественным грохотанием быстро несущегося поезда.
В одно из первых воскресений он заставил свою мать, вдову, прачку Альбертину Темке, ввериться этому чудовищному поезду: они собрались поехать с Лейпцигерплац в зоосад взглянуть на забавных медвежат. И хотя Альбертине Темке было лестно, что ей предоставили новенькие с иголочки, пахнущие лаком вагоны, что скамьи сверкают, а медь начищена до блеска, все же она злилась на сына, оглушенная и растерянная. Ее качало, трясло, в ушах гремело, ей было страшно, а скорость движения и вовсе ошеломила вдову. Но, выйдя из вагона, она смягчилась: рискованная затея кончилась хорошо и стоила дешево. Очутившись в пятнадцать минут у цели, вместо того чтобы долго и терпеливо тащиться на конке, она была окончательно покорена. И Отто, которому мать втихомолку грозилась надавать оплеух, получил прощение. Впрочем, ему было уже все безразлично; в это мгновение взошла звезда его жизни. Он возмечтал в один прекрасный день стать машинистом или кондуктором на такой дороге, надеть форму и восседать в застекленной кабине.
Воля человека побеждает все препятствия. Через три года после окончания школы он уже ездил кондуктором на отведенном ему участке пути. Из-под форменной фуражки смотрел он на выходящих и входящих пассажиров, с деловым, официальным видом следил, чтобы не было давки, и ждал, пока дежурный по станции не прокричит на другом конце поезда: «Готов!» Тогда он поднимал руку и подавал знак водителю, сидящему за своей стеклянной стенкой: «Вперед!» Вот уже включен мотор, и Темке неторопливо и изящно ставит ногу в движущийся вагон, протискивается мимо пассажиров на свое место и смотрит, как на поезд бросается грядущее, даль, как она принимает его в свои объятия и как этот поезд, вечно неудовлетворенный, меняет настоящее на милое улыбчивое будущее, будь то мрак туннеля или сияние электричества под сводами, пока ближайшая станция, плоский кафельный гроб, не примет его вместе с его огнями, людьми, скамейками, пестрыми плакатами и будкой – технической его душой. Но смерть поезда длится всего лишь двадцать секунд, его воля требует воскресения, его мировой закон гласит: «Вперед!»
Отто любил жизнь, она казалась ему прекрасной. После опеки его первого хозяина, слесаря, после вони и неподвижного сидения на одном месте, после девяти часов изнурительной работы в домике на Коппенштрассе, после подчинения пяти старшим ученикам и мастерам, доводившим его до отчаяния, до мучительных слез, до вспышек бессильного гнева, встречаемых громовым хохотом, – после этих двух лет он чувствовал себя в раю, где царил порядок. Он был всегда в движении, всегда с людьми, всегда с новыми благоухающими и красивыми женщинами, переносясь с места на место и чувствуя себя как дома в маленьком движущемся пространстве вагона, где тысячи людей сменялись, пробыв здесь пять минут. Ему доставляло удовольствие мчаться со станции на станцию – то над землей, то под землею – через весь громадный Берлин, где в каждом районе особые нравы, словечки, костюмы и свой особый воздух. Он снова мог носить опрятную одежду, стать славным малым. И ему, хилому юноше, уже не было надобности чахнуть на изнурительной работе.
Счастье сделало его дружелюбным и благожелательным. Во время дежурства на станции он охотно и подробно давал справки, которых от него требовали, и улыбался в ответ на «спасибо»; ведь в конце концов этим людям жилось гораздо хуже, чем ему: они, как затравленные, гнались за деньгами, раньше времени лысели, вечно куда-то торопились. Он задерживал отправление, чтобы тучные женщины в слишком узких юбках или запыхавшиеся старцы с палками в руках еще поспели на поезд, он заботливо вывешивал белые указатели, на которых черными буквами были напечатаны названия остановок поезда, для того чтобы низенький чернявый господин, спешивший на Кайзердам, в западный район, не очутился в Далеме, на Тильплац или посреди Груневальда. Как много людей к нему обращается, всем им что-нибудь нужно, а ему самому не нужно от них ничего; тысячи лиц – и все разные, у всех особый разрез глаз, особый цвет бровей, особая манера открывать рот.
Понадобилась коренная и глубокая житейская перемена, чтобы в этом вежливом юноше проснулся тиран, насильник, человеконенавистник и убийца, таящиеся в каждом ребенке, которого много и часто били. Эта перемена называлась войной, что, впрочем, почти не имеет значения; дело тут было не в стрельбе и резне, не в снарядах и приказах, не в братских могилах и ежедневных победах. В той точке земного шара, где находились мы с Отто, все дело было только в том, что исчезали мужчины. Если бы их вобрал в себя гигантский пылесос, опустошив весь город, картина была бы та же. А когда мужчин мало, мальчишки начинают задирать нос; Отто Темке в один прекрасный день начал готовиться к должности машиниста. Более мелкие должности теперь занимали женщины, далеко не такие красивые, как Минна, его милая, вдобавок еще изуродованные стянутыми на прусский манер волосами и кондукторской фуражкой. Вот он и решил добиться, чтобы его повысили в должности. У старших, тех, кто обучал его, вид был порой озлобленный, они ведь знали, что великий пылесос скоро втянет в себя и их. Отто Темке думал: «Так-то! Теперь пришел ваш черед». Он почему-то отождествлял их со своими прежними мучителями, с подмастерьями слесарей. Ему было все-таки жалко этих рабочих, которым скоро придется сменить темно-серую куртку на серо-зеленый мундир и приноровить свои пальцы, привыкшие передвигать рукоятку реостата, к винтовочным и орудийным затворам. Потому-то, обучаясь новой профессии на своем испытательном участке, он был так сосредоточен и внимателен. Хорошие глаза, хорошее чувство цвета, смекалка и твердые руки – из него, Темке, выйдет хороший машинист, и уж его не сместят, когда солдаты вернутся к прежним занятиям – как все надеются, в близком будущем.
– Ну, Темке, попробуем, как это у нас получится, – сказал начальник, возглавлявший все те инстанции, которым был подчинен Отто, – поработайте, пока пруссаки и вас не заберут. Броню мы, конечно, на таких юнцов затребовать не можем. Но годик-другой еще будем с вами возиться.
Пожилой швейцар, стоявший возле них, кивнул, изобразив на своем лице преданность. От носа к подбородку у него бежали две скорбные морщинки, прячась в короткой с проседью бороде.
Отто глядел на обоих с испугом, отразившимся в его больших детских глазах. Эти, кажись, готовятся к дьявольски длинной веренице побед! Его заберут пруссаки? Ну, некоторые не так уж горят желанием попасть в казарму. Учиться стоять навытяжку – это, может быть, неплохая тренировка, но… извините, вы ошиблись дверью. При первом же намеке на возможность призыва в нем крепко засела мысль – зубами и когтями удержаться на месте…
Вначале все шло хорошо. Открыть и закрыть дверь, впустить и выпустить людей, повернуть рычаг в одну или другую сторону. Фонари на участках, круги света, которые они отбрасывают, каменные стены, столбы, рельсы, выхваченные из темноты фарами и словно потухающие у него под ногами, – все это было ему близко и мило. И часто в нем вскипало радостное чувство: он так рано достиг цели своей жизни. Он был самым юным служащим на подземной и надземной железной дороге. В одной иллюстрированной газете даже появился портрет Отто. Его милая повесила этот портрет над своей кроватью. Огромная мощь исходила от рычагов, которыми он как будто играл. Он чувствовал вблизи, совсем рядом, смерть во многих ликах, она была почти осязаема, реальна; но многим ли юношам дано серьезно относиться даже к смерти, к ее воплощениям? Страх, который он испытывал поначалу, особенно в учебном вагоне, давно уже сменился спокойными, разумными навыками; осталось лишь ощущение власти, оно передавалось от рук голове и пронизывало его юное сердце. Он был капитаном и рулевым корабля, который беспрекословно повиновался ему; его пассажиры, господа и дамы, мужчины, женщины и дети, как только за ними затворялась стеклянная раздвижная дверь, располагали собственной волей в весьма тесных пределах. Они думали, что он везет их, куда они желают; но, с точки зрения машиниста, они ехали туда, куда он их вез. Правда, их драгоценную жизнь всячески охраняли, но лишь в определенных границах – и все-таки внутри этих границ человек имеет бесстыдную смелость сесть в вагон, влекомый бешеной энергией водопада, которая обернулась молнией, а в самой чувствительной точке приложения этой энергии работает некая рука. Да, власть была у него.
К сожалению, тогда даже воздух по всей стране трепетал от благоговения перед властью. Мужчины на улице приветствовали друг друга деревянными движениями, точно у них парализовало конечности – они напялили на себя мундиры. Жизнь очутилась под прессом военного управления, но люди, чей долг, казалось бы, состоял в том, чтобы умело кончить войну, прежде всего ощущали вес и значение своей власти над людьми и давали ее почувствовать в любых обстоятельствах. Эта власть изливалась на всех, сладострастно ощущалась всеми и в конце концов оказала роковое влияние и на жизнь юного Темке. Как ни мало жаждал он участвовать в войне, на него действовали изречения полководцев, пресмыкательство газетных писак перед героями, стоявшими во главе армий, и в особенности победоносные заявления и остроты его величества. На одной открытке Вильгельм II был изображен в шлеме и в морском плаще за рулевым колесом корабля, корпус которого не был виден и только угадывался. Внизу было написано, что курс взят правильный, кормчий намерен и впредь держаться его. Именно эти слова в точности выражали настроение Темке. Курс он взял правильный, он намерен держаться его и впредь. То обстоятельство, что курс этот – через рельсы, стрелки, расписания, проверки пути (и прочие предосторожности) – не зависит от его воли, казалось ему несущественным. Какое это имело значение в победные времена, когда в молодых людях так сильно было убеждение в могуществе личности!
А отношения с девушкой вдруг расклеились: своему вечному поклоннику Отто она предпочла унтера – приехавшего в отпуск краснощекого тылового вояку и хвастуна.
Пытаясь поставить на место сего охотника до чужих невест, Отто почувствовал себя беспомощным. В среду вечером, когда он зашел за Минной и снова застал у нее унтера, уютно расположившегося и ре каморке, у него в самом начале разговора, выражаясь образно, бессильно повисли крылья души. Солдат нагло усмехался, а он, Отто, выдавил из себя лишь несколько полувопросительных, полуугрожающих слов по адресу Минны. Он спросил: не стыдно ли ей? Подумала ли она о том, что солдат приехал только на побывку и скоро смоется? Да и вообще, если бы на нем, Темке, не лежала такая ответственность, если бы от его рук-ног не зависело так много и ему не нужно было вечером отправиться на службу, то уж кое-кто узнал бы, где раки зимуют.
– Ох уж ты со своей ответственностью! – непочтительно сказала хорошенькая крошка.
А унтер ухмыльнулся:
– Кто знает, может, скоро заберут и тебя, уж тогда тебе оттяпают руки-ноги! – Унтер опять ухмыльнулся, как бы подтверждая ее слова.
Отто Темке, хоть он и был занесен с некоторого времени в графу «ГГ» (на кровавом и неряшливом жаргоне того времени это означало, что по состоянию здоровья он годен лишь к несению гарнизонной службы), понял, что это вполне возможно. Шли слухи о переосвидетельствованиях. По заявкам предприятий с фронта отзывали пожилых рабочих, отцов семейств. Сильно потрепанные, они возвращались из сфер, где действовал великий пылесос, и снова занимали свои прежние места. Молодые холостяки были в незавидном положении.
Но к Отто Темке судьба еще была благосклонна. Чтобы подтолкнуть ее, он воспользовался странным путем, извилистым, как пробочник. В тот вечер он был зол, точно бешеная собака, выражаясь языком его сослуживцев. Он выпил водки – надо сказать, что водка в то время особой крепостью не отличалась. Ему было страшно за свое место, в нем кипела ненависть к самому себе за пережитое унижение, по существу он был невменяем. Но, со стороны глядя, в нем нельзя было заметить ничего необычного. В таком состоянии он приступил к работе. Это было поздней осенью 1915 года, в среду вечером, в шесть часов.
Отто, как всегда, ездил с востока на запад и обратно; часов около семи на вокзале Кайзергоф случилось несчастье. Генерал, видимо, подошедший с шикарной Вильгельмштрассе, генерал с головы до пят, от красных лампасов на брюках и до красного румянца на щеках, с блестящей выставкой металлических побрякушек, сиречь орденов, на груди, с алым, шитым золотом воротником и толстыми красными отворотами на теплом пальто – словом, заправский генерал занял место в вагоне для курящих второго класса и тотчас же углубился в газету, как и приличествует генералу. Поезда в то время ходили уже весьма нерегулярно; хотя коварная блокада вероломного Альбиона не могла причинить вреда Германии, как только что прочел генерал, все же из соображений бережливости, как опять-таки прочел генерал, потребление угля для невоенных целей было ограничено. Отто Темке заметил генерала, когда тот прошел к поезду мимо головного вагона, и в приливе бессмысленной ярости против этого ни в чем не повинного господина вдруг заскрежетал зубами. Он, Темке, тоже генерал! Сила против силы! Эти люди хотят превратить его в существо, чьи руки-ноги можно «оттяпать»? Это его-то, взявшего правильный курс, которого он намерен держаться и впредь! Сила против силы! – гремело в его мозгу. Плевать ему на расписания, инструкции, остановки, начальников станций. Чего они все хотят от него? Чего хочет от него весь мир? Дали сигнал к отбытию. И Темке отбыл. Но он отбыл с намерением показать им всем! В то время, как мы уже говорили, не было регулярного движения, и по счастливой случайности участок оказался свободным. Поезд сразу развил настоящий темп, взяв как бы единым махом расстояние между Кайзергофом и Потсдамерплац. Темке следовало начать тормозить, но он и не подумал. С бешенством глядя сквозь окно вперед, Отто мчался и мчался; вереница красных и желтых вагонов, словно поезд-стрела, неслась через ярко освещенную станцию, которая раскололась, точно коробка, надвое и обе ее половины упали – одна на правую сторону, а другая на левую. Он не обратил внимания на махавшего руками начальника станции, на рев пассажиров, собиравшихся здесь сойти. Да и другие пассажиры тоже ревели. Ведь, в конце концов, не для того его наняли, чтобы он вез их неведомо куда!
Со сладострастным удовольствием прислушивался Отто к громам этой революции, глухо долетавшим до него сквозь пение моторов. Между тем его поезд поднялся вверх, пронесся от Потсдамерплац до станции Глейсдрейек, вырвался на открытый простор, омываемый ночным воздухом, и на всем ходу прошел по виадуку. Огни фонарей и широкие пучки рельс на участке, где старомодные паровички с забавным усердием выдыхали дым, влились в ярко освещенную пасть пересадочного вокзала, которая проглотила поезд и снова выплюнула его. Ледяное молчание. Все сидят со стеклянными глазами, без слов, уцепившись за скамью, ежеминутно ожидая рокового удара. Давно уже станции звонили в Центральное управление и взволнованно докладывали, что машинист такого-то поезда, видимо, сошел с ума и проезжает мимо станций, не останавливаясь. За донесением с Глейсдрейека последовало донесение со станции Бюлова, где множество людей, стремившихся попасть домой, с удивлением и ужасом видели, что вместо знакомого поезда, который доставлял их на место жительства, мимо станции промчалось нечто вроде поезда-стрелы и исчезло в ночи, прорезанной молнией фар, где-то возле Ноллендорфплац. В Центральном управлении с облегчением вздохнули: раз Глейсдрейек пройден, ничего серьезного уже случиться не может; позвонили вдоль линии, предупреждая о происшедшем и подчеркивая, что на Виттембергплац стрелки следует поставить на «свободно». Если обнаружится, что не в порядке мотор, необходимо по всей сети выключить ток; но при данной скорости поезда это как раз и может привести к катастрофе. Шли совещания.