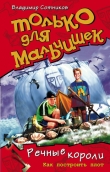Текст книги "Радуга (сборник)"
Автор книги: Арнольд Цвейг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 22 страниц)
НОВЕЛЛЫ
Радуга
Как библия гласит, уняв потоп зловещий,
Всемилосердный бог, исполнен воли вещей,
Взял и швырнул дугу туда, за гребень туч,
На семь частей дробя дневного солнца луч.
Еще бежали с гор последние потоки,
По лужам хлопал дождь, дул ветер толстощекий,
Но дивная дуга, воздвигнутая богом,
Явилась в небесах внушительным залогом
Того, что стихнет дождь, уляжется вода
И что потопов впредь не будет никогда.
Вот почему с тех дней, с тех стародавних пор,
Едва пройдет гроза, мы устремляли взор
На радугу-дугу, на радужные краски.
Ах, мы попали в плен к религиозной сказке!
Ведь не один поэт издревле был готов
Воспеть и радугу и семь ее цветов,
А музыкантами те семь оттенков цвета
Давно воплощены в квартеты и терцеты.
Так ублажала нас поэзия. И все ж
Господь нас обманул. Все, что сказал он, – ложь!
Сияла радуга, дразня людское зренье,
А на земле – война, потоп и разоренье.
Бессовестный грабеж оружие кует,
И жертвам несть числа, и душу давит гнет.
Шквал газа и огня – последний крик науки —
Обрек людей на смерть, на ужасы и муки…
Но вопреки всему не выцвели цвета!
О, как прекрасна ты, земная пестрота!
Жизнь возрождается, не ведая уныний.
Пылают красный цвет, оранжевый и синий.
Земля рядится вновь в весенние одежды.
Смотрите, ей к лицу зеленый цвет надежды.
И радостно поет согласный красок хор:
Над смертью жизнь царит всему наперекор!
Так радуга средь туч, смеясь, взывает к людям:
– За дело! Не зевать! И счастье мы добудем!..
В чем сущность бытия? Чтоб, призванный к труду,
На свете человек жил с разумом в ладу,
Чтоб мира он достиг – своей мечты заветной,
Там, на щите небес герб светит семицветный!
Давайте же войну лишим отныне власти,
Для всех людей открыв дорогу в мир и в счастье, —
И радужный венец, которым грезил Ной,
Украсит навсегда свободный шар земной!
Перевод Л. Гинзбурга
Мальвы
 ни высились перед домом – кроваво-красные прямые мальвы, устремляясь в голубой и золотистый день, словно древки пик, обвешанные, пурпурными колокольцами и зелеными пуговицами. Шестнадцатилетняя Аннелиза Шустов стояла перед забором, маленькая, живая, черноволосая. Она стояла, к сожалению, по другую сторону ограды и с восхищением смотрела на цветы. Право, их стоило пожалеть. В саду перед беседкой напротив белого дома сидели несколько мужчин, они были без пиджаков и курили, и пахло там нехорошо. Можно подумать, что ей, Аннелизе Шустов, очень хотелось иметь такие мальвы. Нет, это просто ужасно. Разве ее не послали собрать «пукет» для дылды? У мамы вечные причуды. Приезжает вдруг в гости из России и говорит: «Аннелиза, не нарвешь ли ты букет для фрейлейн Блаукепунктер? Я считаю, что это следует сделать». – «А я нет, совсем не считаю», – то есть Аннелиза только подумала так. «Хорошо, мама», – сказала она. Пойдет ли Макс? Нет, Макс не пойдет. Значит, ей придется идти одной. Наклоняться – вот терпеть не могу. И вообще старомодно и скучно преподносить «пукеты». (Аннелиза Шустов вместо слова «букет» всегда употребляла это простонародное словечко, которому научилась у Макса.) Да и подходит ли это к ее «стилю»? Конечно, нет!
ни высились перед домом – кроваво-красные прямые мальвы, устремляясь в голубой и золотистый день, словно древки пик, обвешанные, пурпурными колокольцами и зелеными пуговицами. Шестнадцатилетняя Аннелиза Шустов стояла перед забором, маленькая, живая, черноволосая. Она стояла, к сожалению, по другую сторону ограды и с восхищением смотрела на цветы. Право, их стоило пожалеть. В саду перед беседкой напротив белого дома сидели несколько мужчин, они были без пиджаков и курили, и пахло там нехорошо. Можно подумать, что ей, Аннелизе Шустов, очень хотелось иметь такие мальвы. Нет, это просто ужасно. Разве ее не послали собрать «пукет» для дылды? У мамы вечные причуды. Приезжает вдруг в гости из России и говорит: «Аннелиза, не нарвешь ли ты букет для фрейлейн Блаукепунктер? Я считаю, что это следует сделать». – «А я нет, совсем не считаю», – то есть Аннелиза только подумала так. «Хорошо, мама», – сказала она. Пойдет ли Макс? Нет, Макс не пойдет. Значит, ей придется идти одной. Наклоняться – вот терпеть не могу. И вообще старомодно и скучно преподносить «пукеты». (Аннелиза Шустов вместо слова «букет» всегда употребляла это простонародное словечко, которому научилась у Макса.) Да и подходит ли это к ее «стилю»? Конечно, нет!
Стояла великолепная погода, солнце сияло, и Аннелизе было превесело… Но мамино желание оказать любезность… Нет, просто ужасно. А мальвы сразу увеличат букет! Цветов было еще совсем немного: только ромашки – белые звезды с светло-желтыми точками – и застенчивый вереск. Почему Макс не отправился с ней? Во-первых, дело пошло бы гораздо быстрее, и, кроме того… он говорил бы о своем друге. Конечно, он был невыносим, этот друг, со своими высказываниями, и она, Аннелиза Шустов, находила возмутительным, что он завел разговор о ней. Какое ему дело до ее шляпы? Он сказал, что у фрейлейн Шустов есть свой стиль. Совершенно определенно. Но эту шляпу ей носить не следуй. Определенно не следует. Слишком широкие поля. Аннелиза взялась за свою широкополую шляпу левой рукой. Восхитительно! Во-первых, очень модная, а во-вторых, если хотите знать, какое кому дело до того, что она носит! Ей она нравится! Правда, шляпа не подходит к ее «стилю». Жаль. И сегодня, в воскресенье, этот человек тоже здесь. Она, Аннелиза Шустов, его просто не выносит. Хоть Макс от него и в восторге. Господи, Макс! Макс просто ее друг, и все. Кроме того, он племянник дылды и живет в том же пансионе. Он решает ей задачи по математике. Она помогает ему иногда с французским. Ведь недаром у нее была мадемуазель, там, в России. А сочинения она пишет сама. Макс ей вовсе не помогает, правда. Господи, что только девочки не выдумают, Уж немецкую-то литературу она знает! Конечно, не так, как этот его приятель. Но зато у нее нет мании величия и она не говорит так… так странно и иронически. Эта ирония отвратительна. И зачем она сейчас здесь? Только из-за мальв. Довольно глупо смотреть через забор. А если бы он ее сейчас увидел?! Он, конечно, улыбнулся бы своей иронической улыбкой. Просто непереносим! И… и вот он там показался. Конечно, это он… О господи! Как неприятно… Она так глупо покраснела, ужасно…
Впрочем, маленькая Аннелиза, которая стояла перед забором, могла бы и не смущаться. Он был вовсе не здесь. Он ушел в свои стихи, в свои строфы, – они звучали прекрасно, хотя смысл их был и не совсем ясен. Они звучали прекрасно – в них столько одиночества и тайны. Как трагично полюбить именно такую девушку… А может быть, только естественно… Он при его одухотворенности должен был нарваться на такое поверхностное, бездушное существо. Слово «нарваться» его ранило. Да, таков уж он, так тонко чувствует все оттенки настроений. О себе говоришь, как о постороннем, и вкушаешь всю горькую сладость самоистязания… «Нарваться»… Кажется, что нервы торчат из-под кожи, так их все ранит. Между прочим, про нервы и кожу – это он удачно сказал (он медленно провел рукой по тщательно выбритому подбородку). И нужно же быть таким вызывающе здоровым блондином, когда у тебя поэтическая душа. Просто жестоко, совершенно определенно жестоко. Вероятно, это и составляло его трагедию. Он доживет до старости. Ужасно. Все великие поэты умирают молодыми. А Гёте? Но Гёте вообще не человек, Гёте – символ. Символ человека. Нет, фрейлейн Аннелиза Шустов не символ. Определенно нет. Она – нечто красное, ей бы стоять в лучах солнца или ждать по ночам, когда луна из литого золота медленно поднимается над черными деревьями… Нет, это тоже не в ее стиле. У нее нет души, совершенно определенно.
И вот… Она все-таки тут! Стоит возле ограды перед мальвами! Обожает букеты, как девчонка! Вот это ее натура! Поставит дома в вазу, на память… Впрочем, вкус у нее есть… Вот только шляпа… Как бы заговорить с ней? Что-нибудь вроде: смотрите-ка, да ведь это фрейлейн Шустов!
– Смотрите-ка, да ведь это фрейлейн Шустов, – сказал он, – и вооруженная букетом. Наверно, поставите в свою комнату, в какую-нибудь раскрашенную вазу?
– Да, конечно. Вы не поможете мне?
– Разумеется, с удовольствием. Так мило, когда молодая девушка любит цветы… Это ей идет.
– Это ее стиль, правда?
– А, Макс проболтался. Не очень-то благородно с его стороны, – сказал он.
С чего это он взял?.. Видно, она обидела его. Сделала ему больно.
– Мы, психологи… Вообще говоря, сожаление и сострадание хоть и свойственны женщинам, но это чувства устаревшие, и от них нужно избавляться.
Она не находит этого. Наоборот. Людей, которые не знают сострадания, она считает отвратительными. Отвратительными…
Любимая, нежная, подумал он и сказал:
– Вы настоящая женщина, фрейлейн Аннелиза Шустов. Все слабое достойно гибели. – И, бережно сняв с травинки божью коровку, на которую чуть не наступил, он посадил ее на столбик ограды.
Они вместе следили, как маленький жучок с трудом вскарабкался вверх, настороженно поднял свои оранжевые в точечку надкрылья и поплыл в воздухе.
Слышно, как грохочут стихии… – произнес он, словно отсутствуя.
– Вы что-то сказали?
– Ах, извините, это просто реминисценция.
Ей стало жутко. В полном восхищении она сказала:
– В моем присутствии это излишне, ведь я неспособна уловить подобные вещи.
Восхитительная колкость, подумал он.
– Право же, я не хотел вас обидеть. Я ведь уже попросил прощения. Не сердитесь, фрейлейн Шустов! Хорошо?
Пауза. Его бросило в жар. Он что-то не то сделал. Впрочем, она и не думает так уж всерьез сердиться. Она не из таких, Аннелиза Шустов. Господи, случается же сказать лишнее! Ничего, все уладится… Он казался очень спокойным. Он так мило попросил прощения… И она стала с жаром рассказывать, почему она здесь, и для кого «пукет», и что ей так нужны мальвы, а потом она пойдет еще в лес за папоротником.
– Значит, вам нужно достать мальвы? – И он вспомнил, что только что у него был хороший образ – что-то красное, – но он забыл какой… Девушка, которая стояла рядом, была так прелестна, так неповторимо очаровательна. – Да, но я не знаю, как это сделать.
А что, если их украсть? Поддеть палкой через забор. Она будет наготове и сразу же их сорвет. Вот было бы замечательно!
Я расцелую твою милую детскую головку, Аннелиза, подумал он и сказал укоризненно:
– Фрейлейн Шустов, вы ребенок. Там ведь люди!
Ах, эти… Да, он прав.
– Что ж тогда делать?
– Ничего не делать. Вам придется отказаться от мальв, фрейлейн Чустов. Я думаю, что ваша фамилия Чустов, а не Шустов…
– А почему?
– Не знаю… Я так чувствую. – Пауза.
Они все еще стояли у забора, и хлопотливые пчелы летали вокруг огромных красных цветов, они пробирались в чашечки и занимались своими делами, усердно, без устали. Иногда какая-нибудь пчела улетала. Вместо нее прилетали другие; жужжа, они направлялись прямо к цветку. Юноша и девушка молча стояли под тяжелым солнцем.
– Аннелиза, ты, верно, ждешь, пока твой букет вырастет? – спросил кто-то сзади. – Ты совсем пропала. Здравствуй, старина. – К ним подошел Макс. Аннелиза так долго не возвращалась, что дамы забеспокоились и послали его вслед. В такую жару!
– А вы стоите перед забором и что-то там выглядываете. Я ничего не вижу.
– Аннелизе очень хочется достать мальвы. Но это невозможно.
– Действительно, невозможно, нас могут увидеть.
Макс ничего не ответил, отворил калитку – она громко и неприятно заскрипела – и сказал несколько слов одному из сидящих там мужчин, вежливо, держа шляпу в руке. Тот, который был моложе всех, встал, подошел к цветам и сорвал самые красивые – три великолепные пики, увенчанные цветами. Он отдал их Максу. Тот горячо поблагодарил. Калитка опять заскрипела.
– Вот, Аннелиза, для твоего букета. Счастливо развлекаться. Прощайте.
И он ушел обратно в свою любимую тень, наслаждаться покоем. Юноша с завистью посмотрел ему вслед. Как просто все решалось, как все само собой разумелось… Наш брат не догадается поступить так. И презрительно пожав плечами, он заявил:
– Плебей. Никакого такта и душевной тонкости.
Но Аннелиза его не слышала. Она стояла, любуясь своими цветами.
– А теперь мы пойдем в лес, – радостно сказала она. – Папоротник… Вы ведь знаете…
Он знал. Между прочим, она произносила это слово неправильно. И тогда они пошли в лес.
Идите и не беспокойтесь. Счастливые, я не буду вам докучать дольше. Почему должен я удовлетворять любопытство посторонних? Для этого нет никаких причин. Небо голубое, солнце сияет, и в светлой листве громко хлопочут птицы. Идите спокойно. Я делаю жест рукой, словно закрываю занавес, и повторяю эти шесть слов: и тогда они пошли в лес…
1907Перевод Е. Фрадкиной
Предчувствие весны
 ожно нарушить ваше одиночество, фрейлейн? – спросил молодой блондин в пенсне, распахнув дверь вагона перед девушкой в белом свитере. Вопрос прозвучал чертовски непринужденно. Девушка открыто посмотрела ему в лицо, словно желая найти подтверждение выводу, который она сделала, давно и украдкой наблюдая за ним, помедлила, улыбнулась и спокойно сказала:
ожно нарушить ваше одиночество, фрейлейн? – спросил молодой блондин в пенсне, распахнув дверь вагона перед девушкой в белом свитере. Вопрос прозвучал чертовски непринужденно. Девушка открыто посмотрела ему в лицо, словно желая найти подтверждение выводу, который она сделала, давно и украдкой наблюдая за ним, помедлила, улыбнулась и спокойно сказала:
– Можно!
Где произошел этот разговор? И дался ли он впрямь так легко и просто? Ах нет, жизнь полна трудностей.
Это случилось в поезде, который, выбрасывая клубы пара, отходит из Инсбрука в 9 часов 25 минут утра и, к сожалению, уже через полчаса, и даже без двух минут, останавливается в Енбахе, откуда тотчас же с важным видом медленно трогается и катит дальше.
Наши молодые люди были все время одни в вагоне, она – почти в самом конце справа, а он, к сожалению, у самого входа слева, совсем у дверей…
Всякий понимает, что «это» не так просто и легко и что, по сути дела, излишняя роскошь описывать, как он, стуча горными ботинками, ввалился в купе за минуту до отхода поезда, а она в это время уже сидела, удобно устроившись в другом купе, причем надо помнить, что в австрийских поездах купе вагонов третьего класса отделяются одно от другого невысокими спинками скамей, а посреди из конца в конец тянется свободный от каких бы то ни было перегородок проход. Вагон был невероятно замусорен, и воздух в нем стоял тяжелый, так как в этом поезде обычно ездят на рынок тирольские крестьяне, и поэтому, надо прямо сказать, он был недостоин встречи, о которой пойдет речь.
Ах, как все было бы просто, если бы судьба забросила его непосредственно в купе девушки и он оказался бы ее соседом. Поезд-то ведь уже шел! А тут, словно в насмешку, их разделял длинный вагон со всей его унылой пустотой. Он робко сидел в своем углу, смотрел на нее украдкой, но, не отводя глаз, судорожно искал предлога и подходящей фразы, чтобы завязать разговор и не показаться смешным, а времени на все про все было только двадцать восемь минут. Он мучительно ощущал, что каждая неиспользованная секунда мстительно воздвигает стену между ним и девушкой и все больше затрудняет их знакомство… А она пыталась через кружок, который отскребла пальцем в промерзшем окне, разглядеть залитую солнцем местность, стараясь не выдать мимолетного любопытства, которое вызывал у нее юноша, сидящий у входа. Вот каково было положение вещей. Что ж ему предпринять? Что сказать? Может быть, без всякой церемонии вскочить, подойти и смело, с грациозной прямотой начать: «Многоуважаемая фрейлейн, поскольку мы оказались с вами попутчиками, разрешите…»
Но не говоря уже о том, что это не в его характере, ему все время мерещились бы за спиной насмешливые, преследующие его глаза, которые лишили бы его всякой уверенности… И разве не видно сразу, что эта девушка в обиду себя не даст, что голова на плечах у нее сидит не зря; девчонка может его так отбрить, что он все эти три дня в горах будет помнить свой заслуженный позор. Да, конечно, он себя знает. А кроме того, что именно он просит ему разрешить? И откуда ему известно, что они попутчики? Он понятия не имеет, куда она едет. Ему в Енбахе уже выходить, она же наверняка поедет дальше… Никто, разумеется, не садится в поезд заблаговременно и не занимает место получше, если едет только до Енбаха, тут безразлично, какое место попадется. Да ты и психолог, оказывается! А она, как назло, такая красивая, свежая, золотоволосая, стройная, и белый свитер так идет к ней, и рот у нее словно создан, чтобы смеяться, и совсем он не маленький, как у подростка, и в синих глазах такой веселый огонек, а юбка, конечно, короткая и еще синее глаз, и на ногах, несомненно, грубошерстные гетры! Об этом, правда, он только догадывается; да, насчет гетр и длины юбки он только догадывается, видеть он ни того, ни другого не мог, ведь девушка не поднималась с места. Но чувство стиля никогда его не обманывало. Она – идеал попутчика, более счастливого случая ему никогда не представится, а время идет, вот-вот раздастся: Енбах! – и ему придется сойти! Опять, как всегда в такие минуты, он почувствовал во всем теле дурацкую дрожь, дрожь беспомощности; он стискивал, судорожно стискивал руки, болтал то правой ногой, то левой, в животе появилась какая-то тяжесть, в глотке, казалось, совсем пересохло. Поезд катился, усиленно грохоча, как всегда при приближении к станции. (Тормозит, вот в чем дело, – подумал он.) Вдруг девушка встала, приподняла рюкзак. О боже, она, кажется, тоже выходит на этой станции, нет, не кажется, а наверняка! Его точно подхватило что-то, куда-то понесло, он устранял бесчисленные преграды, одолевал препятствия и наконец в ту минуту, когда поезд остановился, произнес уже известную нам фразу:
– Можно нарушить ваше одиночество, фрейлейн?
И, как опять-таки известно, она ответила:
– Можно!
Услышав это «можно», он даже не заметил, что все его проницательные умозаключения, решительно все, включая гетры, неверны, и это вполне понятно (с каждым из нас было бы то же самое). Ее юбка, так же как и гетры на мускулистых ногах, оказалась оливкового цвета. Нет, об этом он не думал, он всем сердцем радовался своему счастью и изумительно ясному февральскому утру, ибо солнце, только что заигравшее мерцающим серебром на иглистом кружеве инея, приветствовало громады зубчатых ледниковых вершин – бело-золотую стену на фоне густо-синего неба. Едва путешественники вышли из вокзала, как сразу очутились у подножия горы, и ему подумалось, что намерение взобраться на вершину неприступного и прекрасного ледового властелина – непростительная дерзость.
Предвкушая радость восхождения, он поудобнее приладил на спине рюкзак и вдруг сообразил, что пока еще не услышал от своей спутницы ничего, кроме туманного, только приблизительного разрешения ее сопровождать. Куда? Вот в чем вопрос! А если их пути сразу же и разойдутся? Ведь он приехал с определенной целью, и отказаться от нее ради этой девушки… Он с глубоким удивлением почувствовал, что в душе уже готов допустить такую возможность, хотя это и стоило бы ему длительных колебаний и борьбы с собой. Поэтому он облегченно вздохнул, когда девушка на вопрос, куда она держит путь, – ей понравился его высокий красивый лоб и нескладные руки, настоящие мальчишеские лапищи, – тотчас же ответила:
– В Крейт, вдоль Ахен-Зе, а вы?
– В Миттенвальд, в селение скрипичных мастеров, я отдал туда скрипку в ремонт и хочу сам ее получить.
– Значит, нам по пути, – заключила она. – Вот и чудесно! Но назовитесь по крайней мере. Правда, сейчас масленица, время карнавала, а все же…
– Разумеется, ведь надо знать, какой на человеке ярлык навешен. Итак, я… Но, может быть, сначала вы себя назовете?
В голосе у него было столько задора, он так лукаво взглянул на нее исподлобья, что она звонко рассмеялась, и это было чудесно. Как ни странно, он упорно стоял на своем. Направляясь к шоссе по дорожке, подернутой ледяной коркой, она подумала:, он хочет поменяться ролями – взять себе пассивную женскую, а ей предоставить мужскую, роль бесстрашного завоевателя. К собственному удивлению, она с удовольствием включилась в эту игру, назвав ему свое красивое имя – Ева и фамилию – Марер. В ответ она услышала, что он – Карл Магнус. И когда Карл тут же, без дальних околичностей, сообщил, что он «психолог», она, прямо глядя в его светло-серые бледные большие глаза, так сердечно, от души рассмеялась, обнажив великолепные крепкие зубы, что смех ее, целая гамма от высоких нот до самых низких, рассыпался звоном колокольцев. Поспешно извинившись, она объяснила причину своего веселья, и он поверил ей. Этот младенец с трогательными длинными мальчишескими руками и ногами, простодушный и наивный, – он психолог? В это объемное понятие она вкладывала все, что восприняла от Стендаля, от Ницше и от своего большого, смелого и мудрого Ганса, открывшего ей дорогу к этим книгам, и не только к книгам – нет, ко всем радостям жизни, и по этой дороге они через три дня пойдут вместе… Но вдруг отвлекшие ее мысли сами собой оборвались, и она остановилась, воскликнув:
– Как красиво!
Шоссе, почти прямое, делало здесь поворот. Деревня, дремавшая под снегом, осталась позади. Перед ними было лишь несколько последних захудалых домишек, за которыми начинался подъем в горы, холодная белая тропа, голубоватая лента на золотой белизне, голубые тени за каждой неровностью и огненно-синее небо, раскинувшееся в вышине. Но не только поэтому остановилась Ева Марер, сияя от счастья. Восторг ее вызвал один домик, такой же захудалый, как остальные, но хозяин его развесил на длинных шестах весь свой урожай кукурузы; он так тесно расположил тяжелые, густо-желтые связки, что они закрыли всю южную стену дома, оставив лишь узкие просветы для окон. И вот там, где солнце освещало все это богатство, бедный домик казался вылитым из чистого золота с разбросанными по нем рубинами кукурузы… Бело-золотая снежная пелена, синее небо, воздух – хоть пей его, как ледяное вино, – пожалуй, и вправду стоило остановиться. Ах, человек на этой доброй земле, думала она почти с религиозным благоговением, он бессмертен в ее плодах, они приобщают его к красоте и только напоследок питают его… О земля, добрая, большая богиня в своем зимнем одиночестве, окруженная холодом Вселенной!
– Хорошо! – охотно согласился юноша. – Но теперь я знаю, кто вы, вы – художница.
– Думаете? Ах, да, ведь вы психолог. А почему именно художница?
– Кто же еще? Музыкантша? Ни в коем случае, в вас нет ни неряшливости, ни экстравагантности. Студентка? В студентках всегда заранее чувствуется учительница, их нельзя не узнать сразу же. Вы непринужденны, свободны, они такими не бывают.
– Так. Значит, биография моя готова. Только возраста вы не определили.
Он даже не уловил ее дружелюбной иронии. Меряя ее испытующим взглядом, он с увлечением продолжал:
– Вам столько же лет, сколько мне, – двадцать два. Правильно? Видите! Правда, вам столько не дашь, но я чутьем угадываю… Я не ошибся?
– Вы большой знаток женщин. Но теперь, Магнус, разговоры окончены, начинается подъем.
Она пошла вперед. Карл Магнус густо покраснел. От счастья – определил он. Она назвала его просто Магнус. После этого можно в полном молчании и вне себя от восторга хоть штурмовать гору…
Дорога круто поднималась вверх, очень скользкая в тех местах, где снег за вчерашний солнечный день подтаял, а мороз сковал лужицы льдом, маленькими ледяными плитками, прозрачными, в прожилках. Тем не менее путники шли уверенно, но осторожно. Шипы на ее горных башмаках вгрызались в гладкий лед, через мгновение отрывались, упор передавался острию палки, шипы делали огромный прыжок и снова вгрызались в лед. Так, шаг за шагом, все дальше, все выше… Магнус, слегка согнувшись, взбирался след в след за девушкой и смотрел, как крепко и твердо она ставит ноги; по-видимому, она привыкла к горным прогулкам. Он с удовольствием наблюдал, как ритмично раскачиваются ее бедра, ее плечи под мягким свитером, залитым солнцем, светившим им в спины… Так шли они, молча, наслаждаясь началом восхождения. Тропа вела вперед, ввысь, в тишину, в красоту. Справа и слева расстилалась снежная пелена, ослепительная под солнцем, роскошная и нетронутая. Под ногами пел снег, растоптанный, но не побежденный. Зернистый, сухой, не мягкий, не тающий. Небольшой уступ преградил им подъем, они на мгновение остановились, оперлись на свои палки и, по-прежнему не проронив ни слова, еще раз оглянулись на долину, на вокзал, на две сверкающие ниточки рельс, немые отсюда, сверху. Раньше чем двинуться дальше, Ева спросила своего спутника, знает ли он дорогу к Ахен-Зе?
– Да, – сказал он, – вот карта. Заблудиться нельзя. – Он сказал это как-то легко и уверенно, и они вновь зашагали.
Добравшись до седловины, они неожиданно очутились в лесу. Подъем стал более отлогим. Глубоко проваливаясь в снег, можно было ступать рядом. Но они не разговаривали. Лоб Магнуса прорезала вертикальная складка, точно юноша о чем-то напряженно размышлял. И он действительно размышлял: о себе и о шедшей рядом девушке. Он, несомненно, чувствовал, насколько она сильнее, ближе к природе, проще, непринужденнее, зато сила его интеллекта, надеялся этот наивный чудак, сила его духовной культуры достаточно велика, чтобы не чувствовать себя обойденным судьбой. Он сказал про себя «судьба», как раньше говорили «бог», – очень благоговейно; он и думал «бог», но думал безотчетно, как ребенок. И он предпочел бы откусить себе язык, чем произнести это слово. Так, размышляя, взбирался он все выше.
А Ева Марер шла, широко раскрыв глаза и душу, но не в нее она заглядывала, она смотрела на светлый мир, растроганная и восхищенная жизнью вокруг себя, пихтами, елями и соснами, они стояли, точно в задумчивости, девственные, темно-зеленые. Казалось, деревья скрывают, что им приходится вести борьбу ежедневно, еженощно – с камнем, с ветром, с морозом; свои снежные и пушистые драгоценные лебяжьи шубы они носили гордо, словно аристократические дамы. А вокруг них… Нежные тени влекли к себе глаз, в зимнем лесу происходила таинственная игра красок, и восторженное изумление взволновало душу Евы: верхушки сосен были залиты червонным золотом, а у земли в стволах их словно отражалась сирень. Там и тут попадались кусты со светло-зелеными листиками, пронизанными солнцем… И это теперь, зимой! Нежные ветки барбариса, усеянные светящимися алыми ягодами, словно колос овса – зернами, изогнулись изящными дугами, а под ними стелился коричневый, чуть подернутый зеленью ковер из опавших сосновных игл.
До чего же все это красиво! И тишина! Только из чащи леса доносился звенящий, как тонкие серебряные струны, щебет мелких пташек: синички, невидимые, порхали, то чирикая, то умолкая. Перед путниками открылась свежевырубленная просека, и вдруг раздался громкий, встревоженный стук дятла по дереву… И опять – тишина, глубокая, необъятная!.. Одно лишь растроганное сердце не разделяло этого покоя и потому с такой силой на него откликалось. И все же: как ровно течет в жилах кровь. Ни следа от бурного, праздничного ее кипения в дни масленичных карнавалов с их вихрем удовольствий и радостным предчувствием новой жизни, жизни с Гансом. Как тихий сад, будет вспоминать она последние три дня своего девичества. Она это знала. Она правильно поступила, не взяв с собой Ганса, несмотря на его гневные просьбы. Прежде чем навсегда отдаться ему, ей хотелось еще раз полностью принадлежать себе, еще раз безраздельно пожить своей жизнью, точно в просторных залах, где не натыкаешься ни на какие углы, где ничего тебя не стесняет, никто с тобой не заговаривает, никто не нарушает твоего покоя. Пусть Ганс проведет вторник на масленице как ему вздумается, ее это не волнует, она уверена, что мысленно он всегда с ней. Три дня пусть оба, и он и она, поживут раздельно, каждый сам по себе, а в среду, на первой неделе поста, они радостно соединят свои жизни. Она с особой ясностью и без всякой горечи оглядывает сейчас свое прошлое и так же прямо и честно смотрит в глаза будущему… Студент и студентка связывают себя узами брака. Хорошо, что Гансхен послушал ее. Она любит его, сильнейшего из них двоих, склоняется перед ним. Она уверена в нем. Откуда же взялась вдруг тоска, горячее желание, чтобы он, он, а не юный Магнус шел рядом? Теперь ей казалось, что, проведи она эти три дня в полном одиночестве, которое и было предлогом и целью ее поездки, она чувствовала бы себя прекрасно. Все же она, вероятно, не выдержала бы. Поэтому она рада встрече с этим парнем, она благодарна ему, этому серьезному мальчугану, возомнившему себя мыслителем. В ней проснулся материнский инстинкт, матриархальное начало, как говорил, подтрунивая, Ганс, стремление пригреть под своим крылышком маленького мальчика. Какой укоризненный взгляд бросил бы на нее Магнус, если бы подозревал, о чем она думает… Ева была довольна, что он молчит. Кто знает, какие проблемы сейчас решает Магнус, этот юноша с умным лицом, с глубокой вертикальной складкой на лбу. По сути дела грустно: всего двадцать два года, а он, так и не созрев, словно уже увял. Ей стало жаль его, и, пока они шли и молчали, в них росло чувство товарищества, чувство общности, что-то теплое, надежное, отчего светлый день казался еще светлее. Они дошли до перекрестка. Это послужило предлогом для разговора – сначала чисто делового. Направо поднималась крутая тропа, терявшаяся вскоре в лесу, на ней виднелись редкие следы человеческих ног. А прямо, параллельно миниатюрным рельсам узкоколейки, вдруг оказавшейся перед путниками, шла все та же протоптанная дорога, и Магнус, не сверившись, к сожалению, с картой, выбрал ее, как наиболее удобную. Широкая и прямая, без трудных подъемов, она позволяла разговаривать. Оба оживились, обоим было хорошо оттого, что светило солнце и что они были вместе.
Она начала расспрашивать о его жизни, о его друзьях, и он отвечал застенчиво, почти против воли, но счастливый ее участием к нему. Из его многословных, расплывчатых ответов она представила себе его жизнь, чисто интеллектуальную, лишенную обычных радостей, без молодости и без свершений, а главное – без любви. Он и не знал, что может быть иначе. Он вовсе не чувствовал себя обойденным. Друзья, близкие ему по духу, книги, много говорившие его уму и сердцу, – вот что он называл своими самыми большими радостями, а музыка, оперы Рихарда Вагнера, которые он слушал в Мюнхене, приносит ему море счастья. Живопись не вызывает в нем особых эмоций – о, он знает себя, он регистрирует все четко и ясно.
А дружит ли он с женщинами, спросила Ева. Нет, он не ищет знакомства с ними, женщины ему не нужны. Толчка мыслям они не дают, какой же в них прок?
А любовь? Ах, боже мой, он не уверен, способен ли он любить, да и вправе ли ожидать любви; жизнь мыслителя и любовь редко совмещаются, во всяком случае, ни один философ не был женат, кроме Сократа, которому, как известно, довольно-таки «ксантиппно» жилось. Да, однажды он уже был влюблен, он по-настоящему любил, если любовь означает радостную готовность принять из рук молодой девушки свою судьбу, какова бы эта судьба ни была. Пусть говорят что угодно, но у него именно такое представление о любви, о подлинной любви. Он, быть может, не очень активен, он в общем человек не бурного темперамента, скорее флегматик – таким уж он уродился. Не повезло ему, понятно. Но главное ведь не в этом; несмотря ни на что, он благодарен своим близким. Какой, в самом деле, грубый предрассудок считать неразделенную любовь несчастьем только потому, что она приносит страдание. Прежде всего, совершенно не логично полагать, что любовь всегда и непременно встретит ответное чувство, что она дает право требовать его, а затем – для молодого человека несчастная любовь является скорее счастьем. Почему? Да потому, что страдание – чувство гораздо более сильное, чем страсть, и потому, что оно, это жгучее чувство, потрясает всего человека, не дает ему успокоиться, гонит его вперед и вперед. Человек раздирает душу на части, стараясь избавиться от причины, по которой его не полюбили, стараясь совершенствоваться и силой мысли облагородить, углубить свои восприятия. Он, Магнус, наблюдал на своих школьных товарищах, как даже способных юношей опошляет успех у девушек.