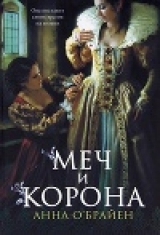
Текст книги "Меч и корона"
Автор книги: Анна О’Брайен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 31 страниц)
Я изящно пожала плечом, удобно расположившись на казенной скамье на берегу небольшого пруда.
– Вы себялюбивая женщина, Элеонора. Вы мешали моему крестовому походу на каждом шагу.
Я пошевелила пальцами в теплой воде, вспугнув золотых рыбок, которые держались у самой поверхности, отыскивая корм.
– А в Антиохии вы ведете себя самым прискорбным образом…
Я громко расхохоталась и наклонилась вперед, чтобы видеть свое отражение в воде.
– Побойтесь Бога, Элеонора! – Людовик был великолепен в своем гневе. – Все говорят, что вы ведете себя как блудница!
– Блудница? – Я подняла на него невозмутимый взгляд. – А вы верите всякой глупой сплетне, какую только услышите? Может, хотите расспросить меня о Саладине? [80]80
Саладин (Юсуф ибн Айюб Салах эд Дин; 1138–1193) – будущий султан Египта и Сирии (1171–1193); он отвоюет у христиан Иерусалим, будет успешно противостоять Третьему крестовому походу, одним из главных вождей которого станет король Англии Ричард Львиное Сердце, сын Элеоноры. В описываемое время Саладин, сын правителя Баальбека (вблизи границ Антиохии), получал образование в Дамаске. Изложенная здесь легенда могла возникнуть лишь во времена III похода, не раньше, поскольку в 1149 г., когда разворачивается действие этой главы, о Саладине еще никто не знал.
[Закрыть]Как вы полагаете, Людовик? Есть ли там хоть крупица истины? Или это просто сказка, достойная моих трубадуров?
– Ну, вот! Видите? Вы что, ни к чему не относитесь серьезно?
Сказка была воистину чудесная. Соблазненная негой Востока, я, Элеонора, стала повсюду бросать жаркие взгляды в надежде отыскать мужчину, более подходящего мне, нежели лишенный живой крови король. И остановила взор на Саладине, знаменитом предводителе турок. Когда Саладин, тоже пылко влюбившийся, прислал один из своих кораблей, дабы увезти меня и подарить жизнь в роскоши, привычной сарацинам, я охотно ухватилась за такую возможность, покинула свои войска и села глухой полночью на корабль.
Но девушка-служанка вовремя предупредила Людовика. Вы только себе представьте… Мой неустрашимый супруг поспешно оделся и устремился вперед, чтобы удержать меня, когда я уже ступала на борт корабля. Людовик взял меня за руку и без усилий отвел в мои покои, спросив только, для чего хотела я покинуть его. Он проявил любовь и привязанность ко мне, спас от участи, которая была бы горше смерти.
Раймунд покатывался со смеху, когда впервые услыхал эту клеветническую басню.
– Эта повесть чудовищна! – бушевал в гневе Людовик.
– Особенно если учесть, что Саладин – ребенок, ему двенадцать лет! – Мне не удалось подавить смешок. – Кажется, я еще обозвала вас гнилой грушей, Людовик, и утверждала, что люблю Саладина гораздо сильнее.
– Не подобает, чтобы над королевой Франции так потешались, – высокопарно заявил Галеран, порицая меня.
– Не подобает, чтобы Его величество и его советники прислушивались ко всяким грязным сплетням, – парировала я. Мне уже это надоело. – Пусть этим забавляются сами сплетники.
Но за внешней веселостью во мне бурлил гнев – на Людовика, который притворялся, будто верит таким нелепым и оскорбительным выдумкам, на Галерана, который осмеливался читать мне нотации.
Людовик небрежно махнул Галерану, чтобы тот оставил нас наедине.
– Достаточно ли надежна ваша репутация, чтобы устоять против сплетен о том, что отношения ваши с князем носят… неподобающий характер?
– Не начинайте снова, Людовик, – зевнула я.
– Но говорят; вы делите с ним ложе.
У меня зачесалась рука – так хотелось стереть с его лица это ханжеское выражение.
– Правда? И вы этому верите?
– Я видел вас, когда вы вместе. Он гладит вас. Целует. Гуляет с вами наедине.
– Он заботится обо мне. Его поцелуи – не любовные.
– Он брат вашего отца, Элеонора. Это безнравственно!
Я стояла не шелохнувшись и осмысливала брошенное обвинение. Так вот о чем сплетничают, так, выходит? И Людовик счел это достаточным, чтобы повторить мне в лицо. Искушение мое оказалось слишком велико – к стыду своему, должна признаться, что на бледной щеке Людовика запылал красный рубец. Я ударила, не умеряя силу. Людовик отшатнулся, но не ушел.
– Вы это отрицаете? – настойчиво спросил он.
– Нет. Я ничего не признаю и ничего не отрицаю.
– Вы должны вести себя строже, Элеонора.
– Вы так полагаете? – улыбнулась я. – Я больше не отвечаю за свои поступки перед вами, Людовик.
Значит, поговаривают, что я делю ложе с князем Раймундом, вот как? Сплетники, любители заваривать кашу, мои недруги. Они перешептывались о скандальной связи с кровным родичем. Они втопчут в грязь мое имя, покроют его несмываемым позором. Ибо кровосмесительство почитается худшим из извращений, низшей ступенью падения.
Способна ли я совершить подобный грех?
Судя по всему, способна. Я его совершила. Ах, слухи были вполне справедливы! Но случилось это лишь после того, как Людовик обвинил меня. Раз он обвинил – значит, меня считали виновной, и я пошла на это с открытыми глазами.
Раймунд, князь Антиохийский, во всем своем блеске восточного владыки – и по внешности, и по сути – стал моим возлюбленным. Как соблазнительна самодержавная власть, когда ею пользуются уверенно и искусно! Стоит пошевелить пальцем – и его воля уже исполнена. Стоит глазом глянуть или приподнять бровь – и прихлебатели тут же бросаются со всех ног услужить повелителю. А как прекрасен был он в моих глазах, когда душа истомилась за те долгие недели страха и лишений, в течение которых смерть нависала надо мной со всех сторон. Ах, да, я чувствовала себя соблазненной. И охотно предалась скоротечному роману.
Ах, Раймунд! Ты завлек меня в роковую ловушку.
Я любила его, обожала, всеми чувствами обостренно воспринимала его откровенную физическую привлекательность. Понимала ли я, что нельзя поддаваться влечению? Наверное, понимала, но и не извинялась за несдержанность своих чувств. Как могла я не ощущать всей силы его личности, не отвечать на могучий зов вопреки всем учениям святой церкви и даже вопреки доводам разума? Меня с детства приучили разбираться в политике, и все же одной улыбки, одного горячего взгляда его синих глаз было достаточно, чтобы все политические соображения тут же рассыпались в прах.
В свои тридцать шесть лет он был по-настоящему великолепным самцом, куда красивее, чем позволительно быть мужчине – но не того типа, что граф Анжуйский с его блестящей рыжеватой гривой. Нет-нет. Раймунд был могучим, золотистым, истинным львом в образе мужчины. И каким же он был сильным! Не могу себе представить, чтобы Людовик – да вообще любой мужчина – мог сдержать разгоряченного боевого коня, просто сжав его коленями. Раймунда любовно прозвали Геркулесом, он таким и был – красивым, как древний грек, способным совершить двенадцать подвигов и увенчать свою главу лаврами побед.
Не стану упрекать Людовика в моем падении, но какая женщина, у которой муж – всего лишь тень мужчины, лишенного острого меча в ножнах, ограничилась бы мимолетным взглядом на Раймунда Антиохийского? Он обладал всем тем, чего так недоставало Людовику, он был отважным искателем приключений, прославленным воителем, покорителем женских сердец, искусным наездником, о котором слагали баллады его менестрели. У меня сердце замирало, когда они воспевали его охоты, его подвиги в сражениях с турками. При всей властности манеры у него были утонченными, обращение – мягкое и учтивое, гладкое, как восточный шелк его одеяний.
«Всего лишь опустившийся хозяин сераля», как поспешил заклеймить его Людовик – но при дворе Раймунда не были в чести ни обжорство, ни пьянство, ни разврат. Раймунд проявлял во всем удивительную умеренность. Только не нужно ставить ему в вину желание оказать мне честь на пиру: тогда отпустили золотые сети, натянутые у нас над головами, и сверху дождем посыпались ароматные лепестки роз, устлавшие столы, мраморные плиты пола, наши плечи.
Взгляды Раймунда, обезоруживавшие своей прямотой, поощряли меня развлекаться всевозможными легкомысленными безделицами, погружаться с удовольствием в ту роскошь, которой он меня намеренно окружил. И я безоглядно предалась этому внезапному роману, бросилась в бездонную пропасть, заботливо выстланную мягчайшими подушками. Готова поклясться, что Раймунд завлек бы в свои объятия и ангела с небес.
Людовик тогда ушел с пира, всем своим видом выказывая осуждение, а в волосах у него нелепо застряли розовые лепестки.
Вот и все о романе. Ах, да, но надо ли было мне идти на ложе к Раймунду? К окончательной погибели привели меня (если мне так уж хочется верить, будто ему пришлось меня соблазнять) великолепные римские бани, устроенные в самом дворце – облицованные плиткой, прекрасно отапливаемые, наполненные музыкой воды, плещущей бесчисленным множеством струй. Главный бассейн был так велик, что в нем при желании можно было поплавать, а для желающих отдохнуть вокруг него были расставлены скамьи, устланные шелковыми подушками. У меня вошло в привычку роскошествовать там в предвечерние часы – плескаться в теплой воде, а потом, устроившись в просторном банном халате на ступеньках бассейна, есть сласти в сахаре, запивая их вином или шербетом, а шелк воды тем временем ласкал мои ноги.
Однажды Раймунд вошел туда и подсел ко мне. Мы не виделись с момента военного совета.
Знал ли он, что я здесь? Несомненно.
– Ты всех потрясла, Элеонора!
– Запомнят они, правда ведь?
Хотя он и улыбался, у глаз и вокруг рта залегли морщинки, выдававшие напряжение – прежде я их не замечала. Несомненно, то был результат все растущей угрозы городу. Со стоном Раймунд опустился на краешек бассейна. Минуту посидел молча, затем потер лицо руками и улыбнулся мне. Ни слова не говоря, нимало не смущаясь, сбросил с себя всю одежду и погрузился в воду рядом со мной, разбросал руки по кромке бассейна и глубоко вздохнул.
– Не думаю, чтобы я смог когда-нибудь вернуться на Запад, – проговорил он, откинувшись головой на теплые камни, так что локоны купались в воде. – Зимы холодные. Лед, снег, можно промерзнуть до костей. А здесь жизнь приятна, даже чересчур.
– Все правители на Востоке становятся такими толстыми! Мне рассказывали.
Можно ли порицать меня за то, что я шла ему навстречу?
– Мне тоже рассказывали, – вздохнул он, нежась в теплой воде. – А что ты сама теперь думаешь об этом, Элеонора? Когда увидела одного такого воочию…
Он улыбнулся притворно-сонной улыбкой, повернул голову так, что я уловила на миг блеск его синих глаз и тут же пожалела о том, что затеяла неразумный флирт. Вспомнив, что одежда на мне совсем прозрачная, я отплыла к другому краю бассейна. А надо ли было? Того ли я хотела на самом деле?
– Ты покинула меня, очаровательная Элеонора, – заметил Раймунд с сожалением.
С непринужденным изяществом он наполнил кубки вином и поманил меня пальцем. Я поплыла обратно. Взяла изумительный стеклянный кубок, деликатно погрузилась так, чтобы вода покрывала мою грудь, и стала потягивать вино, глядя на Раймунда поверх кубка.
– Людовик готовится отбыть, уже почти все готово, – сказал Раймунд, удивив меня неожиданной сменой темы. Разве мы встретились здесь ради того, чтобы обсуждать политические дела? – К концу недели он уйдет.
– Я знаю.
Раймунд вскинул голову:
– Так ты твердо решила остаться?
– Если вы меня примете.
– Непременно! – Он приблизился и поцеловал меня в висок. – Прекрасная моя Элеонора. Будь моя воля, ты бы навсегда осталась здесь, со мной.
А что бы сказала на это твоя жена? Должна признать, о Констанции я совсем не думала. Мы редко виделись: она со своими женщинами проводила время в уединении и не бывала ни на пирах, ни на охоте, даже в саду не гуляла. Время от времени я навещала ее в покоях, куда мало кто имел доступ. Чем заполняла Констанция свой досуг? Лучше бы уж она, подумалось мне, повнимательнее приглядывала за своим красавцем супругом.
– Полагаю, я смогла бы, – ответила я.
Раймунд резко запрокинул голову, подняв фонтан брызг, и допил свой кубок до дна.
– Не сможешь. Я слишком хорошо тебя знаю. В твоей крови живет Аквитания. Ты всегда найдешь причину, чтобы вернуться домой.
– Вы слишком хорошо меня изучили. И всего-то за восемь дней. – Я допила густое антиохийское вино и вздохнула от удовольствия. – А кажется, целая вечность прошла.
– Вечность… – Раймунд забрал у меня кубок, поставил на край бассейна. – Иди ко мне ближе.
Переплел наши пальцы и бережно подтянул меня к себе; я встала рядом, покачнувшись, но устояв на ногах. Он легонько, едва прикасаясь, провел пальцами по моей руке, поцеловал в лоб, потом коснулся губами волос, завивавшихся на виске.
Потянул ноздрями воздух.
– Что такое?
– Ты умащиваешь волосы каким-то колдовским снадобьем, – пробормотал Раймунд. – Могу поклясться, что ты ведьма.
– Я не пользуюсь заклинаниями.
– Правда? – Он смотрел на меня весело и в то же время как-то серьезно. – До этой минуты я всегда хранил верность Констанции, даже в мыслях… Но сейчас…
Я отчаянно закачала головой: теперь, когда пришлось взглянуть правде в глаза, мною овладел испуг.
– Пойдем со мной… – позвал Раймунд.
Не столько позвал, сколько спросил, оставляя право выбора за мной. Бог свидетель, я не могу взваливать всю вину на его плечи. Я пошла за ним без единого слова. В комнату для переодевания, где стоял диван, застеленный полотном и усыпанный шелковыми подушками. Что произошло там между нами, должно остаться нерассказанным; свидетелей не было. Довольно сказать, что мой князь Антиохийский заново показал мне все, что я уже знала, и поразил тем, что оставалось мне до тех пор неведомым.
– Нас ожидает за это проклятие, – сказала я, когда отдышалась и вновь обрела способность говорить. – Всеобщее осуждение.
– Нас осудят и проклянут за множество вещей. Разве не вольны мы сами выбирать, в чем грешить?
Это было преступлением. Разумеется, было, как бы я ни пыталась оправдывать то, что мы совершили, как бы ни пытался Раймунд убедить меня, что ничего дурного этом нет, зла мы никому не причинили. Кровосмесительство. Слово само по себе неприятное, а к этому надо еще добавить суровое осуждение и поношение со стороны тех, кто придерживается строгих христианских требований. Людовик никогда не смог бы поверить, что я способна даже помыслить о таком, а тем более совершить на деле. Но я поверить могла.
С моей точки зрения, то, что мы совершили, проистекало из любви и никому не причинило вреда. Для Людовика же это был смертный грех, заслуживающий наказания адскими муками, никак не меньше.
Но как сам Бог рассудит?
Раймунд был, возможно, слишком близок ко мне по имени, по крови, но ведь я совершенно его не знала как родственника, да и по возрасту он вряд ли мог мною руководить. Мы были во всем похожи, как половинки единого целого. В обоих говорила аквитанская кровь, так притягивавшая нас друг к другу.
Когда Предвечный призовет меня в день смерти на свой суд, что скажу я?
Я была любовницей своего дяди.
Обречет ли Он меня на вечные муки в преисподней? Осудил ли Он деда моего за супружескую измену? И бабушку мою – за то, что она предала своего мужа и свою семью? Конечно, Он будет судить по тому, что увидит в сердцах наших, моем и Раймунда. Там нет ни зла, ни коварства. Нет жестокости, нет жажды мщения. Не может быть, чтобы Бог осудил меня со всей силой своего гнева. Он осенит меня состраданием своим. Его слезы смешаются с моими. Он поймет меня, когда я перед Ним предстану. В этом я не сомневалась.
В конце концов, вся разница только в степени родства, разве нет? Близкое родство с Раймундом – кровосмесительство, грех, заслуживающий сурового осуждения. А родство с Людовиком чуть более отдаленное – и оно всего лишь ставит под вопрос законность нашего брака, но не обрекает меня на вечную погибель.
Если бы Раймунд приходился мне двоюродным братом, никто бы особенно не возражал.
Видите, как я умею подбирать доводы в свое оправдание?
Единственный повод для сожалений… Раймунд преследовал свои собственные цели. Нет, я не сомневаюсь в том, что он меня любил, желал меня, но он хотел также закрепить на своей стороне все мое влияние, силу моего войска; а как лучше всего добиться этого, если не разделив ложе? Не так, как анжуец, скрытный и беспощадный – сердце Раймувда было открыто для меня, он заботился обо мне. Я с самого начала понимала, что нужно от меня Раймунду, да он этого никогда и не скрывал. И это вовсе не значило, что он не испытывал ко мне самых нежных чувств. Мы искренне любили друг друга, искренне заботились друг о друге, сознавая, что нас ожидает расплата, но не придавая ей большого значения.
Почему же я позволила себе идти этой скользкой дорожкой?
Возможно, утратила разум на горе Кадм и среди ужасов Атталии. Ненадолго. Вот и все, что я могу сказать в свою защиту.
Подумала ли я о Констанции? Нет, ни разу. Может быть, как раз за это я заслуживаю осуждения.
Я спала и сквозь сон услыхала какой-то звук, почувствовала движение воздуха. Открыла глаза, но не пошевелилась. Никого. Погруженная во тьму спальня (значит, до рассвета еще далеко) была пуста. Наверное, какая-нибудь птица взлетела с ветки в саду – окно было растворено, впуская в комнату ночную прохладу. Я снова смежила веки.
По полу прошелестел шаг обутой в сапог ноги. Сухо зашуршала, звякнула колечками кольчуга. В спальне кто-то был. Я медленно села на постели, сердце тяжело заколотилось.
– Агнесса?
Пошевелилась чья-то тень. Я вдруг испугалась, выхватила из-под подушки кинжал-мизерикорд [81]81
Мизерикорд, мизерикордия (буквал. «милосердие») – узкий трехгранный кинжал, который рыцари использовали в основном для добивания противника на турнире или на поле боя. Появился в XII в. у рыцарей ордена госпитальеров (иоаннитов) входил в обязательную экипировку. Совершать же самоубийство рыцарям запрещала христианская религия.
[Закрыть]– тонкий смертоносный клинок, который проникал между сочленениями доспехов. Рыцари-крестоносцы носили такой, чтобы нанести последний удар, если им угрожал турецкий плен. Я взяла в привычку не расставаться с ним после событий на горе Кадм.
– Кто здесь? Что нужно?
Лезвие моего кинжала вдруг осветилось на всю длину: на него упал луч старательно прикрытого фонаря. Я сжала рукоять кинжала, готовясь нанести удар.
– Чтоб тебе черт! – ругательство сразу оборвалось. – Э, нет, не выйдет…
Молниеносное движение, и мое запястье оказалось зажато железной хваткой, а рука в кольчужной рукавице вырвала из моих пальцев кинжал. Так это сарацины пришли убить меня? Началось их ужасное нападение на Антиохию? Но почему тогда не слышно шума битвы? Почему молчат и часовые Раймунда, и крестоносное воинство?
– Ни слова, сударыня, если не хотите, чтобы было хуже! – прошептал мне на ухо угрожающим тоном все тот же голос.
Я вовсе не собиралась ему подчиняться, только под ложечкой засосало от страха.
– Отпустите!
Рука в кольчужной рукавице зажала мне рот, чтобы я не могла больше кричать, потом мне на голову набросили тяжелый плащ, обмотали вокруг тела, словно я была свертком, подлежащим доставке по назначению. Мне показалось, что сверху меня крепко обмотали веревкой, чтобы я не шевелилась; она больно врезалась в тело. Я стала беспомощной и бездвижной узницей в душной темнице, пропахшей шерстью и потом. Страх сжал мне легкие и горло. Несомненно, я так задохнусь. Пришлось сосредоточиться и дышать неглубоко. Нельзя впадать в панику. Нельзя даром расходовать воздух, который так необходим для дыхания.
Меня подняли и куда-то понесли – грубо, неуклюже, сжимая и встряхивая, когда я пыталась брыкаться.
– Лежите тихо, черт бы вас побрал, – снова послышался сердитый шепот. – Тихо, иначе вам придется еще хуже.
Чувствуя себя совсем беспомощной, я затихла, пока меня уносили из моей спальни. Я понимала обращенные ко мне приказы – стало быть, это не сарацины. Но легче от этого открытия мне не стало.
Я почувствовала, что мы покинули дворец: сапоги ступали теперь не по мраморным плитам, а по булыжной мостовой. Потом меня сбросили на подушки, постеленные поверх чего-то жесткого, и затем – снова движение. Я была в носилках или в паланкине, судя по характерному покачиванию и по стуку подков. Плащ слегка развязали, чтобы я могла дышать, но веревки стягивали меня по-прежнему. До моего слуха донесся шум военного лагеря: хриплые голоса, отдающие тихие, но вполне разборчивые приказы.
Меня похитили!
Я лежала на боку, покрывшись потом от духоты и страха; двигаться не могла, разве что перекатываться с боку на бок, толку от чего не было, если только я не хотела скатиться с носилок; размышляла.
Насколько я могла понять, предпринять подобное нападение мог только один человек, и хорошо представляла, по чьему совету он действовал, чья рука направляла весь ход моего похищения. Я могла бы даже раньше узнать крепкую фигуру своего похитителя, его сыпавший угрозами голос, если бы не потеряла голову от испуга. Ну, и что можно с этим поделать? Ничего. Как только носилки пришли в движение, в моих силах было лишь одно: лежать в своей вонючей плащанице и молча терпеть. Но теперь у меня хотя бы сердце стало биться более ровно, да и дышать стало легче. За свою жизнь я больше не боялась. Все, что произошло, вовсе не было направлено на убийство. А кто же осуществил все это?
Людовик, разумеется.
Коль уж я не хотела отправляться в Иерусалим по собственной воле, он решил позаботиться, чтобы я отправилась по принуждению. Без одежды, без необходимых вещей, без моих дам. Понятно, что в ближайшем будущем мы с ними снова будем вместе. Но кто бы подумал, что он способен на такое коварство? Однако это вполне было возможно, если короля направлял Тьерри Галеран.
Страх покинул меня, и теперь на его место пришла ярость; я лежала и безуспешно напрягала силы, чтобы разорвать свои путы. Галеран посмел притронуться ко мне, он посмел унести меня из дворца, не спрашивая моего согласия. Галеран, этот наемный прислужник короля, принуждал меня, герцогиню Аквитанскую, поступать против моей воли!
Мне даже не дали возможности проститься с Раймундом.
Шло время, ночную тьму сменило утро нового дня. Носилки немилосердно тряслись и раскачивались. Я лежала и терпела.
Когда встало солнце и мы оказались достаточно далеко от Антиохии, Людовик, как я и предполагала, счел возможным освободить меня. Меня вынули из носилок и перенесли в палатку – Людовик сделал привал, поджидая, пока нас догонят остальные войска, включая моих вассалов. Один Бог знает, что он там сказал моим капитанам. Теперь мне это было все равно. Гневу моему не было предела.
Молча негодуя, я стояла, пока развязывали стягивавшие меня веревки, снимали плащ. Моим глазам предстал Людовик, на лице которого застыла ледяная маска неодобрения. Он скривил губы, разглядывая мои запылившиеся ночные одеяния, не слишком скромные. Не говоря ни слова, он взял плащ, отпустил слугу, который развязывал меня, и протянул плащ мне, предусмотрительно держась на расстоянии вытянутой руки.
– Наденьте. Вы неподобающе одеты. Скоро прибудет ваш гардероб, тогда вы сможете привести себя в надлежащий вид.
Он, стало быть, и дотронуться до меня не хотел. Я приняла плащ и тут же уронила его на пол, не отводя глаз от укоризненного лица Людовика. Я не собиралась особо прикрываться, ибо не испытывала никакого стыда.
– Как я выгляжу, заботит меня менее всего, Людовик. Вряд ли вы можете укорять меня за неподобающий вид. Это ваших рук дело.
– Вы ожидаете, что я стану извиняться, Элеонора?
Не было похоже, что он сожалеет о случившемся. Если на то пошло, вид его выражал полное удовлетворение. Передо мной был уверенный в себе Людовик, каким я его редко видела, и я обуздала свой гнев. Гнев – плохой помощник, а мне нужно было выяснить намерения короля.
– Вы обошлись со мной так, будто я ваша крепостная, – сказала я как можно спокойнее.
– А вы заслужили иное обращение?
– Я желала остаться в Антиохии, и вам это было известно.
– Этого я не мог позволить. Мне пришлось забрать вас ради вашего же блага. Как только мы окажемся в Иерусалиме, сплетни, я надеюсь, затихнут сами собой.
– Забрать ради моего же блага?
Мне становилось все труднее сдерживаться, и дыхание мое выдавало эту внутреннюю борьбу.
– Да вы разве не слышали, что о вас говорят? Или же так погрязли в грехе, что затворили свой слух для всех остальных? Галеран растолковал мне…
– Эта жаба! – Я плюнула. – Это он предложил похитить меня, разве нет? Сами вы никогда бы до этого не додумались.
– Я знаю одно: для вас лучше было не оставаться в Антиохии.
– Как вы великодушны! Так близко к сердцу принимать мое благополучие! – Но я понимала, что спорить с Людовиком бесполезно. – И что же случится, когда мы окажемся в Иерусалиме?
– Вы останетесь под моим надзором.
– Пленницей?
Я ощутила легкое беспокойство.
– Если вам так угодно.
Каким Людовик стал негибким. Откровенно говоря, мы с Галераном вывели его из обычной нерешительности. В его манерах сквозила убежденность в собственной правоте и решительность, которая меня просто поразила.
– Я приставлю к вам вооруженную охрану, если придется, дабы сохранить то немногое, что осталось от вашей репутации. Что же до нашего брака…
– Вы согласны на его аннулирование?
– Сейчас не время это обсуждать. Да и вы не в том положении, чтобы просить меня о милостях.
– О милостях? Я не прошу о милостях, только отстаиваю свои права.
– Вы будете со мной в Иерусалиме, – продолжал Людовик, словно и не слышал меня. – Мы не станем обсуждать то, что происходило в Антиохии – сделаем вид, что того прискорбного происшествия вовсе и не было. Вы увидите сами, Элеонора, когда поразмыслите хорошенько, что мои действия направлены к вашему же благу.
Как это на него похоже. Как ужасно похоже. Закрыть глаза на то, что ему не нравится, отказаться даже говорить вслух о грехе, который я совершила с Раймундом. А поскольку его уверенность в собственной правоте подогревалась Галераном, я не видела, на что могу надеяться. Все мои замыслы пошли прахом. Людовик отказывался от расторжения брака, а у меня больше не было власти над своими войсками – того самого средства, которое позволяло мне брать над ним верх.
Будь он проклят! Гореть ему вечно в адском пламени! Но при всем том я понимала, что мне теперь надо быть осмотрительной, очень осмотрительной.
Наконец, он подошел ближе ко мне, наклонился, поднял плащ и набросил мне на плечи, словно я была больна и не в силах сама о себе позаботиться. К тому же он отнюдь не избегал прикасаться ко мне. Голос его звучал ласково, так ласково, что я ощутила сильное желание снова ударить его. От Людовика ласки я не желала.
– Вы сбились с пути истинного, Элеонора. Я о вас позабочусь. Пока вы останетесь здесь, в этой палатке, а вскоре прибудут ваши дамы с гардеробом. Тогда вы сможете одеться подобающим образом и с достоинством явиться перед своими аквитанскими воинами. – Каким чертовски снисходительным тоном он все это произнес! – Вы сами убедитесь, что ваши капитаны более не хотят слепо повиноваться вашим приказам. Ваше поведение уронило вас в их глазах.
Яснее нельзя было бы объяснить мое положение. Я пожала плечами и опустилась на диван, приготовившись ждать. У меня не осталось выбора, так ведь? Позднее, когда я, разодетая в шелка и тонкое полотно, подобающие моему званию, вышла из палатки и смотрела на свои подошедшие войска, все стало яснее ясного: мои капитаны избегали встречаться со мною взглядом. Кто-то старательно распространил среди моих воинов порочащие меня сплетни, кто-то муссировал их и подогревал страсти, пока воины от меня не отвернулись. Я не очень долго гадала, чей же это был ядовитый язык.
Я осталась совсем одна, лишенная всякой власти. Я целиком зависела от Людовика.
Путешествуя в носилках в полном одиночестве, я использовала время для размышлений. Настало время и для того, чтобы определить, где чья вина. Разумеется, вина лежала на мне самой. Я совершила грех. Я сделала свой выбор, а теперь должна пожинать последствия. Взять себе в любовники Раймунда было… неразумно, мягко говоря. С этим я соглашалась, даже отвергая обвинения в безнравственности, которые бросил мне Людовик. Но теперь допущенная мною глупость превратилась в обращенный против меня острый меч, рукоять которого держал в своей руке Галеран. Он мог нанести мне болезненные раны и навеки похоронить мое доброе имя.
Ладно, а что же все-таки мне делать дальше? Останусь с Людовиком? Он мне очень ясно показал: замышлять что бы то ни было теперь не в моей власти. Внутри у меня все переворачивалось, и отнюдь не потому, что носилки раскачивались во все стороны.
Я стала лихорадочно обдумывать, что можно предпринять.
Выбирать было почти не из чего, но в одном я оставалась непоколебима. Мне придется прибыть с Людовиком в Иерусалим, раз уж он решил, что так надо. Но я не останусь там к радости Людовика, чтобы каждый крестоносец мог сколько душе угодно трепать мое имя. Этого я не могла вынести. Как только приедем, я найму корабль – на это у меня хватит и денег, и власти – и возвращусь во Францию, в Аквитанию, где смогу восстановить свое доброе имя. И тем избавлюсь от Галерана и Людовика.
Находясь в своих собственных владениях, я сумею сделать так, что мое имя будет снова пользоваться почетом.
Да, именно так я и должна поступить. Так я решила.
Однако, как выяснилось, с восстановлением доброго имени придется повременить. В Иерусалиме я была вынуждена задержаться куда дольше, чем я надеялась или могла предвидеть.
По какой причине?
Не могла сама поверить, что проявила такую непредусмотрительность, такую слепоту к возможным последствиям. Но так уж получилось: я не приняла предосторожности, не воспользовалась средством римлян. Да и как иначе, если то единственное страстное свидание с Раймундом не готовилось заранее? Как мгновенно отзывается тело, когда тебе больше всего на свете хочется поддаться зову природы! И какая ирония в том, что моя утроба, обычно такая несговорчивая, сразу пала жертвой мужественности Раймунда.
Это было неосторожно, глупо, этого просто не могло быть, да только я понесла дитя.








