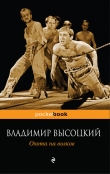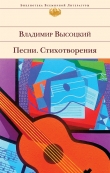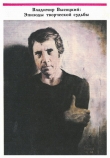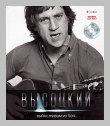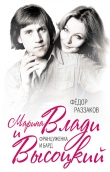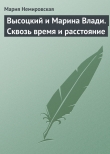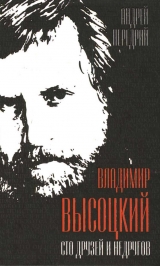
Текст книги "Владимир Высоцкий. Сто друзей и недругов"
Автор книги: Андрей Передрий
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 42 страниц)
Тут можно смело делать скидку на возраст и поэтическую молодость Макаревича: в начале тех же 70-х ему едва исполняется 20, а тому же Окуджаве – уже под 50...
(Хотя замечательный, но, увы, – ныне покойный поэт Алексей Дидуров, в дружбе и переписке с которым посчастливилось состоять автору, придерживался совсем иного мнения. Леша ненавидел Андрея и всегда считал его «бездарным», добавляя при этом, что все эти бесконечные «острова надежды», «корабли надежды», «паруса надежды» и т. д., в огромном количестве присутствующие в ранних стихах и песнях Макаревича, – от банальной бесталанности и узости кругозора их автора...)
До последнего времени не было сведений о посещении Андреем Вадимовичем концертов Владимира Высоцкого или его встречах с поэтом. Ни в своих книгах, ни в интервью «машинист» не упоминает о них. Вообще, Макаревич с большим благоговением относится к Булату Окуджаве: о нем он часто рассказывает, пишет, посвящает ему свои стихи... А в конце 2005 года вышел альбом «Песни Булата Окуджавы», записанный Андреем с «Оркестром креольского танго».
– Когда в вашей жизни появился Булат Окуджава? – спросили музыканта журналисты.
– Лет в пять или шесть. Мой отец привез магнитофон из Бельгии и переписал у соседей по даче какую-то странную пленку, где было несколько песен Булата Окуджавы вперемежку с какой-то совершенной бодягой. И я запомнил эти песни, потому что они невероятно отличались от всего остального. Это вообще было первое, что произвело на меня сильное музыкальное впечатление. А потом, спустя десять лет, это наложилось на «битлов» и получилась «Машина времени».
– Из всех бардов только трое не помещались с головой в это жанровое определение: Булат Окуджава, Владимир Высоцкий, Александр Галич. Окуджава вам ближе?
– Каждый из них мне близок по-своему. В отличие от Окуджавы Галича забывают совсем по другим причинам. Все его песни, мастерски написанные с точки зрения поэзии, остро социальны, крепко привязаны ко времени создания. Они – реакция на то, что в те годы творила советская власть. И с исчезновением объекта песни стали неактуальны, а по большому счету непонятны. С Высоцким – другая история. Он настолько силен как исполнитель, что его исполнение – большая составляющая его песен. Поэтому меня чудовищно раздражают все без исключения подражатели Высоцкого. И я совершенно не вижу себя в их ряду. Окуджава же, на мой взгляд, под дается трансформации.
Вот такие откровения главного «машиниста» России.
Но вот в конце 2006 года, в эфире Радио «Маяк», в программе «Машина моего времени» Андрей Макаревич в новой серии воспоминаний рассказал слушателям о творчестве Владимира Семеновича и своем отношении к нему – в связи с выходом компакт-диска с записью последнего концерта Высоцкого. Послушаем «машиниста», тем более что рассказывает он и о совместных концертах Высоцкого и «Машины времени»: «Время от времени, в последнее время больше случайно, возвращаюсь к Владимиру Семеновичу Высоцкому. Случайно, потому что почти все его песни я помню наизусть. А для меня, кстати, это первый показатель качества того, что человек делает. Хорошее, как у Пушкина, запоминается сразу. Поэтому, вроде бы и нет нужды это переслушивать. Однако ставлю, слушаю по новой, и всякий раз на меня накатывает какая-то ностальгия по прошедшим, в общем, скверным временам, в которых мы были молодыми, веселыми.
Вслед за Владимиром Семеновичем как по команде запели хриплыми голосами, получалось это отвратительно. У него одного это получается так, как надо.
Пластинка называется «Последний концерт». И действительно, эта запись 16 июля 1980 года из подмосковного Калининграда – такое прощание, о котором, в общем, тогда мы еще не догадывались.
Предупреждая обязательные вопросы, которые всегда в этом случае поступают, могу сказать, что знакомы мы с Владимиром Семеновичем не были. Хотя несколько раз играли совместные концерты в закрытых научно-исследовательских институтах, которым в силу их закрытости позволялось несколько больше, чем всем остальным. Он играл первое отделение, быстро убегал всегда, я и не шел знакомиться, мне как-то неудобно было, чего это я пойду. А самое главное, я был абсолютно уверен, что это произойдет само собой в более удобных обстоятельствах, потому что у нас было к тому моменту уже огромное количество общих друзей – и Ваня Дыховичный, и Леня Ярмольник, и много-много других, и художников из дома, где он жил, на Малой Грузинской, – поэтому мне казалось, что успеется. Вот не успелось, не надо ничего откладывать, наверное.
Ставлю песню наугад, потому что мне трудно выбирать из того, что он написал, что-то более или менее любимое...»
Уклончивые слова Андрея Вадимовича о «совместных концертах» и «общих друзьях» не дают прямого ответа на главный вопрос: хотя и не были ли знакомы друг с другом музыканты и поэты Макаревич и Высоцкий, но – общались ли?
Ответ на этот вопрос обнаружился в интервью музыканта журналисту Николаю Добрюхе. Андрей признается: «Меня уже тогда (в конце 70-х. —АП.) начинала интересовать работа над словом. А в 79-м буквально потянуло слушать Высоцкого. Я с ним не был знаком. К сожалению! И живьем, кроме спектаклей, я его не видел. Однако я много слушал его на пленках..»
О творческих пересечениях Макаревича и «Машины времени» с Высоцким, правда – по большей части – заочных, вспоминали и другие участники группы. Иначе и быть не могло: ведь в 70-е годы оба имени и название группы были на вершине популярности у любителей музыки в СССР.
Вот что вспоминает по поводу этих пересечений бывший клавишник группы Петр Иванович Подгородецкий в книге своих веселых воспоминаний с не менее веселым названием «Машина» с евреями»: «В подпольной популярности того времени были свои прелести. Осенью 79-го года из каждого открытого окна звучали наши песни примерно в таком же объеме, как песни Владимира Высоцкого. Но Высоцкого в лицо знала вся страна, благодаря кино (одно «Место встречи изменить нельзя» чего стоит), а «Машину времени» не узнавал никто. Ведь даже ее участие в фильме «Афоня», в котором Георгий Данелия использовал фрагмент песни «Солнечный остров», группу саму по себе почти никто не видел».
Удивительное и мало кому известное обстоятельство: по свидетельству автора сценария фильма Александра Бородянского в картину на главную роль сантехника Афанасия пробовались многие популярные актеры того времени. В том числе и Владимир Высоцкий. По замыслу создателей комедии «пьяный сантехник должен был играть на гитаре. Хотя с самого начала в уме мы держали именно Куравлева». Который, к слову сказать, блестяще сыграл роль в фильме.
Подробнее о несостоявшейся совместной работе с Владимиром Семеновичем в картине вспоминает режиссер «Афони» Георгий Данелия: «Первыми, кого я представил в образе Афони, – Владимир Высоцкий и Даниэль Ольбрыхский. Ольбрыхский – хороший актер, и у него русское лицо. Он согласился сниматься, но это было на уровне разговоров. Кто-то донес Высоцкому, что мы обсуждаем его кандидатуру, и он заходил к нам в группу под разными предлогами. Но Володя – сильная личность, и ему зрители не простили бы того, что натворил Афоня, которого несет, куда ветер дует. Вот Куравлев добился благосклонности зрителей».
Еще одна – журналистская версия непопадания Владимира Семеновича в комедию Георгия Данелии: дескать, режиссер пригласил Высоцкого для разговора о съемках в главной роли – сантехника Афони Борщева. Высоцкому нравился сценарий, но до проб он так и не дошел, – Георгий Николаевич и сценарист фильма Александр Бородянский посчитали, что из Владимира Высоцкого получился бы слишком мощный и серьезный сантехник, а снимать хотели кино с юмором.
Так что вполне могло состояться, но не состоялось пересечение Высоцкого и «Машины времени» в кинокартине! Увы...
Далее вновь обратимся к веселым воспоминаниям Петра Подгородецкого: «1980 олимпийский год прошел под знаменем «Поворота». Я нисколько не преувеличиваю, говоря о том, что в то время «Машина времени» по популярности стояла наравне с Высоцким и была неизмеримо круче Пугачевой, Леонтьева, Кобзона, Лещенко и прочих «официальных артистов».
Автор прекрасно помнит то время и полностью согласен со словами Петра Ивановича. Тогда Высоцкого и «Машину времени» не слушал только глухой, ленивый, не имевший магнитофона или равнодушный к музыке вообще, а таковых было очень мало...
О том, что «Машина времени» по своей популярности в конце 1970-х годов стояла вровень с Владимиром Высоцким, пишет и другой музыкант, Максим Леонидов. Участник знаменитого ленинградского бит-квартета «Секрет», ставшего популярным в середине 80-х, в книге мемуаров «Я оглянулся посмотреть...» вспоминает о тех временах: «В головах у нас творился абсолютный сумбур, густой компот из Высоцкого, Окуджавы и «Машины времени».
Более категоричен в оценках популярности в 70-е годы Андрея Макаревича и «Машины времени» журналист Федор Раззаков. И Макаревича со своей группой, да и самого Владимира Высоцкого, он записывает в... «фарцовщики от искусства». Процитируем самого Раззакова: «Фарцовщиков советские власти очень часто ловили и отправляли в места не столь отдаленные. Но это были какие угодно фарцовщики, только не из мира искусства. Этих власти практически не трогали и даже более того – создавали им тепличные условия, особенно если эти фарцовщики были «завязаны» на нужных властям людей. Так было, к примеру, с окружением Владимира Высоцкого. Вокруг самого певца власти создавали ореол гонимого, а сами разрешали ему делать многое из того, чего другим гонимым делать запрещалось: выступать в самых вместительных залах (во Дворцах спорта), по шесть месяцев в году находиться за границей. Также власти закрыли глаза на многие «художества» певца вроде «левых» концертов, нарушений трудовой дисциплины, наркомании и т. д. Та же история происходила и с «Машиной времени», которая в своей среде считалась этаким «рок-н-ролльным Высоцким»... По большому счету никакой особенной борьбы «Машины времени» с советским режимом не было, а была всего лишь ловкая имитация этой борьбы, которая целиком и полностью контролировалась и направлялась из двух ЦК (КПСС и ВЛКСМ) и КГБ. Имитация эта проводилась с одной целью: держать под контролем молодежную (рок-н-ролльную) среду и влиять на нее. Достигалось это разными средствами, в том числе и с помощью стукачей, которыми эта самая среда была сильно унавожена...
Именно с согласия ЦК КПСС и КГБ Макаревич и Ко и были назначены властью Главными Художниками в рок-среде (как Аркадий Райкин в сатире, Владимир Высоцкий в бардовской песне и т. д.)».
Тот же Раззаков, развивая свои мысли по поводу и проводя параллели между Макаревичем, Высоцким и их творчеством, в книге, посвященной «темным сторонам» биографии Андрея Вадимовича, пишет: «Макаревич шел по стопам Высоцкого: он тоже был нонконформистом – несогласным, но внесистемным. Власти понадобилось сделать его системным оппозиционером, сродни Высоцкому. Тем более, что к последнему он испытывал огромное уважение...
В судьбах Высоцкого и Макаревича есть много общего, но главное сходство – оба были системными оппозиционерами. Оба они оказались приручены властью и прекрасно об этом знали. Оба выступали в провластном «цирке», исполняя отведенную им роль – оппозиционную. Как пел сам Высоцкий в песне «Наши помехи эпохе подстать...» (1976):
...Пляшут собачки под музыку вальс —
Прямо слеза прошибает!
Или – ступают, вселяя испуг,
Страшные пасти раззявив, —
Будто у них даже больше заслуг,
Нежели чем у хозяев...
Судя по всему, себя Высоцкий числил по разряду собак, которые не вальс пляшут, а вселяют испуг. Макаревича можно зачислить в этот же ряд. А до этого он был тем самым «бездомным шалым псом» (полуподпольным рокером-внесистемщиком), о котором Высоцкий пропел следующее:
...Вон, притаившись в ночные часы,
Из подворотен укромных
Лают в свое удовольствие псы —
Не приручить их никчемных.
Как показал случай с Макаревичем, приручить подобных «псин» дело не хитрое. Как говорится, было бы желание. На протяжении долгих девяти лет Макаревич «лаял в свое удовольствие» – костерил в своих песнях советский оптимизм. Однако пришло время, и его «приручили». Поскольку, по тому же Высоцкому:
Что говорить – на надежной цепи
Пес несравненно безвредней...
Если хороший ошейник на псе —
Это и псу безопасней...
Короче, власть была заинтересована в том, чтобы «бездомных псов» приучить и досадить на цепь. Среди этих «псин» суждено будет оказаться в итоге и Макаревичу...
Все профессиональные советские артисты работали на систему и получали за это деньги (причем весьма приличные) – вещь неоспоримая. Ведь почти каждый артист входит в обслугу того режима, какой существует на дворе. Он, артист– профессионал, не может быть каким-то автономным субъектом, существующим вне системы. Снова вспомним Владимира Высоцкого и его наши помехи эпохе подстать». В ней он воздал должное как «цирковым собачкам», так и «бездомным» – тем, что еще не приручены властью:
Значит, к чему это я говорю, —
Что мне, седому, неймется?
Очень я, граждане, благодарю
Всех, кто решили бороться!
Вон, притаившись в ночные часы,
Из подворотен укромных
Лают в свое удовольствие псы —
Не приручить их, никчемных...
«Машина времени» долгое время тоже была бездомной собакой, когда находилась вне системы – на полуподпольном положении. Но в 79-м согласилась набросить на себя ошейник и тут же была зачислена в состав цирковых собачек, как и Высоцкий. После чего из-под пера Макаревича родилось: «Ты сам согласился на этот путь, себя превратив в раба»...
«Машина времени» теоретически могла избежать этих процессов, оставшись в стороне от них и продолжая свой путь как коллектив внесистемного толка («не сворачивать с пути прямого» или «лаять в свое удовольствие из подворотен укромных» по Высоцкому). Но практически это было нереально, поскольку у группы было второе название – «Машина с евреями». А последние, как мы помним, прирожденные рыночники и чуют запах прибыли чуть ли не на подсознательном уровне. Поэтому, как только на горизонте запахло дивидендами, тут же «Машина» включила форсаж и на полных скоростях въехала на вожделенную профессиональную сцену, дабы уже там заниматься тем же, чем и раньше – исполнять песенки из разряда реформаторских с «фигами», но уже за гораздо бо-о-лыыие гонорары. Как пели тогда «машинисты»: «Но так уж суждено...» То есть превратились в цирковую собачку. Как пел Высоцкий:
Надо с бездомностью этой кончать,
С неприрученностью – тоже..
«Машина времени» пошла по пути Высоцкого, Аркадия Райкина и других системных оппозиционеров, которых советская система использовала в своих целях: как внутренних, так и внешних (как пример существования демократии в СССР).
...КГБ плотно курировал системщиков-оппозиционеров вроде вышеперечисленных персон. Но на тот момент один из главных глашатаев либерализма среди творческой интеллигенции, бард русско-еврейского происхождения Владимир Высоцкий, находился уже в шаге от смерти, доживая последние месяцы... В советских верхах были прекрасно осведомлены о том, что у него полинаркомания и что жить при таком диагнозе певцу оставалось недолго... В итоге на поприще социальной песни Главного Художника бардовского направления должен был сменить другой Главный Художник (пусть и меньшего масштаба по популярности) – рок-группа «Машина времени».
Помимо таланта «машинистов» учитывалось и другое. Напомним, что в жилах большинства из них текла все та же еврейская кровь, что и у Высоцкого. Всегда относившаяся к бунтарской. Именно эту бунтарскую кровушку власть и стремилась привести в удобное для себя состояние – чтобы она «закипала» под их контролем...»
Что же, и такие мнения, имеют, вероятно, право на существование, так как они – не без доли правоты и истины...
Знал ли Владимир Высоцкий о существовании рок-группы «Машина времени» и если знал, как относился к ней и ее лидеру Андрею Макаревичу? На этот вопрос отвечает музыкальный критик Артемий Троицкий в беседе с журналистом Вадимом Астраханом.
Вадим Астрахан: «Артемий, меня заинтересовали слова в вашей книге «Рок в СССР» о том, что русский рок заполнил вакуум, образовавшийся после смерти Высоцкого. Не могли бы вы сказать пару слов об отношении к Высоцкому рок-общины 70-х и 80-х годов?»
Артемий Троицкий: «Я могу сказать кое-что другое, и это редкий случай, когда я могу сказать что-то, чего никто не может сказать: об отношении Высоцкого к року. Отношения у него никакого не было. Мы с ним общались недолго, в конце 79-го года, и я ему начал впаривать всякие «энтузиастические» истории про «Машину времени» с Макаревичем, про Гребенщикова, с которым я совсем незадолго до того познакомился, и так далее. Про Гребенщикова он совсем ничего не слышал, о Макаревиче что-то слышал, но как-то махнул на это все рукой. Вся наша рок-тусовка его не интересовала, не привлекала, он о ней ничего не знал и знать не хотел».
В. А: «Но он же не видел в них конкурентов?»
А. Т.: «Нет, он не видел в них конкурентов. Высоцкий вообще был человек достаточно экзистенциальный, и во многих его поступках и мотивации не было особой логики. В этом не было чего-то особо рационального, ему просто это было неинтересно. Его интересовали в жизни другие вещи. Его интересовал его круг, его проблемы, его театр, и т.д. К своим потенциальным коллегам он относился просто равнодушно. Я не думаю, что он их побаивался, потому что они, дескать, могли быть круче, чем он. Он был абсолютно уверен, что круче его никого нет. Его интересовали его собственные демоны».
В. А.: «В Северной Америке он, кажется, ходил на рок-концерты, «Emerson, Lake, and Palmer», там...»
А. Т.: «Я думаю, он не столько сам ходил, сколько его водили. Теперь, что касается отношения рокеров к нему. Тут нужно хорошо понимать ситуацию с нашим роком. Изначально весь советский рок был музыкой полностью, стопроцентно навеянной Западом. Это была хипстерская, стиляжная музыка. Поколение наших рокеров 60-х годов вообще считало, что петь по-русски– западло. В 70-егоды появились первые опыты: Володя Рекшан и Санкт-Петербург, Макаревич и «Машина...», но все-таки большинство групп пело по-английски, более того – они писали собственные тексты на английском, как, например, «Високосное лето» с Ситковецким и Кельми (это была вторая после «Машины» по популярности группа в Москве). Традиции писать собственную русскую лирику в русском роке не было. Даже Градский, который себя все время бьет в грудь и говорит, что он был первое то и первое се, в качестве лирики брал стихотворения, от классических до современных поэтов, от Шекспира до Вознесенского. Своей лирики у него было очень мало, и она была очень неубедительная».
Поклонников отечественной рок-музыки откровения Артемия Кивовича не оставили равнодушными. В Сети появились отклики на его интервью. Вот один из них, от пользователя Кропотова: «Троицкий рассказал для меня – человека, интересующегося русским роком, важные вещи. Оказывается, Высоцкий что-то слышал о Макаревиче в 79-м году. Но не воспринял его всерьез. И рок-музыканты оценили масштаб ВВ только после его смерти. Майк, БГ после этого прониклись. Цой – нет.
А разве не так было с большинством людей, живших в СССР? Не только молодежь тех лет, но и люди постарше, знали Высоцкого в основном по юмористически-сатирическим, блатным и военным песням. Свои самые серьезные вещи, шедевры трагического, философского звучания, он редко исполнял на концертах для широкой публики. По записям их знали только «продвинутые» поклонники ВВ.
У большинства владельцев магнитофонов были записи концертов Высоцкого, стандартный набор, типа трека «Дубна-80», например. «Лекция о международном положении», «За что аборигены съели Кука», «Письмо в редакцию передачи «Очевидное-невероятное», «Ой, где был я вчера...», «Милицейский протокол»...
Это то, что больше всего любили слушать – и «жлобье», как выразился Троицкий, и многочисленная интеллигенция.
Многие и сейчас плохо знают ВВ. Скажем, на радиостанции «Эхо Москвы», где до недавнего времени вещал Троицкий, есть передачи «Классика рока» и «Битловский час». Двое ведущих с пренебрежением отзываются о русском роке, они любят и знают «Битлз» и рок 60—80-х. Как-то одному из них задали вопрос о Высоцком, он в ответ после паузы промямлил что-то вроде: «Я не поклонник, но его военные песни – это очень здорово». Человек, подозреваю, по-настоящему Высоцкого не слушал, а ответил так, чтоб отвязались».
Вот такие комментарии по поводу высказываний Артемия Троицкого...
Высоцковед Виктор Бакин пишет: «В 1971 году автор множества легкомысленных мюзиклов («Эвита», «Кошки»...) английский композитор Эндрю Ллойд Уэббер написал рок– оперу «Иисус Христос – Суперзвезда» – произведение, сделавшее его знаменитым.
Рассказывает автор русского либретто Ярослав Кеслер: «Оперу я перевел еще в 1972 году. Мы играли с Малежиком в группе «Мозаика», и однажды Андрей Макаревич принес мне пленку. Я все лето слушал кассету и переводил. Мало кто знает, что в 72-м мы собирались ставить эту оперу на «Таганке». В ней должны были участвовать Высоцкий, Хмельницкий... А не получилось потому, что не было денег».
По всей видимости, не денег, а мозгов не было у тех, кто задумал постановку западной рок-оперы в 70-е годы в СССР. Да только одно ее название отпугнуло бы чиновника, от которого зависела судьба постановки, и постановка эта завершилась бы, даже не начавшись!
Нуда ладно...
Андрей Вадимович узнал о смерти Владимира Высоцкого в тот же роковой июльский день, когда случилось непоправимое...
«...25 июля 1980 года великого человека не стало. Это была его последняя смерть. Несколько лет ранее в Узбекистане он уже умер, но врачи спасли его. В 1980 году – не смогли.
В этот день как всегда в ресторане ВТО после концертов и спектаклей отдыхали актеры и певцы. Как обычно в разных залах ресторана отдельно пили и ели драматические актеры из театра Ленком, МХАТа и актеры театра «Ромен». В зал вошел Андрей Макаревич и тихо сказал: «Умер Высоцкий». Зал на минуту притих, что-то пытались уточнять, потом оба зала непримиримых «врагов» сдвинули столы, и тихо стали поминать рано ушедшего друга и для кого-то – просто хорошего человека».
Конечно, это журналистская байка, но не исключено, что такая сцена вполне могло произойти и в реальности...
«Теперь несколько слов о сольном творчестве Андрея Макаревича. Его песни, исполняемые автором под гитару и не требующие музыкального сопровождения остальных участников ансамбля, завоевали большое число поклонников. По жанру их можно отнести к тому, что принято называть авторской песней.
Эта сторона творчества Макаревича, наверное, и к рок– музыке не имеет отношения. Она сродни работы Высоцкого, Окуджавы и других поющих поэтов. Как правило, песни представляют собой посвящения тем или иным людям, зарисовки, размышления, которые носят явно выраженный личностный характер... Их сокровенный характер, эмоциональность, а порой и конкретный адресат делают произведения популярными у людей разных поколений», – пишут музыкальные критики.
Если честно, Андрей Вадимович не испытывает особых эмоций, когда его имя и сольное творчество ставят в один ряд с именами и творчеством поющих поэтов: «Я вообще не считаю, что людей, из себя что-то представляющих, надо выставлять в какие-то ряды, – говорит Макаревич. – То есть, люди могут выставлять, но это их собачье дело. Я считаю, что каждый выдающийся человек – сам по себе, Окуджава – сам по себе, Высоцкий – сам по себе... Я – сам по себе. И не надо никого ни к кому подставлять».
Резонное замечание, и – верное. Хотя музыкальные критики и журналисты все равно продолжают сравнивать творчество и таланты поэтов и музыкантов: «Владимир Высоцкий остается неразгаданной загадкой. Кто он: бунтарь, хулиган, первый в СССР шоу-бизнесмен, пророк? Проще всего объяснить феномен Высоцкого контекстом эпохи: мол, он пел о том, о чем было не принято говорить вслух. Но если внимательно вслушаться и вдуматься, окажется, что в его песнях нет не то что политической крамолы, но даже и «фиги в кармане» в отличие от тех же интеллигентных бардов (Галич, Окуджава, Дольский). Нет и упадничества, пессимизма – в отличие от молодых тогда рокеров (Андрей Макаревич, Константин Никольский)».
Утверждения, конечно, не бесспорные. В отношении же написанного о «фигах» Высоцкого и пессимизме в раннем творчестве Макаревича – все это подходит на размышления Федора Раззакова и Ко.
Первый сольный альбом Андрей Макаревич записывает в 1985 году, через три года он вышел на пластинке, выпущенной Всесоюзной студией грамзаписи «Мелодия».
На пластинке среди прочих есть песня «Памяти Высоцкого». На мой взгляд, это – одно из лучших песенных посвящений поэту, созданных более чем за тридцать лет, прошедших со дня его ухода из жизни (к таковым также можно отнести посвящения Высоцкому Градского и Лозы).
Автору посчастливилось услышать песню «Памяти Высоцкого» на сольном концерте Андрея Макаревича в Краснодаре в июле 1993 года. Ощущения от прослушивания песни вживую просто непередаваемые! Она «еще больше воздействует на слушателя, что называется – «цепляет», чем когда слушаешь ее на магнитофоне или с пластинки». Даже рок-критики высоко ценят песню «Памяти Высоцкого»: «Макаревичу принадлежат очень удачные строки, несомненные свидетельства поэтической одаренности (посвящения Галичу и Высоцкому)».
Я разбил об асфальт расписные стеклянные детские замки,
Стала тверже рука, и изысканней слог, и уверенней шаг.
Только что-то не так, если страшно молчит,
растерявшись, толпа у Таганки,
Если столько цветов, бесполезных цветов в бесполезных руках...
И тогда я решил убежать, обмануть, обвести обнаглевшее время —
Я явился тайком в те места, куда вход для меня запрещен.
Я стучался в свой дом, в дом,
где я лишь вчера до звонка доставал еле-еле
И дурманил меня сладкий запах забытых, ушедших времен.
И казалось, вот-вот заскрипят и откроются мертвые двери,
Я войду во «вчера», я вернусь, словно с дальнего фронта, домой,
Я им все расскажу, расскажу все, что будет,
и может быть, кто-то поверит...
И удастся тогда хоть немного свернуть,
хоть немного пройти стороной.
И никто не открыл, ни души в заколоченном, брошенном доме...
Я не мог отойти и стоял, как в больном, затянувшемся сне.
Это злая судьба, если кто-то опять не допел, и кого-то хоронят!
Это время ушло, и ушло навсегда, и случайно вернулось ко мне.
Андрей Макаревич прекрасно исполняет песни не только собственного сочинения, но и песни Владимира Высоцкого. В 1998 году, 24 января, на гала-концерте в московском спорткомплексе «Олимпийский» в рамках празднования 60-летия поэта «машинист» исполнил под гитару песню Владимира Семеновича «Здесь лапы у елей дрожат на весу...»
А в январе 2007 года, на вечере, приуроченном к 69-й годовщине со дня рождения Высоцкого, Андрей Макаревич блеснул под аккомпанемент оркестра исполнением «Песни об обиженном времени» – из дискоспектакля «Алиса в стране чудес» (1976 год).
Кстати, на подобных мероприятиях, посвященных памяти поэта, Макаревич – гость не частый. До этих концертов Андрей Вадимович лишь однажды был «засвечен» на похожем. Сие случилось 22 июля 1996 года – в стенах Государственного культурного центра-музея поэта открылась постоянная выставка «Владимир Высоцкий: 1938 – 1980».
Затем состоялся концерт. На сколоченную накануне эстраду поочередно поднимались люди, составляющие цвет и гордость российской культуры: Алексей Петренко и Михаил Козаков, Аркадий Вайнер и Андрей Вознесенский, Алексей Козлов и ведущий концерта Валерий Золотухин. Выступил и наш герой, Андрей Макаревич. Исполнил песню, посвященную памяти Владимира Семеновича Высоцкого.
Через десять лет, 25 июля 2006 года, по традиции, на Петровском бульваре у памятника Владимиру Высоцкому, собирались многочисленные почитатели таланта, а также известные актеры театра, кино, поэты, певцы и композиторы. К памятнику пришли Борис Хмельницкий, Никита Высоцкий, Олег Марусев, Иосиф Кобзон, Александр Панкатов-Черный, Дмитрий Харатьян, Никита Джигурда, Андрей Макаревич, Петр Тодоровский, Владимир Пресняков, Ольга Остроумова, Александр Филиппенко, Андрей Вознесенский, Леонид Ярмольник, Олег Газманов, Виктор Мережко, Александр Митта, Валерий Сюткин, Александр Журбин, Максим Дунаевский и многие, многие другие, для которых память о Владимире Высоцком дорога и близка.
В начале 2008 года, в канун 70-летнего юбилея поэта, журналисты провели своеобразный опрос. Они задавали известным людям всего один короткий вопрос: «Что для вас Таганка?» Андрей Вадимович попал в число респондентов и его ответ был таким: «Это было здорово само по себе – замечательный режиссер, замечательные актеры, но главным было другое. В семидесятые это оказалось очень важно для меня – таганковцы идут в том направлении, делают то, что хотелось бы мне. Таких островков в Москве было несколько – барды, художники на Малой Грузинской, Театр на Таганке. Эти люди говорили в глаза совку, что они о нем думают, причем средствами искусства. Мне кажется, мы с «Машиной времени» занимались тем же, и само это ощущение меня здорово поддерживало. На Таганку попасть было невозможно, но я находил способы, пробирался, стоял на балконе...»
20 апреля 2009 года на Первом канале в эфир вышел очередной выпуск программы «Познер». В тот вечер в гостях у Владимира Владимировича был Андрей Макаревич. В интервью тележурналисту, умышленно задавшему музыканту провокационный вопрос об участии рок-музыки в разрушении советского строя, «машинист» повторил свои слова, сказанные им в канун 70-летнего юбилея Владимира Высоцкого...
В. ПОЗНЕР: Значит, Вы согласны с тем тезисом, что хоть в какой-то степени, но «Beatles» сыграли роль в развале?
A. МАКАРЕВИЧ: Колоссальную.
B. ПОЗНЕР: А вы?
А. МАКАРЕВИЧ: Наверное, и мы.
В. ПОЗНЕР: А Булат?
A. МАКАРЕВИЧ: Безусловно.
B. ПОЗНЕР: Высоцкий?
A. МАКАРЕВИЧ: Безусловно. И Высоцкий, и Галич.
B. ПОЗНЕР: Значит, песня, хотите вы того или нет, или определенный жанр песни – это политическая штука?
A. МАКАРЕВИЧ: Это ее побочное действие. Мы не писали песни с целью разрушить Советский Союз – мы меньше всего об этом думали.
B. ПОЗНЕР: Я не сомневаюсь...
В ответах Макаревича много неправды... Как раз-таки Андрей Вадимович со товарищи был не «разрушителем» Советской власти, а ее «обслугой» и всегда работал на Систему. Чем продолжает успешно заниматься по сей день – только Система ныне другая!