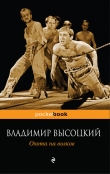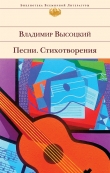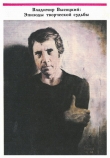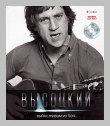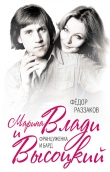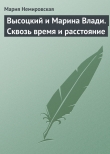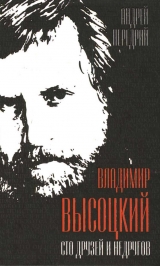
Текст книги "Владимир Высоцкий. Сто друзей и недругов"
Автор книги: Андрей Передрий
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 42 страниц)
Лично меня этот вопрос всегда раздражал. Кто может знать, что было бы?
Но однажды я пришел к парадоксальной, но, возможно, верной в чем-то мысли: подлинное искусство снисходит на творца свыше и, наверное, то, что не спел Высоцкий, «за него» сделали и спели другие. И немалая доля того, что будет звучать и в грядущих столетиях, приходится, на мой взгляд, на героя данной главы, А Я. Розенбаума».
Остается только поставить свою подпись под словами Максима Кравчинского!
Почти о том же, только несколько в иной форме, пишет российский музыкальный критик Артемий Кивович Троицкий: «Я от разных людей слышал несколько версий, относительно того, что было бы с Высоцким, выживи он после всех своих болезней. Были разные варианты – от того, что он стал бы диссидентом, воюющим с Сахаровым, до того, что он превратился бы в такое чмо, типа Розенбаума».
Сложно гадать и спорить, о чем бы писал, что пел и кем бы стал Высоцкий, останься он в живых в июле 80-го и доживи до наших дней...
Однозначным кажется одно: как Розенбаум не стал Высоцким, так и Владимир Семенович вряд ли пошел бы колеей питерского исполнителя.
«Колея эта – только моя. Выбирайтесь своей колеей!..»
АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ О ВЛАДИМИРЕ ВЫСОЦКОМ
(монологи разных лет)
«...Не могу я понять с высоты своего возраста то, как я написал казачьи песни, как я влез в это дело. (То же самое было и с Высоцким. Вот почему нас и сравнивают глупые люди. Они, правда, не хотят раскинуть мозгами, не хотят понять, что подражать ему невозможно. Это можно либо пережить, либо тебя должны сделать Сверху. Если ты этого не пережил, значит, тебя сделали Сверху)...»
«А в музыке для меня с небосклона искусства светили особенно ярко – «Битлз» и Высоцкий...»
«Когда я учился в Первом медицинском, в то время у нас была прекрасная художественная самодеятельность. И как-то сразу сформировалась команда. Я играл на гитаре, как тогда говорили, «как король»... Играл все, что угодно: «Битлз», «Стоунз», в полный рост, рок-н-ролл, Высоцкого...»
«Я никогда не был бардом. Не знаю, что это такое. Так же как и Высоцкий не знал, что такое самодеятельная песня, и с иронией отвечал на вопросы подобного рода: «А пошли бы вы на прием к самодеятельному гинекологу?»
Высоцкого я тоже бардом не считаю и преклоняюсь перед его творчеством, он один из тех, кто сформировал мою психологию. Но он и вправду сегодня звучит реже, потому что время сегодня другое.
Когда меня сравнивали с Высоцким, сначала было жутко больно. Можете себе представить ужас положения, когда я пришел на эстраду в восьмидесятом году? Я – музыкант, профессионал, сонаты Бетховена и Шопена играю, много лет рок-музыку играл. Но началось: «Какой-то хрипатый с гитарой покусился на нашего...» Больше всего вопили те, кто Высоцкому при жизни слова ласкового не сказал. Потом стали повторять: «Второй Высоцкий». А я всегда отвечал: «Я не второй Высоцкий, я первый Розенбаум». Сравнение с ним по гражданской позиции или по умению «проникать» и в шахтеров, и в волков за честь почту. Но по музыке, поэзии мы абсолютно разные. И потребовалось семнадцать лет, чтобы это услышали.
Сходство между Розенбаумом и Высоцким болезненно ищут болезненные люди. Ни один человек из народа, который не имеет специальной или снобистской подготовки, никогда таким копанием заниматься не станет. Любой слышит – музыкально мы настолько разные, что и сравнивать нечего: я люблю вальсы, казачьи песни. И технически мы – разные: он публицист и сатирик, я больше трагик и лирик И хрипота у нас совершенно разная. Да и нелепо всех хриплых людей равнять «под Высоцкого».
В чем я вижу одинаковость, параллели? Работа до конца на сцене, выдача на-гора всего себя. Очень много песен от первого лица, хотя мы никогда не копались, ни он, ни я, в самом себе. Пишем от имени людей – добрых, не злых! – которые говорят о нашей какой-то похожести. Видимо, речь идет еще и о мужском начале – не просто поэтическом.
Думаю, сравнивать меня с Владимиром Семеновичем все– таки не нужно, каким бы лестным для меня не было такое сравнение. Может быть, нас с ним роднит то, что я, как и Высоцкий, «говорю» с людьми на простом, понятном всем языке о том, что мне близко. Искренне говорю, как мне кажется. Но я не стараюсь подражать Высоцкому, пишу и пою по-своему.
По правде говоря, мне не нравится, что теперь стало даже модно доказывать, как мы все любим Высоцкого. Ведь и много лет назад мы любили его не меньше, чем сейчас. Я считаю, что лучшим подарком всем нам и лучшей данью памяти Высоцкого могло бы стать издание его стихов таким тиражом, чтобы они были у каждого на книжной полке. Чтобы мы могли детей своих воспитывать на его песнях и стихотворениях...»
АЛЛА ПУГАЧЕВА
...Она – суперзвезда отечественной эстрады, ее Королева. Ее называют «Примадонной», «Живой легендой», «Звездой № 1», «Лучшей певицей»...
Звездная звезда. Великая и грандиозная драматическая певица, достигшая в песенном жанре всех мыслимых и немыслимых высот.
Про нее говорят: «Пугачева всегда великолепна, всегда на уровне». А ведь «на уровне» длится уже более 40 лет!
И все это время – огромное напряжение и постоянная гонка и борьба за право быть Первой.
И все это время – восторженное обожание поклонников и безоговорочное неприятие противников.
Как бы кто к ней ни относился, все прекрасно понимают, что Алла Пугачева – явление уникальное.
Ее творчество, не укладывающееся в обычные определенные рамки эстрадно-песенного жанра, разнопланово и многогранно. Как было кем-то сказано: «Пугачева – многолика, у нее много лиц».
Эта глава – о взаимоотношениях, встречах, дружбе и творческих пересечениях Аллы Борисовны Пугачевой и Владимира Семеновича Высоцкого, в 70-е годы – двух самых популярных и любимых исполнителей в СССР – на эстраде и в авторской песне.
Нет нужды пересказывать читателю биографию певицы – он с ней и без того хорошо и подробно знаком. А потому перейдем сразу к моменту знакомства певицы с поэтом.
Впервые повстречались и познакомились Пугачева и Высоцкий в середине 60-х годов. Владимир уже работал в знаменитом Театре на Таганке, давал первые концерты в Москве и других городах Союза, Алла же только-только делала первые, еще робкие шаги на эстраде, по сути – являлась простой студенткой музыкального училища.
Познакомил молодого актера и автора-исполнителя и будущую эстрадную звезду друг с другом Анатолий Утыльев – боевой летчик, ныне – полковник По окончании Двинского высшего инженерного училища Утыльев готовил к полетам космонавтов легендарного первого отряда. Попадал в суровые передряги во время испытаний космической техники. Возглавлял комсомольскую организацию Главного штаба ВВС. Был начальником редакторского отделения Военно-политической академии имени В. И. Ленина. Анатолий Утыльев дружил с Высоцким, Гагариным, многими другими известными в стране людьми.
С Аллой Пугачевой Утыльев знаком с середины 60-х годов – тогда будущая легенда нашей эстрады, худенькая рыжая Аллочка, только начинала петь...
Вот что рассказал боевой летчик в интервью корреспонденту «Комсомольской правды» накануне 55-летия Аллы Пугачевой: «У меня служил рядовым Толя Васильев. Позже он стал известным актером, режиссером Таганки. Свел нас с модным театром. Космонавты и Таганка стали дружить. Алла же была влюблена в Таганку, а Высоцкого боготворила. Я их познакомил. Ходила часто в театр, в гримерку Высоцкого заглядывала. Володя однажды исполнил ее заветную девичью мечту – помог появиться на сцене легендарного театра. Не помню уже, в каком спектакле Аллочка участвовала в массовке. Пришла ножками по сцене...»
Московский выпуск газеты «Комсомольская правда» приводит совершенно иную версию знакомства молодого артиста и начинающей певицы...
Итак, ей 17, ему – 28...
«Это был 1966 год. Никому не известной Алле Пугачевой было всего 17 лет. А 28-летний Высоцкий был уже признанной звездой. До встречи с главной любовью его жизни актрисой Мариной Влади оставался год. Пугачева и Высоцкий познакомились в ресторане Театра на Таганке. Там собиралась вся московская элита. Алла пришла на актерские посиделки со своим кавалером – космонавтом Германом Соловьевым. Она тогда собиралась за него замуж, но встреча с Высоцким оказалась роковой – Пугачева отказала Соловьеву. В скромном ситцевом платьице и вздорными рыжими кудрями Алла буквально ворвалась под руку с Германом в зал, где своим знаменитым хриплым голосом с надрывом пел Высоцкий. Но ворвавшийся «рыжий вихрь» заставил Владимира Высоцкого оторваться от гитары. Смешная девчонка с Крестьянской заставы широкой улыбкой и озорными глазами будто приворожила его. Как вспоминают свидетели этой встречи, Герман Соловьев ревниво наблюдал, как Алла непринужденно и смело приручила за один вечер Владимира Семеновича.
– Я хочу стать комедийной актрисой! – с ходу заявила Высоцкому 17-летняя Пугачева.
Оценивающе посмотрев на рыжую сирену, Высоцкий одобрительно кивнул, мол, хочешь, значит, будешь.
Друг Высоцкого актер Борис Хмельницкий первым заметил, что Высоцкому запала в душу юная Алла.
– Она была такой искренней, а перед этим качеством Высоцкий не мог устоять. Мы все были в нее влюблены. А еще у Аллы невероятно красивые ножки. Поэтому мы, мужики, смотрели на нее как беспомощные телята, – вспоминал в одном из своих последних интервью Хмельницкий.
– Кстати, я тоже пою, – обронила в разговоре с Высоцким Пугачева. В то время Алла работала корреспондентом на радио «Юность», ходила на подготовительные курсы факультета журналистики в МГУ.
В следующий раз на Таганку на посиделки с Высоцким Пугачева приехала уже без Соловьева. После этого их часто видели вместе. Люди из окружения Высоцкого уверяют, что он смотрел на Аллу влюбленными глазами и выполнял ее любой каприз: доставал ей контрамарки на Таганку и даже выхлопотал роль в массовке.
Актер и друг Высоцкого Вениамин Смехов говорит, что Пугачева могла выходить только в массовке в спектакле «Пугачев». Он как раз шел в 1966 году, там играл сам Высоцкий.
Владимир Семенович в день премьеры подопечной нервничал не меньше дебютантки. Роль была крошечной, но дебют любимицы Высоцкий в тот вечер отмечал, как будто праздновал свой день рождения».
Об этом же театральном дебюте певицы пишет и журналист Федор Раззаков в книге «Алла Пугачева: по ступеням славы», имеющей претенциозный подзаголовок «Самая полная биография великой певицы»: «Благодаря своим приятелям с радио (??? – А.П.) Пугачева стала вхожа в Театр на Таганке. Там она пересмотрела чуть ли не весь репертуар, а также была введена в тамошнюю тусовку. Она общалась с Владимиром Высоцким, Борисом Хмельницким и другими ведущими артистами театра, которые относились к ней как к товарищу. Был момент, когда Высоцкий пристроил ее в один из спектаклей – Пугачева сыграла крохотную роль в массовке, продефилировала по сцене из одного конца в другой. Однако никакого романа между нею и Высоцким не было и в помине».
О более близких и дружеских отношениях между Владимиром Высоцким и Аллой Пугачевой мы еще поговорим, а сейчас – о творческом пересечении судеб певцов и артистов.
Алексей Беляков, автор романа-биографии «Алла, Аллочка, Алла Борисовна», тоже упоминает в своей книге о знакомстве Пугачевой с Таганкой и Владимиром Высоцким: «Вся компания часто собиралась в Театре на Таганке – тогдашнем клубе либеральной интеллигенции, этакой большой «московской кухне». Аллу, разумеется, брали с собой.
«Она ходила туда не столько из-за того, что ее привлекали смелые по тем временам беседы о политике и роли художника в жизни общества, – вспоминает Ирина Полубояринова, давняя знакомая Аллы Пугачевой, которая училась с ней в одной школе, только на несколько классов старше, – сколько потому, что Аллу безумно влек мир театральной богемы. Эти пьянки ночи напролет, полуистеричные декламации стихов Маяковского и Пастернака и песни – в одиночку, хором – до крика».
Аллу волновал и сам театр, а Таганка... Стоит ли лишний раз навязчиво напоминать, каков был статус любимовской Таганки в 60-е? Обаятельный молодой бонвиван Боря Хмельницкий по просьбе Аллы давал ей контрамарки, и она пересмотрела весь модный репертуар театра, щурясь в последних рядах (очки были выброшены из жизни, как некогда и коса– селедка).
Главным героем тех шумных посиделок на Таганке часто становился Высоцкий. Друг другу их представил Гера Соловьев, тоже непременный участник этих собраний. (Вот вам еще одна версия знакомства Пугачевой и Высоцкого. – А Я.) Алла познакомилась с Высоцким не без внутреннего трепета: тот уже был известным артистом, и, – самое главное, – прохрипел по всей стране своими песнями, которые звучали на магнитофонах чуть ли не в каждом доме...
Алла тогда часто говорила, что на самом деле мечтает не об эстраде, а о театре.
«Из меня получится великолепная комедийная актриса», – уверяла она.
Алла упрашивала Высоцкого, чтобы тот помог ей подыскать хоть какую-нибудь – пусть самую скромную – роль. Самое забавное, что тот отчасти поспособствовал воплощению ее мечты. Он договорился, что в одном из спектаклей Пугачева будет участвовать в качестве статистки. Вся «роль» Аллы заключалась в том, что в какой-то массовке она просто продефилировала по сцене...»
Но наиболее интересным представляется услышать историю знакомства певицы с Владимиром Высоцким и рассказ о своем театральном дебюте из уст самой Примадонны: «...Он всегда был для меня Владимиром Семеновичем, – вспоминала Пугачева, выступая 25 января 1991 года на вечере в Театре на Таганке, посвященном 53-й годовщине со дня рождения поэта. – ...Мы встречались в одном доме, у нашего общего знакомого. Я была тогда никто, так, девочка лет семнадцати. Я садилась за пианино, играла, Владимиру Семеновичу нравилось. Там бывали разные люди: космонавты бывали, ученые, Гагарин был... А я со всеми фотографировалась. Вот так вот: хозяин в центре сидит, слева, скажем, Гагарин, справа – я. Или: хозяин в центре, Высоцкий слева, справа я. И, поскольку я была никем, меня на всех фотографиях отрезали... Теперь жалеют... Бывал в той компании и Боря Хмельницкий, и я даже стояла на этой сцене. В «Антимирах», как сейчас помню... Мы тогда крепко поддавали... И вот мы всей компанией приехали в театр. Любимова тогда не было... Нам не хотелось расставаться, и мы все вместе, как пришли, так и вышли на сцену...»
С годами их общая компания как-то сама собой распалась, точнее – трансформировалась, и Пугачева с Высоцким обменивались лишь взаимными и шутливыми приветствиями – при встречах ли, через общих друзей или знакомых...
Но вернемся в конец 60-х годов.
Наверняка, многим читателям, слушателям и зрителям знакомо имя Алексея Ольгина.
Ольгин – профессиональный литератор, член Союза писателей России, автор известных в 60—70-е годы эстрадных шлягеров «Топ... топ... (первые шаги)», «Человек из дома вышел», «Лишь бы день начинался и кончался тобой». Последние годы живет в Финляндии, в северном городке Соданюоля, как он сам говорит, с «видом на жительство, и на тундру, на все финское», пишет короткие юмористические рассказы. У Алексея Ольгина вышло уже три книги, его проза опубликована в новом номере альманаха «Иные берега» (издается Объединением русскоязычных литераторов Финляндии). Его новый рассказ – документальный, о редакции популярной некогда радиопрограммы «С добрым утром!».
«В московской редакции «С добрым утром!» в 60-е годы было шумно и весело. В одной из комнат во всю стену висела таблица с результатами народного голосования. А под таблицей – несколько мешков, набитых письмами радиослушателей – проводился конкурс на «Лучшую песню года».
Приходили и уходили авторы и исполнители, приносили новые песни, надеясь «прозвучать» в одной из ближайших передач... Здесь в ту жизнерадостную пору бывали все: Д Тухманов, А. Колкер, С. Пожлаков, О. Иванов, В. Дмитриев, Кристаллинская и Клемент, Хиль и Кобзон, Пьеха и Пархоменко.
Ведь в те дни передача «С добрым утром!» была центром песенной культуры. Прозвучать в ней считалось делом престижным, равноценным признанию, это давало право работать профессионально... А за пределами редакции звучали совсем иные песни, совсем другого автора.
– Все на редсовет! – возгласил музыкальный редактор В. Вейс (по совместительству – композитор Савельев), и в возбуждении прошелся по редакционным столам, как школьник на большой перемене. – Будем слушать Высоцкого!
В кабинет главного редактора В. Аленина тихо, боком вошел Высоцкий, исподлобья, настороженно обвел взглядом большую компанию, и, как бы удивляясь тому, что происходит (а это было его первое официальное посещение редакции), неуверенно высвободил из потертого дермантинового футляра гитару.
– Что спеть? – спросил он, ни к кому не обращаясь и настраивая инструмент.
– Наверное, лучше бы из кинофильма «Вертикаль», это надежней, это может пройти в эфир, – сказал Главный, человек добрый, но, как и все зависимые от начальства люди, крайне осмотрительный. – А то неизвестно, как посмотрят – «там», – и он выразительно ткнул пальцем в потолок.
Редакции очень не хотелось отстать от времени, и даже быть впереди...
Но, словно черт ладана, страшились «ругательных» писем в свой адрес от слушателей (все поступающие на Радио письма фиксировались независимо от самих редакций, и были предметом суровых разборов у «самого Главного»).
Высоцкий пел «Скалолазочку», потом «Песню о друге»... А в это время члены редкомиссии, незаметно для певца переглядываясь, беззвучным образом составили «общее мнение»... Похоже, едва пригласив официально непризнанного и опального Высоцкого, редакция тут же испугалась собственной смелости. Но сказать певцу прямо, что он пришел напрасно, не хватило духа. А, может быть, сотрудникам просто захотелось посмотреть на живого, без грима, Высоцкого, ибо велика была его слава. Подло, конечно, но – понятно.
– Пожалуй, хватит... – сказал Высоцкий, почуяв настрой редсовета.
Наступила долгая неловкая пауза. Тишина. Никто не решался высказаться, вернее, произнести слова, необходимые в этой фальшивой ситуации.
– А нельзя ли убрать басок? – встав во весь свой рост, вкрадчиво спросил Главный, и выбросил так же по-ленински одну руку вперед, а вторую заложил в карман брюк, – понимаете, звучит немного грубовато...
– Нет, нельзя! Это мое, это свойственно мне! – резко ответил Высоцкий.
Снова пауза.
– Но я не слышу здесь музыки! – неумело спасая положение, выпалил второй музыкальный редактор Р. Гуценок (по совместительству– композитор Майоров), вечно состоявший «на подхвате».
– Как?! – воскликнул Высоцкий, растерявшись от неожиданной глупости, – я вам фонограмму из фильма принесу!
– Вы не обижайтесь, но мы не можем взять песни в передачу в таком сыром виде, – совсем уж нелепо резюмировал Главный.
– Не можете, и не надо... – сказал Высоцкий, укладывая гитару в футляр. – Я к вам не просился, вы сами меня пригласили. Прощайте!
И ушел.
– Не будем рисковать... подождем,– выдохнул Главный. – Следующий!
В коридоре, в ожидании своей очереди и своей участи, переминалась с ноги на ногу худосочная, никому не известная и ничем не приметная девочка – Алла Пугачева....»
Вот такой рассказ-воспоминание вышел из-под пера Алексея Ольгина!
Еще одно творческое сближение у героев нашей главы произошло на рубеже 60—70-х годов. В репертуаре Владимира Высоцкого и Аллы Пугачевой появляется песня «На Тихорецкую» (правда, певица споет ее почти на пятнадцать лет позже поэта). Автор незатейливой песенки – родившийся в Краснодаре замечательный поэт Михаил Григорьевич Львовский (1919– 1994 гг.), увековечивший в ней название станции Тихорецкая Краснодарского края (Северо-Кавказская железная дорога). В те годы Львовский являлся большим поклонником творчества Высоцкого. Кинорежиссер Эльдар Рязанов, в фильме которого «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1976 г.) звучит песня «На Тихорецкую» в исполнении Аллы Пугачевой, вспоминает: «Мой друг, сценарист, драматург, поэт Михаил Львовский, который являлся давним поклонником и собирателем Высоцкого, сделал мне царский подарок– подарил мне магнитофонные кассеты (специально переписал!), где было восемь часов звучания песен в исполнении Володи. Это случилось, пожалуй, году в 7б-м... С тех пор я стал его поклонником – окончательным, безоговорочным, пожизненным, навсегда...»
Исполнив песню «На Тихорецкую» в картине Рязанова, Алла Пугачева дала ей права на официальное, а не полуподпольное существование. До этого развеселая песенка считалась не то уличной, не то ресторанной...
Музыку к песне, вошедшей в фильм, и вообще – к картине Рязанова написал великолепный композитор Микаэл Леонович Таривердиев. В1966 году композитор работал с песнями Владимира Высоцкого, предложенными им в фильм «Последний жулик» – писал к ним музыку. По роковому стечению обстоятельств, жизнь Микаэла Таривердиева оборвалась 25 июля 1996 года, в 16-ю годовщину смерти Владимира Семеновича...
Отбирая песни в картину, Эльдар Рязанов, друживший с Михаилом Львовским и знакомый с его веселой песенкой, постоянно напевал ее. Она ему так понравилась, что волей кинорежиссера, он решил ее включить в свой фильм. И сообщил об этом Таривердиеву. Микаэл Леонович улыбнулся и сказал в ответ: «То, что вы поете – уже давно моя песня!» Удивленный Рязанов ответил: «Хрена с два! Это песня Львовского, которую поет Володя Высоцкий!» Невозмутимый композитор парировал: «Он поет песню на мою мелодию!..» Так что, Таривердиеву даже не пришлось писать мелодию в картину к этому хиту! Она была уже давно написана! («И снова – здравствуйте!»; НТВ; 7 января 2012 г.)
Высоцкий запел «На Тихорецкую» гораздо раньше Пугачевой – еще в начале 60-х. Сохранилась несколько записей исполнения им песни. Одна из них, датированная осенью 1962 года, представлена на выпущенном фирмой «Solyd Records» в 1998 году компакт-диске поэта «Летит паровоз». На CD собраны песни из раннего репертуара автора-исполнителя. Надо сказать, что песню Михаила Львовского Владимир Высоцкий никогда не исполнял в своих концертах, а пел исключительно в дружеских компаниях.
В интервью Юрию Андрееву, данном Владимиром Высоцким в Ленинграде в 1967 году, поэт рассказал о том, как эта песня вошла в его репертуар...
– Володя, насколько мне известно, у Вас был опыт сотрудничества с профессиональным композитором. Вот – «На Тихорецкую состав отправится...»
– Дело в том, что это ошибка. И текст, и музыка это – не мои. Вернее, музыку я немножечко переделал ту, что сочинил Таривердиев. А текст написал Львовский – такой автор. Очень давно эта песня шла в спектакле. Просто, я ее пою, и, наверное, она легла больше на мой голос и ассоциируется со мной – потому что я ее записывал много раз. Но это песня не моя. (В. С. Высоцкий; Интервью Ю. Андрееву; «Живая жизнь. Штрихи к биографии В. Высоцкого»/ Сост. В. Перевозчиков; Книга 3-я. М.,1992, стр. 198—200).
Сценарист Исай Кузнецов в своих воспоминаниях о Михаиле Львовском, названных «Вагончик тронется – перрон останется», пишет*. «Среди тех, кто посещал его квартиру на седьмом этаже дома на Красноармейской, надо упомянуть и так называемых бардов: Сашу Галича, Юлия Кима, Юрия Визбора, Аду Якушеву, Владимира Высоцкого и многих других.
Между прочим, одной из очень немногих песен, исполнявшихся Высоцким, сочиненных не им самим, была ставшая популярной прелестная песня Львовского, написанная для его же пьесы «Друг детства»:
На Тихорецкую состав отправится,
Вагончик тронется – перрон останется...
Стена кирпичная, часы вокзальные,
Платочки белые, глаза печальные...
Песню эту использовал в своем фильме «Ирония судьбы...» и Эльдар Рязанов. Музыку написал Микаэл Таривердиев».
По воспоминаниям кинодраматурга Елены Щербиновской, двоюродной сестры второй жены Высоцкого Людмилы Абрамовой, Володя «играл на гитаре и пел «Вагончик тронется...» Пел здорово – мурашки по коже!..»
Как же попала быстро ставшая известной песня в репертуар молодого певца? Известно, что Михаил Григорьевич Львовский песню «На Тихорецкую» написал в 1961 году для своей же пьесы «Друг детства», тоже написанной им в 61– м. В том же году пьеса была поставлена в Московском театре «Современник» актером и режиссером Виктором Сергачевым, где песню (музыка Геннадия Гладкова) впервые исполнила актриса Нина Дорошина. Пьеса Львовского несколько лет с успехом шла на сцене театра, пока с подачи секретаря ЦК Ильичева спектакль не «прикрыли»...
Владимир Высоцкий в те времена был не чужд «Современнику» – возможно, отсюда в его репертуаре и появилась эта песня.
Все вопросы снимают воспоминания Львовского. Вот что рассказал Михаил Григорьевич: «С пьесой «Друг детства» и песней «На Тихорецкую...» история такая. Я писал каждый год по пьесе («Львовский пишет в год по пьесе и его ругают в прессе. Вот за что я Львовского люблю...» – из частушки-пародии Евгения Аграновича) и друзья говорили мне: «Слушай, – ничего! Но ты напиши поострее, сейчас можно!» Как раз была «оттепель». И я написал пьесу «Друг детства». Сюжет ее в том, что одного мальчика берут в армию, он очень плохо служит, потому что интеллигентный, щупленький, что для армии не подходит, но своей бывшей однокласснице, которую в школе звали «Царица Ирина» и в которую он влюблен, врет про свои похождения в армии. А в него влюблена подруга «Царицы Ирины». Это она поет: «На Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется – перрон останется...» Станция Тихорецкая, сейчас город Тихорецк, находится в часе езды от моего родного города Краснодара, с которым я связываю все, что пишу.
Кроме этих героев у меня там был еще один молодой человек, который в отличие от первого, интеллигентного – циник: ни во что не верит и смеется над интеллигентным. К этому цинику и уходит героиня.
И это бы еще ничего, но я ввел в пьесу образ полковника-отставника, которого видел в одном из южных городов. Он жил, как помещик имел огромный сад, продавал на базаре клубнику, что тогда считалось зазорным...И это вызвало такое негодование!.. Один военный после спектакля сказал, что таких авторов надо расстреливать. Ильичев на идеологической комиссии ЦК партии сделал доклад и разгромил пьесу; Шапошникова, из Московского городского комитета партии, приходила на спектакли, шипела. Пьесу разрешили доиграть один сезон и по окончании театрального сезона сняли с репертуара. Текст ее запретили к распространению, поэтому официально не печатали, так что он есть только у меня. На моем экземпляре стоит дата – 1962 год, ставили, может, в 63-м, с моего текста распечатывали в театре.
Пьеса ставилась в двух театрах: «Ленкоме» в постановке Ролана Быкова с музыкой Таривердиева, и в «Современнике» в постановке Виктора Сергачева с музыкой Геннадия Гладкова. В Москве песню больше пели с музыкой Таривердиева, а в Ленинграде с музыкой Гладкова. В своих сольных концертах ее исполняла Майя Головня, которая потом записала эту песню на моей авторской пластинке. Когда пьесу запретили, Таривердиеву жалко было песню, и он ее вставил в оперу «Апельсины из Марокко» по Аксенову».
(Микаэл Леонович Таривердиев рассказывал, что в 66-м году в ГИТИСе выпускной курс Подросткова готовил дипломный спектакль, к которому он написал музыку. Либретто было составлено по романам Василия Аксенова «Апельсины из Марокко» и «Пора, мой друг, пора». Назвали оперу «Кто ты?». Шла она в учебном театре ГИТИСа. Кроме «Вагончика» там была еще песня Высоцкого на музыку Таривердиева «Стоял тот дом...» —А.П.)
Михаил Львовский– продолжает: «Мне говорили, что песню поет и Высоцкий, но я не верил. Потом мне дали пленку, очень плохую, зашумленную, где Высоцкий говорит: «А теперь по вашим заявкам..» Из зала кричат: «На Тихорецкую»!..» Высоцкий перед исполнением поясняет: «Эта песня не моя. Есть такой автор – Львовский. А музыка – Таривердиева».
У нас с Высоцким разночтение в одной строчке: у меня – «перрон останется». А он поет: «а он останется», имея в виду матросика.
Когда мы с Высоцким встретились, я ему сказал: «Владимир Семенович, а вы знаете, что поете мою песню?» – «Какую?» – «На Тихорецкую...» – «Так значит вы – Львовский?» Он встал и стоя спел ее под гитару. Присутствовавшие зааплодировали. Я попросил записать песню в его исполнении, но он засопротивлялся: «Старое не люблю записывать...»
Еще при жизни Владимира Высоцкого, в 1972 году, песня «На Тихорецкую» в его исполнении попала на пиратскую пластинку, вышедшую в США, названную издателями весьма незамысловато: «Советский подпольные песни и баллады».
Что касается исполнения «На Тихорецкую» Аллой Пугачевой, то версию песни, вошедшую в картину Эльдара Рязанова, она записала в студии «Мосфильма» в 1975 году. С телеэкранов песня зазвучала впервые 1 января 1976 года – вечером первых суток наступившего года двухсерийный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» был впервые показан по первой программе Центрального телевидения.
С первого же показа по ТВ фильм получил оглушительный успех у зрителей, продолжающийся, кстати, до сих пор. Думается, немалый вклад в этот успех внесла и Алла Пугачева, великолепно исполнившая за кадром эту и другие песни, вложенные в уста главной героини картины – белокурой красавицы Наденьки Щавелевой, блистательно исполненной польской актрисой Барбарой Брыльской.
После телепремьеры вмиг ставшую популярной в народе веселую песенку Алла Пугачева неоднократно исполняла в различных телевизионных концертах и программах – «Голубом огоньке», «Театральных встречах», «Утренней почте» и т. д.
В том же 1976 году вышла пластинка с песнями из так полюбившегося зрителям телефильма Эльдара Рязанова, на которой присутствовала и песня «На Тихорецкую» в исполнении Пугачевой.
Эту песню Алла Борисовна исполнит и в телевизионном проекте Леонида Парфенова и Константина Эрнста «Старые песни о главном – 3», показанном на Первом канале в новогоднюю ночь 1998 года. Песня на стихи Михаила Львовского в исполнении певицы звучит в проекте в новой аранжировке и антураже, очень напоминающем квартиру Наденьки из рязановского киношедевра. Таков был сценарный замысел Парфенова и Эрнста.
Завершая разговор о популярной песне, отметим, что как в титрах фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» и проекта «Старые песни о главном -3», так и на вкладыше в компакт-диске Владимира Высоцкого «Летит паровоз», – везде автором музыки к песне «На Тихорецкую» значится и указан Микаэл Таривердиев.
...Итак, к середине 70-х годов Владимир Высоцкий и Алла Пугачева – самые популярные исполнители в СССР. Достать билет на их концерт – крайне затруднительно; зачастую это можно сделать «по блату» или переплатив за него несколько номиналов его стоимости. Слава и популярность певцов так велика, что их знают и слушают «на самых верхах» – власть имущие.