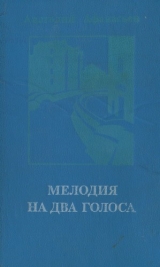
Текст книги "Мелодия на два голоса [сборник]"
Автор книги: Анатолий Афанасьев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Солнышко светит, травка зеленеет. Живу в деревне под Рязанью, там, где когда-то родилась моя мать. Деревенька Рябая, полста изб, рядом речка без названия, до горизонта – леса, между ними широкие просветы полей.
Чудно вокруг. Погода стоит ровная, солнечная, в тени к полудню градусов двадцать пять. Я уже целую неделю здесь, постояльцем у тетки Амалии Ивановны, дал ей по приезде десять рублей, больше она не брала за постель, а потом, когда назвался и выяснилось, что мы в каком-то фантастическом родстве, тетка Амалия хотела отдать десятку обратно. Но я не принял, и она растерялась.
– Это для меня не деньги, – объяснил ей.
Она недоверчиво глядела, покачивала в смущении крупным костистым лицом.
Амалия Ивановна варит суп с мясом и ест его подряд несколько дней, пока не съест. К супу прибавляет сало, овощи, молоко, яйца, а для меня стала жарить рыбу и один раз запекла курицу. О том, что это для меня, я сообразил позже – не сразу.
Образовалась у меня и компания для рыбалки – нерабочий дед Антон. Любопытный дед сам пришел знакомиться на второй же день. Да он и не дед вовсе. Ему около шестидесяти. На войне Антон потерял ногу и по сию пору не привык к своей убогости. Он говорил:
– Смотри, какой-нито пьяница, алкаш – пьет, почитай, годы подряд, куражится, тунеядит, а здоров, как бугай. А я вот непьющий, работящий – и что, сокол мой, толку! Оторвал у меня фриц ногу, и теперь я ни работник, ни защитник. Нет людям от меня радости в труде. Одна старуха на меня не в обиде, с ней покамест справляюсь. Особливо после баньки.
В этом месте он хмельно подмигивал, и одно его веко долго дрожало.
Дед Антон повел меня на рыбалку. Долго мы шли полями и лесом, я спрашивал, а дед не отвечал – куда. Подскакивал на протезе, как цыпленок, на одном плече – удочка, в руке – жестяное ведро.
Утро было сизое, тихое. По травам полоскались ветерки. Воздух, каким не подышишь в Москве, вызывал головокружение, подкашивал ноги.
Наконец выбрались к речке, которая в этом месте расширялась, даже расползалась на два рукава и образовывала кое-где у берегов стоячие, поросшие зеленью темные глубины.
Дед Антон ткнул пальцем и сказал:
– Здесь будешь ловить.
– А вы?
– Я подале пройду, там тоже есть место.
Удочку я привез с собой, четырехколенную… Можно было при желании забрасывать крючок на противоположный берег. Наладил глубину – метра полтора, нанизал яркокрасного томного червя из тех, которыми оделил дед Антон, и забросил леску в один, из омутов. Поплавок, попрыгал и сник.
Бережок тут был сухой, но зябкий, трава еще не подсохла от росы. Подстелив куртку, сел и стал ждать.
Тихо и туманно было вокруг. Солнце подымалось слева. По ряби воды скользили жуки, возле берега колготились стайки, мальков. Далеко-далеко гудел то громко, то тихо трактор. Дед Антон растворился за деревьями ольхи, пропал. Я был один в утреннем чистом мире, который был реальнее, чем то, от чего я уехал: Москва, городские хлопоты, шум улиц, Катины легкие шаги – отодвинулось, стерлось в памяти.
Ни с того ни с сего стал думать о смерти. Подумал, что скоро, ну, через каких-нибудь двадцать лет, умру. Смерть, наверное, похожа на это утро: ничего не ждешь, ничего не хочется, глядишь в одну точку, на поплавок, а в глазах – марево и круги. То есть я понимал, что это не так, что смерть не может быть похожа на утро, – она окончательна и пуста; так понимал умом, но чувствовал иначе. Да, на короткое мгновение именно здесь, у речки, перед восходящим солнцем, ощутил впервые смерть, и она не показалась мне страшной и нежеланной.
Если так, подумал, то и пусть.
Поплавок дернулся и заюлил – потянуло его в сторону, к водорослям, потом назад к центру круга, и наконец, синий столбик наискось ввинтился в черную воду. Я дернул, подсек, сей момент блаженная тяжесть потекла в руку. Как всегда, я ошибся, преувеличил удачу – не кит и не сом вцепился в крючок, а маленький, с пол-ладони, но злой и энергичный окунишка.
Клев начался удивительный. Впечатление такое, что закидывал в садок. Правда, брала мелюзга – окунишки, ерши, плотвички, но без передыху. Так около часу, а потом – как отрезало, плавал синий столбик – поплавок, тыкались в него верхоплавки, ветерок подул в спину, к берегу.
Солнце уже припекало – и руки жгло и левое плечо. Опустил удочку на низкие ветки кустарника, достал кукан, пересчитал добычу – уха будет – и отправился берегом поглядеть, как дела у деда Антона.
Старый солдат лежал на травке под ольхой, раскинулся по-богатырски и курил трубку. Глядел он открытыми очами прямо на солнце.
– Ну как?
– Вот думаю, – сказал дед, – сколько же это годов отстучало с войны, двадцать девять или тридцать? Ты не считал?
– Тридцать.
– Много. А все как недавно. Ежели считать, то и вся моя жизнь оттудова кончилась, в те годы.
– Почему? – спросил я, предугадывая ответ.
– А как же! Ты, поди, думаешь, мне ноги жаль. Жаль, конечно, да не в ней дело. Война всех людей тогдашних перевернула, и от этого перевертывания мы стали непохожими на новых людей.
– Я тоже войну застал. Пацаном был, работал на заводе, а хотелось учиться. Но голодно было, помните – разруха. А у меня мать больная. Не гневи бога, дедушка. Всем досталось.
Дед Антон насупился и поискал глазами поплавок, лениво приподнялся на локте. Локоть его уперся в землю, как копье. Видно было – накормить деда Антона досыта уже нельзя. Так он и помрет среди обильной пищи – голодным. Я многих знал воевавших людей, и были гордые, часто вспыльчивые, но обиженных среди них не было. И я все-таки не удержался, заметил:
– Ты, дедушка, будто один воевал и страдал, а весь народ в картишки играл.
Дед Антон усмехнулся с прищуром:
– Ты думаешь, виноватых ищу? Нет. О человеке и скорблю, не об одном себе. Иди вот дерни лучше уду – там, кажись, рыба зацепилась.
Я послушно поднял удочку, потянул – и даже испугался: такая, действительно, мощная рыба заходила вдруг в глубине.
– На живца взяла! – крикнул дед Антон, вскакивая; лицо его вмиг обезумело – отнял у меня удочку, перегнувшуюся почти вдвое: казалось, сейчас обломится.
Дед покрыл окрестные тихие берега жутким матом, а я бегал вокруг, тоже ругался, бестолково и неумело. Дважды сверкнуло на поверхности темное щучье тело, вспорола воду стеклянная морда; дед весело работал, тащил, отступая по берегу выше. "Не оборви, не оборви!" – молил я.
Старый герой выволок щуку на песок, и я схватил ее, скользкую и синюю, за гибкий хвост и отшвырнул в траву, к кустам, оклеив ладони мыльной пеной.
8Вечером я писал Кате письмо.
"Уважаемая Катерина! Вы, наверное, удивитесь, что решил написать Вам отсюда. И сам удивился, когда эта мысль пришла мне в голову.
Послушайте, Катя, зачем Вы играете со мной в какую-то странную игру? Я не знаю Ваших правил, поверьте.
Тут, в деревне, я познакомился с замечательным стариком, философом и воином, дедом Антоном. Нынче мы ходили на рыбалку вместе. Между нами произошел любопытный спор о поколениях. Дед доказывал, что не понимаю его из-за разницы в возрасте. Я доказывал обратное, хотя и не аргументированно. Но вот, подумав, понял, что он прав. Не понимаю его, а разница между нами такая же, как и у нас с Вами. Правда, он воевал, а это много значит.
Но и по сравнению с Вами я чувствую что-то такое и таким образом, что вряд ли найдет отклик в Вашей душе.
Давайте объясню точнее. Возьмем, для примера, нашу работу. Ну что она такое для Вас, Катя? Времяпрепровождение или страсть, способ добывания денег или принудительная скучная обязанность? Почему Вы делаете ошибки в расчетах, зачем без пятнадцати пять спешите к проходной и там в нетерпении отсчитываете последние минуты? Не знаю ответа.
А для меня работа – это жизнь, это все. Хотите знать, почему? Да потому, что я начал работать при других обстоятельствах, которые Вы, слава богу, не знаете и не узнаете никогда, разве только по книжкам.
Наша работа для меня не скучная, совсем нет. Цифры как птицы, белая бумага, длинные периоды – вижу, что за ними, какие громадные силы и планы! Люблю это. С трепетом ощущаю, как в сухие строчки наших отчетов умещается яркая, бурная переменчивая жизнь. Может быть, Вы насмешливо улыбнетесь, читая мои слова, подумаете: вот, мол, канцелярская душа! Как угодно. Но я такой, как есть, и другим уже не буду, не переменюсь, поздно. То, что люблю, уж и буду любить, а то, что ненавижу, так и буду ненавидеть до конца.
Могли бы Вы, Катя, выйти замуж за канцелярскую крысу, за чиновника? Могли бы полюбить такого?
Вы – человек из другого теста, Ваше сердце горит совсем иным огнем, и, наверное, мечтаете Вы о другом, о ярком.
Что могу дать я своей жене? Тихие вечера, проводимые вместе у телевизора, редкие походы в театр, путешествие к Черному морю, не слишком большую зарплату. Никаких взрывов, порой так очаровательно разнообразящих семейную жизнь, от меня не дождетесь.
Прогулки под руку, вкусный ужин (я хорошо готовлю), обсуждение свежего номера журнала – вот и все.
Надеюсь, что буду хорошим, добрым и внимательным отцом, потому что хочу иметь детей.
Катя, выходите за меня замуж! Вы будете свободны. Не понравится – уйдете. А почему бы не попробовать?
Напишите мне сюда. Хоть открытку.
Фоняков".
Письмо это я, разумеется, не отправил. Перечитав его, ужаснулся той смеси глупости, чванства, самодовольства и наглости, которые сумел уместить на двух небольших страничках.
– Вот это да, Степан, – сказал себе. – А ты, оказывается, полный болван!
А письмо порвал и клочки отнес в мусорное ведро.
Попозже, близко к полуночи, я вышел на крылечко покурить. Деревенская улица, похожая на просеку, была пуста и светла от луны. Все окна в избах погашены, и дома казались картонными. Все было призрачно, как на макете в старом кино.
Сзади скрипнула дверь, и показалась Амалия Ивановна в накинутом и наглухо запахнутом длинном черном пальто.
– Не спится, милок? – сказала она добрым голосом. – В городе-то, я чай, поздно ложатся?
– Когда как, Амалия Ивановна.
– Что же у тебя там – жена, детки?
– Нету никого, – ответил я.
– Померла, што ль? – посочувствовала женщина.
Ночная пора расположила ее к теме, которую прежде она деликатно обходила.
– Бобыль я, Амалия Ивановна.
Она торопливо и с охотой вздохнула.
– Так вези от нас бабу. У нас есть. Всякие есть: и красивые, хозяйственные. В городе, поди, всем молодых подавай, а у нас любой мужик хорош.
Она меня пожалела – что ж тут обидного!
9На другой день Амалия Ивановна раза два забегала с фермы (обычно она возвращалась к вечеру) и оба раза как-то лукаво спрашивала, не надо ли мне чего. И тут я ничего не заподозрил. Вечером у себя в комнате читал, думал о Кате, хандрил. Какие-то неясные предчувствия пугали.
Постучала и вошла Амалия Ивановна.
– Прошу отужинать с нами, – сказала церемонно,
– С кем с вами? – удивился я.
– Так гости же у нас.
– А я зачем?
– Идемте, идемте, пожалуйста…
Чтобы не обидеть, надеясь, что, может, дед Антон заглянул, но все же поругивая Амалию Ивановну за ее уловки, вошел растерянный. За столом, накрытым к ужину, восседала женщина в плисовой юбке с красным, смущенным лицом. Я тоже сразу смутился.
Амалия Ивановна ткнула в женщину перстом, сказала со значением:
– Вот это, значит, Надюша Гордова. А это, значится, Степушка, Фоняковой Клавы сынок. – Подумала и назидательно припомнила: – Фоняковы с Гордовыми завсегда дружбу вели. Помнишь, Наденя, когда кутерьма с пшеничкой была, до войны ище, так, значится, Костьку фоняковского усадили, а заодно и Федьку Гордова из Бурмилова, конечно. Это уж все понимали – заодно.
– Что за история? – спросил я, заинтересованный больше не самим случаем, а тем, откуда у меня может быть столько родни, да еще с темным прошлым. В анкетах всегда писал: никто из родных под судом не был. Да и точно – не был.
– Старинное дело, – отмахнулась Амалия Ивановна. – К слову поминулось.
Надюша Гордова, как ее назвала хозяйка, сидела, в рот воды набрав. Но глазами, однако, постреливала. А глаза у нее были глубокие и с тенями. Что ж делать, стали мы ужинать. Амалия Ивановна из графинчика чего-то темного налила по рюмкам. Улыбалась она так, как улыбаются только застенчивые деревенские женщины в особо торжественных и значительных обстоятельствах, – с тонким намеком и одновременно какой-то строгой святостью.
Жидкость оказалась дьявольским самогоном. Его знобкий и яркий привкус сразу связался у меня с множеством неясных воспоминаний и дальних светлых надежд.
– Кушай, кушай, голубчик, – приговаривала Амалия Ивановна; сама не закусывала, а мне подкладывала и капустки квашеной с яблоком, и сальца с прожилками, дымящихся в кожуре картофелин.
Горела тусклая лампа, из открытого окна тянуло желтоватыми чудными запахами смолы, соломы и яблок. От ветерка колыхались оконные занавески, серый толстый кот мурлыкал, как трактор, разлегшись на табуретке, с лютой пронзительностью не сводя неподвижных зрачков с моих рук, – каждое мое движение он сопровождал взмахами острых кончиков-кисточек на ушах.
Плотная, с блистающими звездами, ночь за окном казалась прозрачней, чем свет в горнице, и это создавало странную иллюзию лубочности нашего сидения за белым столом.
Амалия Ивановна и Надюша выпили по второй стопке, а я отказался, чем вызвал немой вопрос на устах прелестной гостьи.
– Что же вы! – укорила Амалия Ивановна. – Чистый ведь продукт. В городе у вас, говорят, нынче во все нефть кладут. Даже сало вот, прости господи, из нефти гонят. Потому ты, Степа Аристархович, голубчик, и туманный такой, – стало быть, нефть тебя источает помаленьку.
– Это да, – согласился я.
У Надюши замечание почему-то вызвало приступ долгого, придушенного смеха – сначала она показала в широкой улыбке коренные железные коронки, а потом, давясь весельем, вся покрылась розовыми пятнами и, наконец, заиндевела, как бы прихваченная морозом. Пораженный такими метаморфозами, я неприлично уставился и глядел на нее в упор.
– Смешливая у нас Наденька, – тоже озадаченно заметила Амалия Ивановна. – А все смешливые добрые к мужикам.
– Как это добрые?
– Не ко всем, значится, а к мужу законному, – поправилась хозяйка. – Ты знай, Степан, злая жена, ведьма – беда. В петлю залезешь. А она из петли вынет и сызнова станет мучить. Вот сколько в злой жене зла! Не пожалеет, помереть не даст.
Амалия Ивановна чуть захмелела, и говорок у нее появился певучий и складный. Но Надюша по-прежнему была как немая. Тут я и не сплоховал, поухаживал:
– Вы бы, Наденька, обронили хоть словцо.
Она так жарко зыркнула глазами, что я озяб.
– Она еще скажет, – успокоила Амалия Ивановна, – еще наслушаешься. Лучше ты нам, Степан Фоняков, расскажи, как это в городе люди до твоих лет бобылями доживают. Ай не нашел себе под стать? Девок-то, поди, мильоны.
– Денег у меня мало, – ответил. – А без денег кто свяжется!
– Не в деньгах счастье, – бухнула вдруг Надюша басом и мила мне стала чрезвычайно.
"Вот и хороша жена, – подумал я твердо и убежденно. – С неба ангел".
Но неужели так может быть, что вот свели двух незнакомых людей с определенной целью, они познакомились, понравились друг другу и зажили припеваючи.
Тем временем обе женщины словно забыли обо мне, или, наоборот, я сделался им близким человеком, которому не обязательно оказывать ежеминутные знаки внимания.
Они стали петь. Лицо Надюши побледнело, горькая тень отчаяния набежала на него, красиво, низко она выводила: "Зачем вы, девочки…", Амалия Ивановна подтягивала тоненько и жалобно где-то в небесах – такой свирельный голосок достала она из незабытых девичьих тайников. Тогда и я запел, а женщины одобрительно и дружно покивали.
Мы долго пели в покое и радости.
Думаю вот о чем. Зачем иногда случаются такие сладкие и мучительные остановки? Зачем манит что-то неведомое и, может быть, гибельное? Что это значит? Куда зовут нас песни, спетые за случайным столом? Почему тревожат они, как будто прожил ты жизнь окаянную и неправильную? Во мне ли это только или во всех нас сидит до поры, покрывшись лопухом, бесстрашный черт, шепотом кричащий о счастливых безумствах и быстрых непоправимых мгновениях?
Потом я пошел провожать Надюшу. Вряд ли удастся описать, что такое для городского человека моего склада идти по ночной деревне, где нет фонарей, а трава видна, рядом с женщиной, которая может выйти за тебя замуж, если пожелаешь. Это разве словами на бумаге скажешь?
– Вам не холодно, Надюша?
– Нет уж, почему?
Мне хотелось взять ее под руку, но не было повода, а просто так не мог – не умел.
– А вы, Надюша, всегда в деревне жили? – спросил я.
– А где же еще? Мы все здесь живем.
– Сейчас в городе многие жалеют, что покинули деревню. Там, видите ли, душно, тесно. А тут – простор.
– А вот возьмите меня в город, привыкну! – вдруг негромко попросила Надюша.
– Зачем? – вздохнул я, трепеща от такой доверчивости и готовности. – Я не тот, кто вам нужен, совсем не тот.
Книжные слова дико разорвали покойную тишину вечера.
Надюша откликнулась гортанными, глухими звуками смеха, повернулась, прижалась и поцеловала меня в губы, а потом пропала, тенью скользнула в придорожную зелень; скрипнула рядом калитка, прошуршали шаги, неподалеку лениво и небрежно тявкнула собака.
Оглушенный, растерянный, стоял я один посреди спящей земли. Руки еще помнили мгновенное гибкое тело, и ее глухой смех висел около моего лица – не сдувал его упругий ветерок. Кто она была, волшебница или одинокая деревенская баба? Пожалела она меня, сироту, или влепила пощечину?
Амалия Ивановна еще не ложилась и встретила меня гримасой.
– Что ж это мало погуляли? – спросила.
– Какие гулянья в этакую пору, Амалия Ивановна!
– Чай будешь пить?
Незаметно хозяйка перешла на "ты" – то ли уважение ко мне потеряла, то ли приблизила к себе.
– Вы, Амалия Ивановна, поймите меня правильно. Какой я, к черту, жених! Характер замкнутый, недружелюбный… И потом, как-никак надо оглядеться. Нельзя так сразу, взял да женился. Время нужно, а его нет.
– Не понравилась, значится?
– Нет, очень понравилась.
– Я ведь не какую попадя привела. Тоже, чай, не без ума. Наденька – женщина смирная, услужливая, из себя здоровая. По мужику крепко тоскливая. Она б тебе из одной благодарности вовек верна была. Детишек заведете.
– А много у вас таких, без мужей?
– Много, – сказала хозяйка с обидой, – хватает. Мужики которые – они посмелее, поднялись враз от хозяйства и уже на другой земле счастья ищут. А бабы остаются, ждут. Хорошая женщина не побежит, как кобыла, скакать с поля на поле. Уж, видно, женщины должны с опаской жить, пока молодые. А чуть постареют – никому не надо.
Мы еще немного поболтали таким манером, а потом разошлись, причем Амалия Ивановна не в избу вернулась, а медленно побрела во двор, к калитке. Что уж она надумала делать – загадка. Засыпая, все вспоминал Надюшин поцелуй и ни о чем не жалел.
Возвращение
1– У тебя, брат, начался старческий маразм, – вещал Захар Остапенко. – Мы, молодые ребята, стремимся в отпуск к морю, в Коктебель, попить легкого винца, всласть покупаться, завести случайное знакомство. Это – жизнь. А стариков, конечно, тянет в деревню. Им там хочется присмотреть себе местечко на погосте. Маразматик беспокоится, что его некуда будет зарыть.
– Ну и юмор у тебя!
– Самый модный – черный юмор. Хочешь анекдот?
– Не хочу.
Мы сидели на кухне и попивали чай с галетами и вишневым вареньем, подаренным Амалией Ивановной на дорогу. Кончился отпуск, и завтра на службу. Я рассчитывал провести вечер в одиночестве, погладить, кое-что простирнуть, полы помыть – да мало ли! Газеты в конце концов просмотреть, которых не читал ровно месяц. Амалия Ивановна выписывала журнал "Сельская молодежь" – и больше ничего. Зато у нее была в сундуке подшивка этого журнала за многие годы.
Но вот мы уже сыграли пять партий в шахматы, уже чай пили вторично, а Захар не собирался уходить,
– Мало ты думаешь о смысле жизни, – ерничал Захар. – С тобою скучно. Философия, братец, облегчает жизнь, и философия самоценна. Говорить можно обо всем, но для развития философической идеи нужен партнер. А ты какой партнер? Нет, тебя я спрашиваю, какой ты партнер?
Он раскраснелся, попав под обаяние собственного ума.
– Еще для философии нужны азарт и настройка. А больше ничего – знания не нужны. Эти книжки из шкафов ты выбрось. Выбрось, не пожалеешь. Ну, давай, не поленись, сейчас и выбрось. Не хочешь? Ну, пожалуйста, как угодно.
Спорят, мол, что такое философия, выше она науки или ниже. Одни говорят, что выше, потому что это наука всем наукам. Другие талдычат, что и вовсе не наука, потому как в ней нет законов, а одни рассуждения. Бог им судья, спорщикам. Пусть они тебя с толку не сбивают, Степан. Хотя они на таких, как ты, и рассчитывают – на квелых, у которых полны шкафы книжек. А ведь много книжек не надо человеку, Степа. Ему надо пять штук. Сказать каких?
– Не надо.
– Ладно, потом запишу тебе на бумажке. А философия, Степан, это наше умение говорить друг с дружкой сложно и красиво о простых житейских вещах. Понял теперь?
– Теперь понял.
– Давно тебя знаю, Степан, а не пойму, добрый ты человек или злой. Никак не пойму.
"Почему бы мне не сделать Кате официальное предложение?" – подумал я, а вслух сказал:
– Добрый.
– А я вот злой. Я, Степан, иной раз думаю, что самый злобный человек по Москве. И хапуга.
– Это да, – согласился я, думая, что если Катя меня полюбит, то это же счастье будет какое!
– Я на добряков злой, – продолжал развивать мысль Захар. – Которые сидят и от доброты слюни пускают. Таких добряков вешал бы в парках на деревьях.
Захар далеко зашел в своей шутке.
– Когда проходит молодость, длиннее ночи кажутся, – отозвался я.
Вдруг что-то сжало его лицо, и оно покрылось морщинами, как сеткой.
– Что с тобой, Захар?
– Ты прав, – сказал он, – длиннее ночи кажутся. Этот бессмысленный разговор запомнился – уж не знаю почему.








