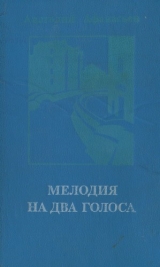
Текст книги "Мелодия на два голоса [сборник]"
Автор книги: Анатолий Афанасьев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 24 страниц)
Мать крикнула с кухни, чтобы они шли ужинать.
– Нет, мама! – откликнулся Федор. – Мы на улицу пойдем. Погуляем.
– Чего ты, – не одобрил его Петюня. – Пожрали бы, да айда. Я люблю, как твоя мамаша готовит. Она масла не жалеет, вот что важно… Нет, вижу, совсем ты ошалел с этой аптекаршей. Надо будет с ней заняться.
– Займись, – согласился Федор. – После только не пожалей!
– Шутю, Федюнчик! И юмор она из тебя, страдальца, высосала. Жаль! Какой был орел.
Они дошли до скверика, где в дальней беседке уже собралась небольшая компания. Генка по кличке Ханурик уныло терзал струны гитары. Парней пять курили, внимали. Друзья поздоровались с некоторыми за руку. Присели. Начиналось долгое, бессмысленное вечернее бдение. Федор вглядывался в знакомые лица и ощущал тоскливое жжение в груди, как изжогу. Он пришел сюда с Петюней, потому что ему было безразлично, где находиться. Но вообще-то он, как и многие до него, которых здесь не было, давно перерос эти дурацкие посиделки под гитарное бренчание, с набившими оскомину шутовскими разговорчиками и словечками, которые здесь вызывали истерический смех, а в любом другом месте прозвучали бы дико и бессмысленно. А ведь когда-то такое времяпровождение доставляло ему удовольствие, будоражило. К чему-то тайному и полузапретному они все здесь вроде бы приобщались. Э, да что кривить душой, ни к чему они не приобщались, сбивались в кучу, как волчата, жались к старшим, к тем, кто посильнее и поопытнее, у них исподтишка учились повадкам взрослых волков. Учились скалить неокрепшие зубешки: в стае, в "кодле" это было веселое и почти безопасное занятие. Теперь они с Петюней, и Генка, и еще кое-кто припозднившиеся тут гости, зато вон хлопают ушами сопляки лет по двенадцати, тринадцати, учатся в свой черед уму-разуму, сверкают любопытными глазенками. Неужели и он, Федор, был когда-то таким же, с гонором выпячивал худые локотки, втайне ища благосклонного внимания и покровительства сильных мира сего. Конечно, был. Да еще, пожалуй, поглупее других. Стыдно вспоминать. Тот давешний пионер из аптеки вряд ли затешется в такую компанию, у него, судя по всему, сызмалу шестеренки в голове самостоятельно прокручиваются. Как же получается, что уже изначально, с малых лет люди разделяются: одни норовят сбиться в "кодлу", другие бредут собственной тропкой? Какие тут действуют законы и предначертания? Может, все просто – за одними родители больше приглядывают, а иных сразу швыряют в реку жизни, не беспокоясь, что они вовсе не умеют плавать? И неужели он, Федор, человек стаи? Не хочется в это верить, и никому он в этом не признается, но похоже, что так. Не потому ли и красавица Анюта отнеслась к нему с пренебрежением, сразу почувствовала – он не сам по себе, не вольный орел, как польстил ему Петюня, а всего лишь щенок из своры, впервые вырвавшийся на простор индивидуальной тропы? С таким, конечно, нечего церемониться. Ату его!
– А ну поди сюда! – Федор окликнул совсем уж малолетнего губошлепа, который в силу своей возрастной незначительности даже не решался войти в беседку, заглядывал в нее через перила.
– Ты меня? – пискнул ребенок.
– Тебя, граф, кого же еще!
Мальчишка помедлил, соблюдая этикет независимого поведения, обогнул беседку, вошел и стал боком. Даже в неярком электрическом свете было заметно, как он мучительно насторожен. Он был ко всему готов.
– Курить будешь? – спросил Федор.
– Угостишь, курну.
– А кой тебе годик?
Мальчуган задорно шмыгнул носом.
– А тебе?!
"Кодла" загоготала. Справный малыш, находчивый, дерзкий, толк будет. Кто-то протянул ему окурок, но мальчишка не успел поднести его ко рту. Федор вышиб у него сигарету, а заодно уж отвесил оплеуху.
– Дуй домой, сопляк, уроки учи! Чтобы я тебя больше здесь не видел!
Мальчишка взъерошился, собрался что-то возразить, но дружеский пинок Петюни проводил его до выхода из беседки. Тщедушная фигурка еще немного помаячила в фонарном пятне, уныло побрела прочь. На инцидент никто не обратил особого внимания: мало ли кого тут то выпроваживали, то привечали. Обычное дело. Генка загнусил песенку собственного производства о каком-то капитане, который порвал отношения с любимой женщиной на почве ревности и тяжко горевал. Песенка имела успех. Почти все Генкины песенки становились шлягерами местного масштаба. Известно было, что Генка Ханурик не сегодня-завтра намерен сколотить бит-группу и пробиваться к мировой славе. Этому тоже никто особенно не удивлялся. Почему бы и нет? Генка говорил, что недавно по знакомству был на прослушивании у известного композитора, который пришел в дикий восторг. Композитор сравнил его со знаменитыми бардами, разумеется, в пользу Ханурика, и посоветовал пока поступить в музыкальную школу. Советом Генка гордо пренебрег, заявив друзьям, что музыкальная школа, естественно, давно хотела бы его заполучить, но, к сожалению, там нечему учиться. Как бы наоборот, музыкальной школе не пришлось идти к нему на поклон. Заносчивые Генкины разговоры о музыкальной школе и о том, кто у кого должен учиться, Федор слышал сотни раз за последние годы.
Петюня наклонился к другу:
– Да, Федя, ты прости, но не могу молчать. Довела тебя аптекарша до садизма. На мальцов стал бросаться. На детях злость срываешь. Нехорошо!
– Заткнись!
– И общаться с тобой трудно. Что ни скажи, все не по тебе. Так и до психушки один шаг. Брось ты эту девку. Отойди в сторонку, сама к тебе прибежит. Я их натуру раскусил. Вот погоди, Томка нас познакомит с генеральской внучкой…
Федор поднялся и ушел. Было так муторно на душе, что выть хотелось. Он не знал, от кого защищаться и что защищать. Какие-то новые желания и предчувствия в нем зрели, толчками колотились под ребрами и кружили голову. Конечно, прав Петюня, это поганое состояние было так или иначе связано с Анютой, с ее недостижимостью и непостижимостью. Кто вдруг наслал на него эту погибель? Он еле ноги отрывал от земли. Приятель что-то крикнул вдогонку, что-то озабоченное. Голова у Петюни устроена так, что все мысли, рождающиеся в ней, оказываются пакостными. Раньше это Федору нравилось, забавляло, теперь ужасало. Петюню никто не обижал, он не испытал в жизни никакого горя, почему же большинство людей представляется ему подонками и сбродом? Вот еще одна кошмарная загадка бытия. Загадки тянулись одна за другой и составили уже большой том, в который заглянешь – голова кружится.
Федор, пройдя немного, присел на скамейку отдохнуть. Сюда еле слышно доносилось бренчание гитары и Генкино пение, но слов было не разобрать.
Мимо по аллейке проковыляла согбенная женщина средних лет. Она направлялась в сторону беседки, где веселилась компашка. На женщине модный светлый плащ, в руке шикарная югославская сумочка. Но шла она осторожными шажками и клонилась вперед, точно боролась с ветром. Что-то было знакомое в ее походке и фигуре. Так ходили больные в садике возле больницы, мимо которой Федор каждый день проезжал на работу в троллейбусе. К тем людям в одинаковых серых халатах он испытывал любопытство и мимолетную жалость. И этой прохожей, может быть, уже недолго носить свой светлый плащ. Идет как падает. Знает ли она, куда идет? Вот именно, такая походка должна быть у людей, которые бредут без всяких ориентиров, без цели, наобум. Скоро и Федор будет так ходить. Недолго осталось ждать.
Женщина мало того что брела, по сочувственному предположению Федора, наобум, так вдобавок у нее отскочил каблук. Она споткнулась, нелепо засеменила, нагнулась, сняла туфлю, разглядывая ее, не удержалась, брякнулась на траву. В беседке оценили комизм ситуации. Оттуда раздалось оглушительное улюлюканье, визг, и внезапно сквозь шум выкристаллизовалась немыслимая похабщина. Федору показалось, что он узнал голос товарища и друга, гулкий голос, как бубен. Он подбежал к прохожей, беспомощно озирающейся. Чудовищные выкрики из кустов, сдобренные смехом и свистом, напугали ее. Она оступилась босой ногой в слякоть газона, а туфлю прижимала к груди, как последнюю драгоценность.
– Я вам помогу? – нерешительно предложил Федор. Женщина шарахнулась от него, как от насильника. Он увидел серое, тусклое лицо и глаза, полные мольбы.
– Да вы не бойтесь. Это мальчишки бесятся. Давайте я посмотрю, что тут у вас стряслось!
Она отдала ему туфлю безропотно. Каблук покосился, и гвоздики насмешливо щерились из подошвы. Федор пару раз пришлепнул ладонью, и каблук вернулся на место.
– До дома доберетесь, – улыбнулся он женщине. – Но вообще-то в мастерскую надо.
Женщина влезла в туфлю, опираясь на подставленную им руку. В беседке притихли. Зрелище было необычное, и его трудно было сразу переварить.
– Спасибо! – Женщина оглядела его внимательно. – Напрасно вы думаете, что я испугалась. Просто, понимаете, хамство так действует, как кипятком ошпарят из-за угла… А ведь совсем еще дети.
– Бывает, – ответил Федор. Он пошел в беседку. Там компания затаилась в смутном предчувствии. Про Федора были слухи, что он уж две недели как чокнулся, а теперь, видать, вовсе офонарел.
– Ну что, ребятки, потешились? – спросил Федор, входя в круг. – Пуганули мамашу?
Он старался зацепить хоть чей-нибудь взгляд, но пацаны блудливо отводили глаза. Один Петюня глядел открыто и дружелюбно.
– А что, забавно бабка шейк сбацала, – сказал Петюня. – В кино не надо ходить.
Федор наотмашь, с упора врезал по скуле весельчака. Петюня от удивления замешкался. Федор поэтому успел еще разок махнуть, целя противнику в челюсть. Но тут Петюня опомнился, гибко отклонился и с хряканьем ударил. Перед Фединым взором мгновенно поднялись зеленобагровые столбы, и он покатился в угол беседки. Выпрыгнул оттуда, выбросив вперед ногу. Он был далеко не новичок в уличных потасовках и плевать хотел на разницу в весе. Они колошматили друг друга от души еще минут пять. Наконец Федор утих в том самом углу, куда отлетел после первого удара. Ему тут покойно было лежать, подогнув ноги к животу, в полузабытьи. Ребята, один за другим, потихоньку, точно боясь его потревожить, покинули беседку. Петюня остался ждать, пока он очухается, чтобы проводить домой.
Несколько дней Федор не ходил в аптеку и понял, что, хотя и останется навеки несчастным, сможет себя переломить и больше унижаться перед девушкой не будет.
– Тебе, Федя, все же в самый раз к доктору сходить бы, – советовал Петюня. – В тебе на фоне любви могут произойти необратимые изменения. Я смотрел по телику передачу, там показывали одного шизика, вроде тебя. Он сначала нормальным считался и жил, как все, скромно и незаметно. Вкалывал там где-то, детишкам гостинцы носил. А однажды вечером вышел на балкон вроде покурить и сиганул с шестого этажа. Обрати внимание, остался цел и невредим. Потому что был под банкой.
– А-а, – отмахнулся Федор. – Это ты "Беседы об алкоголизме" смотрел. Я-то тут при чем?
– При том, старина, что алкашом необязательно быть, чтобы свихнуться. Твоя аптекарша…
– Заткнись!
Петюня послушно умолкал. Он был предельно чутким к занедужившему товарищу, поэтому старался держаться от него на расстоянии. В комнате демонстративно садился в дальний угол, а когда шли по улице, соблюдал дистанцию. Федора это смешило.
– Ты что, действительно думаешь, что я рехнутый?
– А как же, Федя, а как же! Почему ты тогда в беседке на меня напал из засады? Потому что был в состоянии аффекта.
Федор избегал родителей, нарочно задерживался после работы, чтобы ужинать одному. Никого не хотелось видеть. Мать со своими "охами" и "ахами" его раздражала. Про отца и говорить нечего. Тот преследовал его "добрыми советами" времен покорения Крыма. Ночами Федор спал скверно. В снах бесконечно за кем-то гнался или его кто-то преследовал, но он не видел ни одного отчетливого лица. Темные были сны, изматывающие похуже бессонницы. Как если постоянно смотреть телевизор с помехами. Густая, безликая пелена, похожая на плотную штору, из ночных сновидений перемещалась в явь, не исчезала с утренним пробуждением. Федор теперь и среди бела дня плохо улавливал очертания улиц и даже знакомых людей не всегда узнавал. Он выходил из подъезда и напрочь забывал, куда и зачем направлялся. Иногда выпадало из памяти, что с ним происходило час или два назад. "Может, я и правда болен? – без страха и любопытства думал он. – Только вряд ли от этой болезни есть лекарства".
Как-то раз Федор долго шатался по пустынным вечерним улицам с единственной целью убить время и дождаться, пока родители улягутся спать. Вечер выдался свежий, сизоватый, с тягучими предосенними запахами. Он шел, глядя перед собой незрячими глазами, ни о чем не думал, дремал на ходу. Возле кинотеатра "Салют" чуть не наткнулся на Анюту. Она сосредоточенно изучала доску с рекламой. В кожаной куртке и джинсах, с распущенными по плечам волосами, она выглядела, как все кинозвезды мира, если их собрать в одну. Федор, стряхивая под ноги чугунную оторопь, приблизился и стал рядом.
– Привет! – поздоровался он. – Ждешь друга сердца?
Она не удивилась его появлению.
– Привет! И что дальше?
– Ничего. Я мог бы вместе с тобой подождать. Или это ему не понравится?
Анюта поправила шарфик, скосила глаза на проходящего мимо милиционера.
– Ты за мной следишь?
– Нет, я случайно… честное слово!
– А почему ты больше не заходишь в аптеку?
Она говорила с ним строго, но не раздраженно, как опытный педагог с трудным подростком.
– Надоело унижаться. Очень больно, когда над тобой смеются. Подожди, полюбишь – сама поймешь.
– Только не строй, пожалуйста, из себя Желткова!
– Какого Желткова?
Анюта засмеялась, расцвел в полумраке алый розовый куст.
– Вы Куприна в школе проходили?
– Не помню. А, это "Гранатовый браслет"? Там – Желтков? Я фильм смотрел. Ничего фильмец, только скучный.
– А ты мог бы лишить себя жизни во имя любви?
– Нет! – грустно ответил Федор. – Не мог бы. Да и какой смысл. Ничего этим не добьешься.
Она медленно пошла в сторону центра, он – следом.
– Ты что, Анюта, решила не дожидаться?
– Не твое дело.
"Неужели, – подумал он недоверчиво, – неужели нашелся кто-то, кто мог ее обмануть и не прийти к ней на свидание. Вот бы посмотреть на этого человека, полюбоваться им". Он чуть не попросил Анюту обождать еще немного.
– Если хочешь, я опять буду приходить в аптеку. Если вам охота посмеяться. Смех, я читал, очень полезен для здоровья.
– Да уж с тобой посмеешься!
– А чего? Я веселый парень. Анекдотов много знаю. Правда, теперь немного поскучнел. Я и сам заметил. Сходил тут в киношку на кинокомедию. Хорошая кинокомедия, смешная, про деревенскую бабу. Все вокруг хохочут, со стульев падают, а я не могу понять, чего они так расходились. Там Мордюкова играет. Когда я влюбился, Анюта, мне стало не до шуток.
– Бедный мальчик!
– В тебя я не просто влюбился, я тобой заболел, как тифом.
– Ое-ей!
Так они шли по городу, болтая о любви. Федор хотя и пребывал в лунатическом состоянии, понимал, что упускает драгоценное время, которое не повторится. Он чувствовал, что должен сказать или сделать что-то необыкновенное, может быть, дерзкое, нелепое, но такое, что заставит ее услышать. Иначе через минуту Анюта спокойно попрощается, уйдет и больше не вспомнит о его существовании. Но что сделать? Пройтись колесом по асфальту? Закукарекать? Все пустое. Насильно мил не будешь.
– Осторожно, Анюта! Тут лужа! – сказал он дрогнувшим голосом, протягивая ей руку. Она резко повернула к Федору разгневанное, изумительных очертаний лицо. В расширенных глазах девушки на мгновение зловещим водопадом отразились фонари и звезды.
– Не кажется ли тебе, дружок, – язвительно начала она, – что ты ставишь меня в какое-то дурацкое положение. Мы с тобой не знакомы толком, а ты идешь и поминутно объясняешься в любви. Что я, по-твоему, должна делать? Скажи – что?! Я ведь обидеть тебя не хочу. Но и ты меня должен понять.
Федор не вынес дольше ослепительной близости божества, не вник в сказанные слова, ринулся вперед и неловко, потому что спешил, обнял ее и прижался наконец к ней губами. От неожиданности она замерла, и Федор успел ощутить волшебную гибкость ее тела, свежее, чистое дыхание.
– Ты этого и добивался? – спросила она.
– Не только этого.
– Чего еще?
– Я бы на тебе хотел жениться, Анюта!
Федор боялся, что она рассмеется от нелепости его предложения.
Стоял перед ней, как нашкодивший щенок, и ждал приговора.
– Мне пора, Федя. Вон мой дом. – Он с ужасом различил в ее голосе что-то похожее на зевок. – Всего тебе хорошего, Федя!
– А как же?..
– Ты насчет женитьбы? Знаешь, Федя, у всякой шутки должен быть предел.
– Для меня пределов нету! – уверил Федор.
Он догнал ее возле подъезда.
– Анюта, подожди!
– Послушай, тебе не надоело?
– Одну минуту… Я хочу, чтобы ты знала! Да, я молодой, зарабатываю немного, да… нет, не то… – он горел, как в лихорадке. – Не знаю, чем я тебе не глянулся, может… опять не то. Ага, вот! Без тебя мне крышка, Анюта! Так случилось. Но я тебя не побеспокою больше, вот что я хочу сказать. Я тебя больше не побеспокою!
Она испуганно отшатнулась, увидев близко его лицо, в этот миг жутко постаревшее, серое, она увидела Федора таким, каким его когда-нибудь похоронят. Она смутилась.
– Да нет, ты меня не беспокоишь, приходи, если хочешь, – залепетала Анюта. – Просто как-то все неожиданно. Неужели это так серьезно?
Она обращалась в пустоту. Федор был уже далеко. Он крался по ночному городу, пробираясь к дому, старательно уклоняясь от призрачных теней, бросавшихся к нему под ноги из всех подворотен.
В течение нескольких дней – туман и боль. Бывало, выскакивал из автобуса не на своей остановке, отходил в сторонку и, прислонясь к стене, тихонечко выл: у-у! Когда очередная волна звериной тоски накатывала на него дома, он скрывался в ванной и час-два плескался то под холодным, то под горячим душем. Придумал одну хитрую штуку. Погружался в воду с головой и терпел, сколько было возможно, впритык до удушья. Начинал задыхаться, выныривал, и жизнь снова казалась привлекательной. Он гордился своей изобретательностью.
Надвинулась осень, и на город посыпались желтые листья. У магазинов с лотков торговали арбузами и яблоками. Просыпаясь на рассвете, Федор уже не пытался задремать, зажигал свет и читал или просто лежал, глядя в потолок. Эти спокойные ранние часы приносили короткое забвение его смятенной юной душе. Чудилось, что не только в нем самом, но и в городе готовятся какие-то роковые перемены.
В одну из суббот спозаранку зазвонил телефон, и отец позвал его из прихожей:
– Федор, это тебя!
Он тревожно напрягся. В его состоянии каждая малость, нарушавшая обыденное течение времени, внушала невнятную надежду и страх. На что надежду-то, на что? На какое чудо?
Снял трубку, услышал мужской грубоватый голос:
– Ты, что ли, Федь?
– Кто это?
– Юшка я! Не помнишь? В деревне у деда… Ну, чего молчишь?
– А-а, – не сразу отозвался Федор. – Здорово, старина! Ты откуда звонишь?
Отчетливо представились ему река, лес, избушка старика Михалыча. Как давно это было, а ведь и четырех месяцев не прошло. Юшка неуверенно бубнил в трубку:
– Я тут навроде заблудился… Слышь, Федор, надо повидаться. Дед просил.
Федор совсем проснулся и развеселился, представив себе буйного Юшку, грозившего пожаром беззащитному, хитрющему деду. И его подругу припомнил ясно, Верку с лесоповала, похожую на сто тысяч ласковых поцелуев.
– Юшка, ты определись хоть, где ты?! Что ты из будки видишь?
– Чего? Ну, магазин какой-то. Погоди, счас гляну… Ага, вон в скверике дядька каменный лошадку гладит.
– Пржевальский?
– Дак вроде…
– Юшка, ты иди к памятнику и стой там. Минут через двадцать приду. Покури.
– Нечего курить. Тут киоск закрыт. Тоже мне, город! Табаку не купишь.
– Не ворчи, старина, я принесу сигареты.
Юшка стоял возле памятника подбоченясь, с независимым видом. В одной руке чемоданчик, через плечо перекинут туго набитый рюкзак. Одет в белую рубашку, синий коротковатый пиджачок и истертые до белизны джинсы местной фабрики. На ногах прохудившиеся кеды. Ни дать ни взять – осваивает стиль Юшка. В деревне они не сошлись, не подружились, не поговорили толком ни разу, не до того было, но сейчас отчего-то Федору радостно было видеть эту нахмуренную физиономию, с таким выражением на ней, будто Юшка бросал немедленный, грозный вызов целому миру. Может, там, на лоне первозданной природы, это и выглядело внушительно, здесь же, среди множества безразличных ко всему, спешащих по своим делам людей, это было смешно и трогательно.
– Сигареты приволок? – первое, что спросил Юшка, протянув руку для рукопожатия. Быстро прикурил и жадно затянулся. – Как вы тут живете? Я два часа по городу пошатаюсь – мутить начинает. Одному пижону только счас чуть "физию" не начистил.
– За что, Юшка?
– Толканул, гад, под руку, пока я газировку пил, – негодующий взгляд его несколько смягчился. – Вот газировку люблю пить. Что хорошо, то хорошо. Сегодня уже пять стаканов даванул. Вкусно! Опять же брюхо раздул, во, гляди. А сортиров нигде нету. Вы как тут обходитесь, если приспичит?
– Кто как сумеет. – Федор рассмеялся. – Пойдем, провожу тебя.
Из туалета Юшка вышел довольный, уже без пиджака.
– А где пиджак-то, Юшка?
– В рюкзак умял. Жарко!
– Поехали ко мне, позавтракаем, вещи бросишь!
– He-а! У меня поезд через два часа. Некогда гостить.
– Тогда вон пойдем в кафе, посидим.
– Это можно.
В кафе подавали бифштекс и оладьи. Юшка взял себе по две порции того и другого. И еще три стакана компота и двести граммов коньяку. Федор от выпивки отказался, хотя Юшка и предложил деликатно:
– Ты чего? Махани стопаря! Я угощаю!
– Разбогател?
– Разбогател или нет, а деньги мне теперь без надобности.
Освежившись коньяком и компотом, наевшись так, что по лицу потекли струйки пота, Юшка помягчал, расслабился, вольно раскинулся на стуле. Объяснил, почему ему деньги без надобности.
– Расплевался я с Веркой, вот какие пироги. Выжег из сердца каленым железом. Жениться на ней собирался, помнишь?!
– А как же!
– Переиграл. На ней нельзя жениться.
– Почему?
– Порченая она, Верка-то! – лицо Юшки, мокрое и красное, вдруг скорбно сморщилось. – Прав был дед, порченая. Дьяволово семя. Я ведь знал, какая она, но надеялся. Думал, зажму в тиски, детей нарожает, опамятуется! He-а, не может. Над своей натурой власти не имеет. Где мужики собрались пузыря раздавить или просто покалякать, Верка непременно как из-под земли вынырнет. Следи за ней хоть в бинокль, все одно не устережешь. И ведь что печально, Федька. Сердцем она святая. Никому беды не пожелает, каждому поможет. Несправедливо, Федька! Я ее сперва хотел жизни лишить, потом понял – не виновата она. Такой уродилась. В дурную минуту ее бог сотворил. Душу ей дал огненную, а умишко птичий. Жалко ее бывает до слез. Ну что она? Пометет подолом лет пяток, а дальше? Кому будет нужна – старуха? Заболеет – воды некому будет подать!
Столько страсти вкладывал Юшка в свою мельтешню, так яростно пылали его очи, что Федор забеспокоился: не одурел ли гость с непривычки от коньяка. Но нет – Юшка был на удивление трезв. Он впал в отчаяние от незаладившейся своей судьбы. Кому, как не Федору, его утешить. Отчаяние сделало Юшку мудрым и красноречивым. Федор смотрелся в него, как в зеркало. Они беседовали о женщинах, по-стариковски покряхтывая.
– Ты еще молодой, – сказал Юшка. – Послушай сюда. Не принимай бабу всерьез. Ихняя любовь – это все сказки.
– Поздно предупредил, старина!
Юшка поглядел на него прозрачным взором. Ничем он не напоминал сейчас грозного, суматошного парня, каким Федор его помнил. Сидел пред ним сиротливый человек, готовый понять и сочувствовать.
– Ты от обиды все это говоришь, – продолжал Федор. – Всех под одну гребенку нельзя стричь.
– Нельзя?
– Конечно, нельзя. Женщины такие же, как мы с тобой.
– Такие же?! – Юшка наконец взорвался. – Ну погоди, приятель! Ты, видно, к этой чаше с ядом слегка прикоснулся, не распробовал, выпьешь до дна, тогда потолкуем. Через годик с тобой потолкуем, почем нынче овес. Я сам таким губошлепом был, по кинам о них мнение имел… После уж понял, когда Веркины университеты любви окончил с медалью. И ты меня обязательно вспомнишь, Федор.
Федор не верил, но слушал жадно. Его, как и Юшку, трепала любовная лихорадка, только они были на разных стадиях болезни. Юшкины нападки на женщин, пусть и несправедливые, действовали подобно бальзаму. Вот же Юшка – выпил эту самую любовную чашу до дна и уцелел. Мелет что в голову взбредет, но к жизни интерес не потерял, не охладел. А что же он, Федор? Действительно, как сказал Юшка, только прикоснулся губами к отраве – и сразу изнемог. Не стыдно ли!
По дороге на вокзал они задержались в каком-то уютном скверике покурить. Время позволяло. Юшка вдруг гулко хлопнул себя ладонью по лбу:
– Во, отупел совсем! Зачем я к тебе приехал-то?
– Повидаться?
Честно говоря, Федор и впрямь не очень понимал, с чего это вздумалось Юшке его навещать. Чтобы рассказать о Веркином легкомыслии? Навряд ли.
– Есть у меня время всех навещать, – развеял его недоумение Юшка. – Я тебе от деда подарок привез. Он просил…
Юшка рылся в рюкзаке, свирепея все больше. Полетели на скамейку обновки – рубашки, свертки, ботинки в коробках, потом появилось съестное – круги колбасы, головка сыра, пачки масла.
– Фу, дьявол! Думал, забыл. Вот, держи!
– Что это?
Федор развернул тряпицу и увидел старинные серебряные часы-луковицу с длинной цепочкой. Откинул крышку. По зеленоватому циферблату разбросаны маленькие выбоинки-рисунки: птички, зверьки – вместо цифр. Это, наверное, была редкая, дорогая вещь.
– Зачем? – смутился Федор. – Мне не надо.
– Бери, раз дед велел! – хмуро бросил Юшка.
– Ладно. Скажи "спасибо" от меня. На то лето приеду, отдарюсь.
– Сбрендил? Кому отдаришься?
– Деду, кому?
– Помер дед. Месяц как схоронили.
Федор сообразил, что от печальной вести должен бы пригорюниться, но остался холоден и равнодушен. Чужая смерть не представлялась ему непоправимым несчастьем.
– От чего умер?
– От старости, от чего еще. Ему уж, наверно, к ста годам подвалило, не меньше. Он с того раза, как вы в лесу погуляли, так и не оклемался. Худеть начал. Кашлял сильно, с кровью. А как-то я заглянул к нему вечерком, что ли, праздник какой был, он сидит и плачет. Дня за три до смерти.
Говорю ему: "Чего ты, дед, погоду зря портишь. Теперь и не такие болезни вылечивают. Дай лучше взаймы червонец!" А он: "Нет, – говорит, – правнучек, пора, говорит, собираться и ответ держать". А я-то, дурак гоношливый, в голове дым, ору на него чуть не матом. Хотел и про дом помянуть, подожгу, дескать. Не принимает. "Счас дом пожгу!" Это же, ты пойми, Федор, шутка, конечно, он на меня никогда не обижался. Даже ему нравилось, когда я хай подымал, ему со мной не скучно было. Но тут, веришь, окостенел весь, поднялся как-то нескладно, пошел и принес четвертной. И так, с поклоном – иди, милый, помяни деда. И ящик в комоде не запер, где деньги.
Юшка прервал рассказ, задымил сигаретой. Лицо у него было отрешенное, глаза влажно блестели. "Вот тебе и железный Юшка", – подумал Федор. У него самого нехорошо засаднило под ложечкой.
– На поезд не опоздаешь?
Юшка будто не слышал.
– Виноватый я перед ним, Федька. Ни перед кем не виноватый, а перед ним – да! Я у него золотое колечко с камушком взял. Год уж как. Верке отдал. Бабки Шуры колечко. Думал, зачем ему? Сколь помню, оно в коробочке в комоде валялось, в самом низу под одежей. Я думал, он забыл давно. Спер – и Верке в подарок. Она подарки очень уважает. А дед спохватился, искал после колечко. Догадывался, что я взял. Кому еще-то? Хотел и повиниться, да совестно было. А теперь уже и деда нету, и Верки нету, и колечка тоже нету.
– А Вера знала, чье кольцо?
– Чего ж не знала? Чье – не знала, а что не купил, конечно, догадывалась. Такое колечко с камушком тыщи полторы стоит, я справлялся, а у меня тогда лишнего рубля не было. Помню, отдал ей колечко, сомлела, будто пар из нее выпустили. Ласковая стала, как растаяла. И ведь не жадюга какая, нет! Ох, елки-палки! Бабы от камушков шалеют. Любой камушек подари, что поярче да подороже, враз полюбит.
– Если бы так, – заметил Федор, но Юшка его по прежнему не слышал. Он, может, первый раз так выговаривался, а это нужно человеку. Иной раз необходимо выговориться до дна, опустошиться до изнеможения. Неизреченные слова опасно долго в себе копить, рано или поздно они скатаются в глиняный ком, заклинят глотку насмерть.
– Последние дни с ним бабка Макаровна сидела. Древняя старуха, ей самой, поди, лет двести. Говорят, они в молодости женихались. Ну и я почти каждую ночь ночевал. Он слабый стал, ничего не ел.
– Пойдем, – позвал Федор. – Полчаса осталось.
Юшка, одурманенный тягостным видением, окаменел на скамейке, только губы шевелились и глаза тускло тлели. Федору было муторно рядом с ним, страшновато. Словно заставляли разглядывать что-то потаенное, что ему рано или ненужно было знать.
– А тут вечером, Макаровны не было, вижу, знаки мне делает, подойди, мол, поближе. Я испугался. Вот ей-богу! Стою, будто ноги к полу приросли. Но пересилился. Чего, говорю, дедуня, чайку, может, попьешь? Он говорит: ты часы вон те, луковицу серебряную, будешь в городе, отдай от меня Федору Петровичу… Он о тебе до самой смерти помнил. Слышишь?!
– Слышу, слышу.
– Чаем я его все же напоил. Отругал напоследок за паникерство. Он веселый был, шутил. Макаровна вернулась, он уж уснул. Так боле и не проснулся. Самая хорошая смерть…
Юшка сильно вспотел, достал огромный платок, вроде скатерти, развернул, аккуратно протер лицо.
– Опаздываем! – в который раз предупредил Федор. Ему хотелось остаться одному.
Он и не предполагал, что еще не раз в своей жизни встретится с Юшкой и что старик Михалыч еще не раз в крутую минуту протянет ему издалека дружественную руку. Тоска по Анюте, отступившая в тень на несколько часов, обрушилась на него и чуть не расплющила об асфальт. Это было как потеря пульса, как беспамятство. Имя "Анюта" всплыло в его мозгу, взорвалось, подобно шаровой молнии, и заслонило солнце на долгие века.
– Эй! – удивился Юшка. – Ты чего дергаешься? Чего ты?
Федор проводил приятеля на вокзал, посадил в поезд. Юшка курил, пряча огонь сигареты в ладонь, как разведчик. Он сказал на прощание:
– Ты деду полюбился, Федор! И я тебе, если хочешь, другом буду. Что попросишь, все сделаю!
– Что мне надо, не сделаешь, – усмехнулся Федор.
– Говори!
– Да я шучу. Прощай, старина!
Когда поезд тронулся, он остро пожалел, что не уговорил Юшку задержаться хотя бы на денек. В последнюю минуту чуть не вскочил на подножку набирающего ход состава, но остался. Это был еще не тот день, когда он мог бестрепетно покинуть город и все, что с ним связано.








