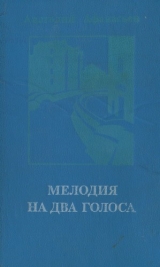
Текст книги "Мелодия на два голоса [сборник]"
Автор книги: Анатолий Афанасьев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 24 страниц)
Хочу вспомнить, как мне было тридцать лет, и не могу. А десять – могу. То есть помню, что в тридцать лет и еще раньше я работал, были всякие события, а какие? Но что-то же было. Что-то же волновало, мучило, какие-то дела делал, чего-то сторонился, к кому-то спешил. Смутно все, в тумане, и оттого страшновато. Будто другой человек жил.
А вот в десять лет мне мама купила велосипед. Это я не забыл и часто ощущением вспоминаю. Утром проснулся, а он, блестящий, металлический, стоит, голубчик, у самой кровати. И солнышко его серебрит из-под штор.
Выбежал из дома, вскочил в седло и помчался по направлению к аптеке на углу. Асфальт был в лужах, несся по лужам, рулил, а потом штанину засосало в цепь и я рухнул.
Какая длинная наша жизнь!..
3Ну, ладно. В первый же день я почувствовал: что-то не так. Во-первых, Кати Болотовой не было на месте, а за ее столом торчал Владик. После обычных приветствий, которыми встречали отпускника, всегда чуточку неловких и деланно радостных, все чинно расселись по местам и зашуршали бумагами. Иван Эдуардович задержался и спросил:
– Разрешите доложить о проделанной работе?
Взгляд его был строг и поза выражала некоторое недоумение и понурость. Вероятно, он предполагал, что по справедливости это я должен был ему докладывать о причине своего длительного отсутствия, но вот по прихоти жизненного пасьянса выходит наоборот.
– А почему нет Болотовой?
– Катерина Викторовна больна.
– Что такое?
– Кажется, сердце.
– Что значит – кажется? Почему же вы не поинтересовались? Может быть, надо помочь, навестить.
Против воли голос у меня стал раздраженный, и Самсонов отвернулся. Потом нехотя и выйдя из официального транса процедил:
– Уже навещали. Товарищ Антонов возил передачу.
– Владик! – крикнул я. – На минуточку.
Юный Антонов приблизился вихляющей модной походкой. На нем были новые парусиновые клеши.
– Слушаю, Степан Аристархович.
– Что там такое с Болотовой?
Владик недобро покосился на Самсонова и что-то промычал невразумительное.
– Переведи на отечественный язык, – попросил я.
Иван Эдуардович усмехнулся. Какой-то холод вокруг, непонятное мне отчуждение. Никто из-за стола не поднял головы, было непривычно спокойно в комнате. Вдруг я поймал быстрый, настороженный, мгновенный, как укол, взгляд Дарьи Тимофеевны.
– Ваш заместитель в курсе всех событий и болезней, – сказал Владик и поморщился.
– Однако! – удивился я. – Как, оказывается, ты умеешь изъясняться, Владислав. "В курсе всех событий" – это слова мужчины, а не мальчика. А каких именно событий?
– Разрешите мне, – вступился Иван Эдуардович.
– Разрешаю.
– Я бы хотел… лично.
Антонов еще поморщился.
– У тебя что, зуб мудрости прорезывается? – спросил я.
– Нет, с зубами порядок. Показать?
Он открыл пасть, но не мне, а Самсонову продемонстрировал все свои желтоватые клыки, а заодно и розовый чистый язык.
– Ступай, ступай, трудись… Прошу вас, Иван Эдуардович. – Я невольно втянулся в их стиль, подозревая, что это какая-то новая веселая игра.
Самсонов опустился на стул и совсем близко придвинул ко мне огромные уши и лицо ковбоя с резкими скулами и точеным носом. Увидел, что у него влажная, с крупными порами кожа.
– Видите ли, Степан Аристархович, в ваше отсутствие произошли некоторые… э-э… неприятные события. Мною замечено, что сотрудники – некоторые, разумеется, – работают без усердия, без должной проницательности. Много времени тратят на пустые разговоры, невнимательны. Этот Антонов дважды опаздывал на работу, один раз на полчаса.
– Гнать в три шеи тунеядца! – вставил я.
Ободренный поддержкой, Самсонов заторопился:
– Катерина Викторовна допустила ошибку в расчетах, меня вызвали на ковер к шефу. Павел Исаевич приказал мне принять меры. Я, поймите меня верно, попал в неловкое положение: с одной стороны, приказ шефа надо выполнять, а с другой стороны, я тут без году неделя, люди меня не знают. Могут неправильно истолковать.
– Что же вы предприняли?
– Объявил выговор Антонову, Болотовой и Дарье Тимофеевне.
– А ей за что?
– Она дурно влияет на молодежь, позволяет себе безответственные заявления.
– Какого рода?
Самсонов замялся:
– Ну, она, например, сказала, что я – новая метла. Оскорбляла в присутствии коллектива… Еще назвала меня шишкой на ровном месте. Все это подрывало мой авторитет.
– А он у вас уже был к этому времени?
Иван Эдуардович улыбнулся нежной красивой улыбкой превосходства.
– Степан Аристархович, буду до конца откровенным. Понимаю, что у вас своя методика работы с подчиненными, на мой взгляд, неверная. Заигрывание с сотрудниками, ложно понятый демократизм привели к анархии, недопустимой на производстве. Собственно, об этом я написал в докладной записке на имя директора института.
– Какой записке? Вы уже и записку написали?
– Не мог поступить иначе. План под угрозой.
– И о чем вы писали в докладной? Об опоздании?
– Не помню.
Я никак не мог сосредоточиться и уловить внутренний смысл разговора – в голове был какой-то гул, как в токарном цеху.
– А что все-таки с Катей? – спросил я в испуге.
Теперь улыбка Самсонова была откровенно торжествующей и с оттенком любопытства в мой адрес.
– Она позвонила и сообщила, что больна, это было пять дней назад. Надеюсь, у нее имеется больничный лист.
Тут по селектору меня вызвал Заборышев.
– Благодарю вас, Иван Эдуардович, спасибо!
Он пожал плечами и вернулся за свой стол. Я не смог сразу встать и с тоской глядел, как покачивается его широкая спина, как надежно и твердо ступает он по нашему старенькому коврику.
Павел Исаевич добродушно поздравил меня с выходом на службу, порасспрашивал о деревенской жизни. Я из вежливости пробормотал что-то положенное о чистом воздухе и целебных рассветах.
Заборышев:
– К двум часам готовься, Степан, пойдем к директору.
– Зачем?
– Объясняться будешь. Твой заместитель телегу накатал. Да ты ведь знаешь, поди?
– В общих чертах.
– Я тоже в общих.
Павел Исаевич произносил фразы бесстрастно, ничем не выдавая своего отношения к случившемуся. Это меня обидело, но настаивать на откровенности я не стал, хотя мог бы. Все-таки много лет мы знакомы, помнил Заборышева, еще когда у него печень не болела, и он был веселым и остроумным начальником, и на столе у него всегда были накиданы новые журналы. Он всегда спрашивал: а эту статью ты читал, а эту читал? Что было, то прошло.
Я был уже в дверях, когда Павел Исаевич сказал, надувшись:
– Погоди, Степан. Еще такое есть дельце. Что будем с Болотовой решать? Плохо очень ведь работает, не справляется… А у тебя, говорят, с ней… это…
– Кто говорит?
По лицу Заборышева, как мячик, прокатилась скука, взгляд погас. Суета, связанная с женщинами, была в его жизни позади. Неинтересно ему было размусоливать эту тему.
– Не знаю, кто и что вам доложил, – объяснил я, не дождавшись ответа. – Но думаю, что за такие сплетни надо языки отрывать.
– Это не я выдумал, – улыбнулся Павел Исаевич. – Какой ты раздражительный после отпуска!
Тут я и ляпнул:
– Может, мне заявление написать об уходе?
А он ответил:
– Ты бы привел себя в порядок, Степан Аристархович. Не каждый день у директора в гостях бываешь. Прими седуксен.
Седуксена у меня не было, и до обеда я просматривал бумаги, накопившиеся за две недели. Как всегда, в отчетах было много грамматических ошибок и странных оборотов. По стилистике я мог без труда определить, кто писал. Особенно люблю подшивать труды Владика. Он иной раз лично для меня вставлял в сугубо канцелярский текст поэтические перлы, очень смешные. Это была наша с ним маленькая тайна. Я много раз наедине втолковывал ему, что "заметки на полях" – лишняя работа машинистке, и если они попадут на глаза начальству, не миновать ему выговора. Он в ответ прикидывался идиотом.
– Антонов! – крикнул я.
Он приблизился, подобострастно выгибая шею.
– Что это такое "сноску № 41 см. выше-ниже"? Как это "выше-ниже"?
– Описался, – сказал Владик.
– Смотрите, Антонов, "выше-ниже". Ходите по краю.
– Родному? – устало сострил юный специалист.
Я отложил бумаги и спросил:
– Что с Болотовой? Можешь мне сказать без юродства?
– Она больна, Степан Аристархович. Что-то у нее с сердцем.
И опять, как недавно в деревне, я подумал о смерти. Подумал не о своей смерти, а о Катиной подумал, что Катя может умереть. "Если она умрет, как же мне тогда?"
К директору, Вадиму Григорьевичу Коростылеву, мы явились ровно к двум, и сразу его секретарша Танечка нас впустила.
У Вадима Григорьевича большой кабинет, и в нем много стульев с кожаными сиденьями и длинный стол для заседаний. Директор сидел далеко в углу за маленьким журнальным столиком и помахивал нам рукой, как гостям в ресторане.
– Давайте, – сказал он. – В темпе обсудим. У меня десять минут… обязан отреагировать… Точнее, мог бы спустить письмо в профком, но товарищ Самсонов некоторым образом мой протеже. Верно?
– Верно, – сказал Павел Исаевич.
Я ждал, когда директор пригласит нас сесть, но он не пригласил.
– Он что, как? – быстро спрашивал Вадим Григорьевич, снизу заглядывая на нас. – Дельный работник? Нет? Как он?
– Не успели разобраться, – ответил Павел Исаевич и опустился неловко на низенький стульчик.
– А ваше мнение?
– Был в отпуске.
– Ах да! Ну и что будем делать?
Тогда я тоже сел.
– А что делать?
– Записка там в столе, – показал директор пальцем на окно, – но помню. Там сказано, что вы… э-э…
– Степан Аристархович?
– …что вы, как это, заигрываете с подчиненными, развели что-то такое… – Директор показал руками круглый шар. – Короче, не справляетесь, Степан Аристархович. Дело страдает.
– Никоим образом, – возразил Павел Исаевич, делая вид, что озабочен.
Я заерзал на стуле, тоже как бы возражая и возмущаясь. Но разговор меня не слишком волновал – я его толком и не понимал, думая о Кате Болотовой. Что же с ней такое? Молодая, как это может быть – сердце, нервы? Зачем? Смерть ходит по земле, она и в этом кабинете, в печени Павла Исаевича, и там, где Катя. А мы беседуем о совершенно невинных вещах, как будто не существуют страдания, никому не больно и осталось решить только один вопрос – наладить отчетность.
– Новый товарищ не разобрался, поспешил, – продолжал Павел Исаевич. – Кроме того, не одобряю таких способов информации.
– Ну-ну! – поморщился директор. – Что же у вас, тишь да гладь – божья благодать?
– По-всякому бывает, – сказал Павел Исаевич. – Однако заметных срывов нет.
– И вы так считаете?
Я кивнул глубокомысленно.
– Вот что, товарищи… – Тоном директор подчеркнул, что это уже резолюция. – Срывов не бывает там, где их умеют предотвращать. Сигнал, на мой взгляд, серьезный, предметный. Не будем здесь рассматривать этическую сторону вопроса. В конце концов, письмо не анонимное, все по правилам. Давайте-ка вы соберите профсоюзное собрание, и на нем по-деловому разберемся… Дыма без огня не бывает!
– Бывает, – некстати вставил я.
Вадим Григорьевич пронзил меня зеленым током глаз. Как все-таки люди, занимающие посты, быстро привыкают к тому, что их нельзя перебивать!
– В чем разбираться? – неожиданно вступился Павел Исаевич. – Кляуза и есть кляуза. По каждой собрание не соберешь – не принято.
И тут директор повел себя, на мой взгляд, правильно и достойно. Он не обиделся на возражение, а сказал следующее:
– Такого рода собрания – о дисциплине, о внутренних отношениях – полезны сами по себе, особенно когда они имеют конкретный повод. Не настаиваю, но советую. Пусть люди выскажутся, – улыбнулся он, – заодно и галочку себе поставите – лишнее профсоюзное собрание.
– Хорошо, – кивнул Павел Исаевич.
И я сказал: "Хорошо".
Директор встал и пожал нам руки по рангу – сначала заведующему отделом, потом мне.
Мы с Павлом Исаевичем решили не откладывать и провести собрание в пятницу после работы. Я сначала предложил в обеденный перерыв, но подумали и решили, что после работы будет разумней.
4Поехал к Кате Болотовой. Купил в магазине коробку конфет за три рубля с копейками и поехал. А что такого? Она – больная, а я ее коллега и начальник, этика отношений. Я и Павла Исаевича навещал, когда он в больнице лежал. Правда, к нему не пускали в палату, мы переговорили по телевизору.
Катин адрес мне дали в отделе кадров. Она жила в новом микрорайоне. Туда пришлось добираться на метро с пересадкой на "Октябрьской" и еще десять минут на автобусе. Дверь открыла пожилая женщина в домашнем халате.
– Здравствуйте, – сказал я. – С работы вот товарищи прислали навестить. Екатерина Болотова здесь живет?
И тут из комнаты голос, резкий и любопытный:
– Мама, кто это? Пусть проходят, если ко мне.
Неловко начал я снимать ботинки, но женщина остановила: "Не надо, что вы, у нас не прибрано, а пол холодный. Ступайте так".
Катя лежала на тахте, укрытая клетчатым пледом. Перед ней телевизор, на экране Муслим Магомаев.
– Неужели это вы? – спросила Катя, не улыбаясь, не гримасничая, а очень серьезно и задумчиво. – Мама, выключи телевизор… Познакомься, это Степан Аристархович Фоняков, последний романтический герой индустриального века… А вот моя мама, простая труженица Надежда Семеновна. Пожмите друг другу руки, Степан Аристархович.
Мне дали стул, поставили его рядом с Катиным изголовьем, рукой можно было дотронуться до ее лба. Тоненько повизгивал за стеной радиозвук. В комнате было прохладно и пахло резко духами, ковром и валерьянкой. Хотел я что-нибудь сказать – и не мог. Более того, не было сил пошевелиться. Какой-то таинственный вызов прятался в неподвижном рисунке ее бровей. "Никогда такая женщина не может быть со мной", – подумал я. Что-то вспоминал про себя, жалобные слова проносились в моем воспаленном мозгу, но теперь, когда пишу, не помню какие. Так бывает в ночном кошмаре, когда хочешь проснуться, но не получается, когда знаешь, что стоит пошевелить хоть одним пальцем – и сразу вернешься в реальный мир, только пальцы неподвижны и горло немо, только холодная испарина каплями стекает с висков, но и она нереальна.
– Мама, – глухо и недобро произнесла Катя, следя за мной шальными рысьими глазами, догадываясь, видимо, как я грохнусь сию минуту со стула на пол, жадно предвкушая свое торжество. – Мама, пойди на кухню, поставь чайник. Мы будем чай пить.
Старая женщина прошелестела за спиной, как дуновение сквозняка, и в комнате все замерло.
– Иди сюда быстрей, – шепнула Катя.
Я пододвинулся ближе, не соображая, не веря. Катя изогнулась, руки ее взлетели и покрыли мои плечи. С тяжелым негромким стоном она приникла ко мне, повисла, надавила на затылок, и тепло ее сухого рта полилось в меня, как густой ручей.
– Милый, смешной старичок, – пробормотала Катя, – зачем же ты плачешь?
– Я не плачу, – сказал я, – это от ветра.
– Какого ветра? – удивилась она, ошалело оглядываясь.
Я выпрямился и сел как истукан. Потом послюнявил палец и поднял его по-матросски вверх, ловя течение стихий. Она сдержалась, но наконец выражение удивления на ее лице сменилось чудной улыбкой соблазна, зубы забелели, и она захохотала, и я подхихикнул в лад. Долго мы смеялись, пока не вернулась Надежда Семеновна, неся фарфоровый заварной чайник и чашки.
Дальше я не буду описывать, как мы пили чай, как меня выпроваживали в коридор, чтобы Катя встала и оделась, как я увидел ее, укутанную в серую шаль, – это не надо. Никому это не надо…
Катя рассказала между прочим про Самсонова. Вот ее рассказ. Некоторые Катины фразы точные, а кое-что восстанавливаю по смыслу.
– Ну, пусть я плохая и глупая (это точная фраза), но таких, как он, людей еще не встречала. Главное для него – сохранить дистанцию с подчиненными. И он никого не обижает, нет, ни в коем случае. Он боится обидеть, чтобы не получить щелчок сдачи. Не дай бог! Вообще, не знаю, за что я его возненавидела. Но слушать его не могу, мне тошно и скучно. Ну, пусть я дрянь – не умею работать. Пусть не умна… А он умеет?
Степан, он беспомощен, как дитя. И он это знает, и все вокруг. Он боится поставить запятую сам, обязательно подзовет кого-нибудь и спросит: "Тут нужна запятая?" – "Нужна". – "Тогда поставьте". Он выискивает ошибки.
– Правильно делает, – обрадовался я.
– Ты тоже глупый, Степан. Он ищет ошибки не для того, чтобы их исправить, а для превосходства. Он выше и лучше других, раз видит ошибки, а сам их не делает. Не понимаешь? Но в этом его сущность. Он ищет ошибки: в бумагах, в поступках, в отношениях, в одежде. И когда находит, спокойно и доброжелательно улыбается. И говорит: "Это ошибка?" – "Ошибка". – "Тогда исправьте".
– Что ж тут плохого? Кому-то надо это делать.
– Ты еще увидишь, – сказала Катя. – Ты еще увидишь.
От ее злого "ты" я сонно щурился, как в детстве, когда перепадал кусок сладкого.
– Давай поженимся, – сказал я.
– Хорошо, – ответила она. – Давай.
И дальше я заблудился в сумрачном лесу. Хорошо, что тут присутствовала Надежда Семеновна, которая указала выход из квартиры. Ночью я прошагал пешком, напевая романсы, через всю Москву.
5Сказок не бывает, и я не верил, что сон долго продлится. Знал, что надо трезво оценить происходящее, а то как бы не слишком холодна оказалась вода, в которую окунешься спросонья.
И все-таки все дни до собрания я был как в бреду. Юношеские грезы баюкали меня. Катин поцелуй и ее обещание казались верным залогом скорого счастья.
Почему бы и нет? Любовь ровесников не ищет. Разве не бывает чудес? Сказок не бывает, а чудес полно. Вся жизнь наша – чудо.
Катя болела и не выходила на работу, а я думал только о ней. И не то чтобы думал. Она была за столом, рядом с Владиком, ходила по комнате, ее глаза сияли, она ошибалась в отчетах, а я исправлял, и мы оба смеялись до слез оттого, что сумели всех провести, всех этих умниц обманули и водили за нос. Даже Самсонов со своим удивительным чутьем на ошибку растерялся.
Как я всех любил в эти два дня до пятницы! С Иваном Эдуардовичем пошутил – сказал ему, что у него вся спина белая, а Владику, Дарье Тимофеевне, Демидову и машинистке Наденьке выписал премии, по двадцати пяти рублей на человека. Боялся, что скоро у меня отнимут возможность предлагать премии, и поспешил с этим делом. Заборышев подмахнул документы, не читая, только поглядел на меня с каким-то жалостливым подозрением и вопросом.
– Смешно, – сказал я Заборышеву. – Всего-то нас одиннадцать человек, а такие страсти накалились.
– Вот завтра и выступишь, – нервно буркнул Павел Исаевич. – Это у тебя одиннадцать, а у меня – сорок.
Работал, приходил домой, ужинал, смотрел телевизор, читал все как обычно. Но, казалось, жил такой безумной и яркой жизнью, какой не жил никогда и уж не мечтал изведать такую жизнь. "Эх, быть бы мне летчиком, – воображал, лежа в постели с грелкой. – Тогда бы другое дело. Летчику на земле нет преград. Их женщины боготворят. А еще лучше – быть бы мне капитаном подводной лодки".
Дико звучал в ночи мой смех от этих легких, отрывочных детских мыслей. Отбрасывал грелку и босиком шлепал на кухню, пил из холодильника ледяное молоко. Полетели кувырком мои годы, и стало мне двадцать лет. Уютно попискивали в душе котята-сомнения. Лето кончилось. В открытую форточку влетали синие толстые комары и засыпали в тепле на стенках. В четверг вечером загудели батареи парового отопления. Присел возле них на корточки и долго прислушивался, как булькала, пенилась, не могла вырваться, дышала живая вода…
6Обыкновенно собрания мы проводили в секторе Телегина – это была самая большая комната в отделе, в нее свободно вмещалось человек тридцать. Окна распахнули, и самые заядлые курильщики сразу задымили, усевшись поближе к воле. Повестки никто толком не знал, потому что на доске объявлений просто вывесили число и время собрания и что «явка обязательна». Но слухи о каком-то необыкновенном персональном деле все же распространились, я ловил на себе любопытные взгляды, и многие кивали мне по-особому дружелюбно. Выбрал местечко с краю, чтобы не лезть по ногам, если придется выходить, хотя выступать не собирался. Пусть их, думал, делают и говорят, что хотят. Меня мало касается. А стыд переживу, не мальчик. Катя первый день была на службе и на собрание осталась, – бледная, задумчивая, она заняла место рядом с Дарьей Тимофеевной в первом ряду.
Настроение у меня было паршивое и под ложечкой сосало: в это время обычно пил дома чай с сухариками. Я твердо намеревался проводить Катю домой и по дороге поставить все точки над "і". Состояние некоей раздвоенности не проходило. Во мне было два человека: один – юноша, готовый к безумствам, крепкий, как новый футбольный мяч, с легкой пустой головой, а второй – усталый экономист с двадцатилетним стажем безупречной работы, начальник, можно сказать – ветеран труда (с натяжкой), которого собирались вывести на чистую воду более молодые и прыткие товарищи. Тому, первому, – была бы только ночка потемней, а этому, второму, – грелка потеплей. Был и третий, усталый сторонний наблюдатель, ехидный и желчный, трезво понимающий цену делам и словам. Тот, третий, ползучий змей, был уверен, что никогда не выиграет скачку запоздалый юнец на воображаемом сером в яблоках скакуне. Не выиграл прежде, проиграет и теперь. Азарта ему не хватает и еще много чего такого, что дается только природой. Но зато тот, первый, был тщеславен, неудовлетворен и горд, и я всегда был рад снова с ним встретиться.
Собрание по всем правилам открыл наш председатель профкома Женя Сигачев, тридцатилетний лаборант. Но на повестке и он запнулся – сказал, что есть одно заявление, интересное заявление (здесь он достал из папки бумагу Самсонова), и есть мнение обсудить это заявление коллективно.
– Зачти! – крикнули с места.
Но Сигачев не знал, надо ли читать.
– Оно длинное, – сказал он. – Может быть, товарищ Самсонов сам расскажет, о чем он писал в дирекцию.
Наступила тишина. Тогда встал Иван Эдуардович и стал пробираться к президиуму. Увидел опять, какая у него надежная и широкая спина, и искренне ему посочувствовал: все-таки он был сейчас в более трудном положении, чем я или кто другой. Чего он добивался? Какие страсти в нем бушевали? Что хотел искоренить, кого возвеличить? Все это предстояло ему объяснить человеческими словами малознакомым людям, а это трудно. Потруднее даже, чем в магазине растолковать продавщице, что ты хочешь постной ветчины. Сейчас он был мне необыкновенно безразличен, но это из-за Кати, а вообще я всегда уважал людей, которым есть что доказывать и которые не боятся доказывать. Вот Самсонов написал докладную, а теперь шел на трибуну, вроде на общественный суд, хотя суд он как раз мне устраивал, но я мог и уклониться, схитрить, мало ли что мог, а он не мог, у него такого выхода не было. Так мне казалось, пока Иван Эдуардович тяжело ступал по проходу, поворачивался лицом, доставал из кармана какие-то бумажки, пока приглаживал набок седоватые прядки, а заодно и уши.
Потом он сказал громко и деловито:
– Я написал на имя директора, что мы плохо работаем, и попытался объяснить почему. Я указал конкретных виновников вялой, незаинтересованной работы. Первое, что сделал, придя из отпуска, Степан Аристархович Фоняков, – выписал именно этим работникам денежные премии! Что это? Почему? За что?
Как опытный оратор, в эффектном месте Иван Эдуардович сделал паузу и простер руку вперед. Фигура его выражала не негодование, не обиду – недоумение и упрек. Побледнев, я опустил глаза. Зал завороженно молчал. Давненько тут не слыхали прямых речей!
– Видимо, товарищ Фоняков хотел таким способом уронить меня в глазах коллектива, – задушевно и мягко продолжал Иван Эдуардович. – Думаю, что это ему отчасти удалось. Я здесь человек новый, и на сегодняшний день в нашей группе со мной еле-еле здороваются. Но не в этом суть – что такое ноша самолюбия перед лицом общего дела, товарищи! Ерунда.
Теперь расскажу, о чем написал в докладной записке.
Однако Иван Эдуардович не стал рассказывать про докладную – до сих пор, честно говоря, мне неизвестно, что там было написано. Да и какое мне дело! Еще битых полчаса Самсонов делился мыслями о современном производстве, которое он понимал "как отлаженный организм с идеально подогнанными звеньями", через фразу вспоминал о "семимильных шагах прогресса".
Пока он говорил свои пышные фразы, я успокоился, а к концу речи опять стало его жалко. Кто из нас не видел демагогов с претензией? Это был один из них, причем не самый умный. Умный демагог всегда учитывает состав и состояние аудитории. Самсонов был из тех, кто и перед женой, и на страшном суде талдычет одно и то же одинаковым тоном.
Сигачев спросил:
– Вопросы к выступающему?
С места крикнули:
– Пусть расскажет автобиографию.
Самсонов зарделся – и видно было, что готов рассказать.
Собрание заваливалось, переходило в фарс, и Сигачев, чтобы соблюсти декорум, сказал:
– В письме названы конкретные лица. Может быть, они выступят?
Молчание. В глубине души я надеялся, что кто-нибудь встанет и защитит меня, хотя бы косвенно. Оставался висеть в воздухе главный вопрос: завалил я работу или нет. Но почему это должно было решиться на общем собрании? Такие вопросы, понятное дело, заранее готовит специальная комиссия.
– Никто не хочет выступить? – повторил Сигачев, взглянув на часы. – А что это за премии, про которые говорил здесь товарищ Самсонов? Это законные премии?
Иван Эдуардович, уже успевший вернуться на место, встал, кашлянул, покрутил головой, как шляпкой гриба, басом возвестил: "Незаконные!" – и снова сел.
Солдатское бешенство внезапно скрутило меня. Не сознавая зачем, почему, твердя про себя: "Ах, незаконные!", я уже ступал по проходу к столу президиума.
"Голыми руками взять хочет, – бормотал я, откуда-то к случаю припомнив воровской жаргон, – дело шьет… Сейчас скажу, – твердил я. – Если надо, сейчас отвечу про премии".
Но стоило мне увидеть перед собой зал, и горячка моя тут же улеглась. Столько открылось знакомых улыбок, привычных и хорошо известных людей, которые смотрели на меня весело и с ожиданием. О каких, к черту, премиях мог им доложить? Это было стыдно и мелко. Да и вообще – к чему мне было переться на сцену, подыгрывая Самсонову? К чему все это? Слова застряли у меня в горле, не шли с языка.
Я различил Катю Болотову, сидевшую в первом ряду, – со странным и чудным выражением она смотрела в сторону, за окно, туда, где началась осень.
– Товарищ Самсонов прав, – сказал я потерянным голосом, как бы извиняясь перед кем-то большим и значительным, кого не было в комнате. – Последнее время я работал вяло и неинтересно, потому что устал, издергался, размечтался. Наша работа – это наша жизнь, и в ней бывают усталость и спады. Но они проходят, все проходит. Надо только обождать немного.
В комнате наступила такая тишина, что я пошатнулся. Было так, как будто свалился в гремучую воду, а теперь или плыть, или утонуть.
Катя отвернулась от окна и опустила лицо, кожа ее покрылась алыми пятнами – подойти бы к ней и погладить по стыдящейся щеке.
– Вся остальная группа работает хорошо – это можно доказать цифрами и фактами. К сожалению, Иван Эдуардович ни слова не сказал по существу, – может быть, действительно методика наших подсчетов устарела, слишком статична, иллюстративна и малоконструктивна. Это другое дело. Я над этим тоже думал. Мы часто не делаем должных выводов из статистических данных, ждем, что их сделают другие. А других нету. Никто нас не страхует. Тут есть много темных мест. Давайте поручим товарищу Самсонову и еще кому-нибудь подготовить материал. Вот, собственно, все.
Вопросов ко мне не было, и никто больше не выступил. В заключение Сигачев от имени профкома сказал, что собрания такого рода полезны и предложение Фонякова он лично поддерживает. Еще он сказал, обращаясь к Самсонову, что следует писать докладные более четко и коротко, а то не у всякого директора хватит времени их читать. Товарищи слегка посмеялись, и вскоре все разошлись. Большинство, я уверен, так и не поняли, зачем их собирали. Со мной простились холодно, особенно презрительно кивнула Дарья Тимофеевна. Я ее понимал. Но она могла и сама выступить. Довольный и еле скрывающий свечение души, Иван Эдуардович пожал крепко мне руку и доверчиво сообщил:
– Считаю, вы вели себя правильно. Ошибки необходимо исправлять и признавать.
Ответил ему:
– Эх, Ваня, у вас не две головы, а одна. Оторвут, с чем останетесь?
Он не понял, крякнул и убежал.








