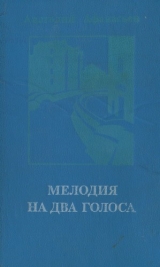
Текст книги "Мелодия на два голоса [сборник]"
Автор книги: Анатолий Афанасьев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 24 страниц)
– Я так и знал, что ты никуда не денешься, охламон! Давай завтра с утра причаливай, на месте потолкуем.
Сергей Сергеевич отправился в ванную и долго бултыхался в горячей воде. В квартире и в доме стояла сонная тишь. Ночь. Все давно угомонились. Он, стараясь не шуметь, аккуратно улегся на свою половину в их просторной супружеской кровати. Последние месяцы он спал в гостиной на кушетке. Нина ворохнулась, кашлянула. Не спала. Сергей протянул руку и бережно дотронулся до ее плеча.
– Как же мы теперь, Сереженька? – шепнула она.
– Жить будем, – ответил он.
1980
Пробуждение
Это такая история, что не всякий поймет. Это история моей любви. То есть, может, и не любви, а наоборот. Сам толком не понимаю до сих пор. Хочу разобраться. Когда рассказываю друзьям, они за голову хватаются. Рассказывал Саше и Кудряшу, они оба за голову схватились. Кудряш проворчал, что я придурок, а Саня – он начитанный, в институт собирается поступать – заметил, что я озабоченный. Я на них обиделся, потопал домой. Надо же – озабоченный придурок! И это мне друзья сказали.
Ну ладно. Мне двадцать два года, вкалываю настройщиком аппаратуры. Между прочим, на хорошем счету, но это к делу впрямую не относится. Я думаю вот что. Душу нашу никто не может понять: ни друзья, ни мать с отцом. Она для себя самого загадка, и боязно подчас оставаться с ней наедине. Иной раз в собственную душу заглянуть – точно в бездну сорваться. Я, правда, разок заглянул, еле цел остался, но одиноко мне теперь жить.
Мать у меня малахольная какая-то. Сказал ей: будет мне с вами горе мыкать, завербуюсь куда-нибудь годика на два. Она в слезы. Женщине сорок восемь лет, а чуть какое потрясение – ревет белугой. Там и отец, гляжу, с кулаками подкрался.
– Ты эти домостроевские замашки брось, батя, – я ему миролюбиво сказал.
Он в амбицию: почто мать тиранишь, сопляк, куда ты завербуешься, кому ты нужен такой – в общем, выложил весь свой мещанский набор.
Ответил ему:
– От тоски с вами жить – лучше завербуюсь! За два года буду с машиной.
У нас в семье обстановка неспокойная. Мать ревет, батя шебаршится, норовит огреть своими кувалдами. У меня, правда, своя комната. Я в ней запираюсь и сижу часами. Потом выйду на кухню чайку попить перед сном. Тут уже другой разговор.
– Тебе Сашка два раза звонил, – мать докладывает.
– Пусть застрелится!
Отец в газету носом уткнулся – то ли читает, то ли спит. Нет, не спит.
– Из-за бабы сопли распустил. Позорник!
– Молодым ты не был, отец.
– Я не был? Ты у нее спроси. Скажи ему, Катя, сопляку.
– Ое-ей!
– Слушай! Ты мать больше слушай, враз поумнеешь!
Смотреть на них – смех и горе. Они – как дети. На них долго глядеть – на луну завербуешься. Очень их люблю. Они беззащитные. Я им опора.
В жизни отца есть какая-то тайна, которая мне неведома. Его ведь лет пятнадцать назад из инженеров турнули, теперь слесарит полегоньку на том же заводе, где и я.
Что он такое мог натворить – ума не приложу. Разве что угробил по оплошности какой-нибудь дорогостоящий прибор. Или по безалаберности втянули его в какую-нибудь махинацию. Втянуть отца куда угодно можно – только позови. Самый отдых для него – грозить нам с матерью. На работе он робкий и услужливый, прошлое его давит тяжким грузом, а дома, в кругу близких и родных, – раскрепощается.
Бывает, часа по два подряд грозит. Он большой выдумщик. Каждый раз у него новые угрозы. Последний раз грозил меня рыбам скормить в океане, но сказал, что не сделает этого, потому что рыб жалко. Океан и без того нефтью и отходами испоганили, дельфинам и другим разумным тварям дышать нечем. Мать он постоянно пугает, что заведет новую семью на стороне. Один раз даже фотографию какой-то толстухи показал: вроде бы это новая кандидатура. Мать делает вид, будто от угроз впадает в панику. Чтобы сделать ему приятное. Уж она-то не хуже меня знает, что отец – самое безобидное создание на свете. Но психика его не в порядке. Поэтому он и к инженерной деятельности не вернулся. А мать – что мать! Всю жизнь при нем, несуразном, проколготилась, всю жизнь его спасала, оттого и постарела прежде времени. У нее почки болят и ревматизм. Она на инвалидности. Отец называет ее симулянткой и грозит вскоре вывести на чистую воду при всем трудовом народе. Так и живем. Они, если все тихо, и мы сидим у телека, смотрят не на экран, а на меня. Я морщусь, а они пялятся, и глаза у обоих чистые и прозрачные, точно молятся. Куда я от них завербуюсь?
Хотел бы уехать из Москвы, сбежать, исчезнуть, но ведь верно кто-то сказал: от себя не сбежишь.
Люда Ступкова работала медсестрой в поликлинике. Она сейчас там не работает, а когда я с ней познакомился, она там работала. Сейчас она нянечка в детском саду. Впрочем, не знаю. Может, и оттуда слиняла. Пока мы с ней крутились, она три места поменяла – шило на мыло.
Мы с ней познакомились на просмотре нового зарубежного фильма "Чудовище". С Бельмондо в главной роли. У нас с Сашкой билетов не было, а у нее с подругой были. Это мы знаем, как у девушек бывают лишние билеты. Это уж такие особенные девушки с лишними билетами. Они стоят в сторонке и кому попало лишние билеты не продадут. Нам с Сашкой сразу продали. Ничего удивительного в этом нет. Мы с Сашкой парни видные, тертые калачи насчет не промахнуться. На мне в тот раз голландский плащ был с капюшоном, а Саня вдобавок малость поддатый. Он, если в меру примет, то становится неудержимый, как танк. В паре мы с ним особенно хорошо смотримся: Саня говорун, шутник, рубаха-парень, и я при нем в роли застенчивого, но себе на уме молчуна, который в случае чего не растеряется в сложных обстоятельствах жизни. Всю молодость с ним бок о бок. Приключений – тыщи. И все увлекательные. Однажды даже… э, что теперь толку вспоминать…
Саня обратился к девушкам с вопросом:
– Вы не знаете, девушки, где тут поблизости пруд?
– Нет.
– Жаль! Мой друг обязательно решил утопиться, если мы не попадем на этот фильм.
Девушки переглянулись с пониманием, и та, которая позже оказалась Ниной, ответила:
– Пусть не спешит ваш друг. Вот у нас случайно два лишних билета. Подруги не пришли.
Саня сделал такое лицо, точно его ударили током.
– О, это чудо! Будь благословенны ваши подруги, как говорили в Древней Греции, а нынче говорят в Мытищах.
Мы повели новых знакомых в буфет и угостили их пирожными. Мне Люда не очень понравилась, Нина – больше. Мне не понравилось, как Люда ела пирожное, а потом вытирала рот платком. Она так это делала, как будто была одна. Достала зеркальце и аккуратно подправила разъехавшуюся помаду. Делала вид, что ей все эти пирожные и все эти мальчики до фени. Я знаю эту повадку. Такие девушки, которым "все до фени", ой как точно взвешивают каждый свой шаг. Бог им судья. Нина совсем другая – простушка-хохотушка, без претензий и тайн. Сразу начала точно невзначай на руке виснуть то у меня, то у Сани. И что ни скажи, все ей в радость. Сане она тоже приглянулась, и поэтому в зале я оказался рядом с Людой, с ней рядом Нина, а уж там и Саня, неунывающий и бодрый. Ну, делать нечего, стали смотреть фильм. Я уж, как водится, ручку Людину взял, но так это, понарошке, лишь бы не обидеть. Все же благодаря им в кино попали. Люда на мои пожатия не отвечает вовсе, и рука у нее расслабленная и мягкая. Меня интерес разобрал. Раз! – и руку ей на колено уронил. Она мою руку сняла, отодвинулась, сказала:
– Не мешай, пожалуйста, кино смотреть!
Вот первое, что меня в ней удивило, как она кино смотрела. Ничто вокруг ее не задевало. Ни мои заигрывания, ни шум – сидит, носик вперед, вытянулась и с экрана глаз не сводит. И ни разу, кажется, не засмеялась. Хотя я, в том месте, где Бельмондо в больнице лежит, от смеха аж закашлялся. Наверное, чувства юмора нет. Вообще-то у женщин чувство юмора редкое явление, как правило, они под других подстраиваются. Все хохочут – и женщина хохочет, иная так приноровится, что первая начинает хохотать. У меня была одна знакомая… ну, ладно.
Кончилось кино, разбились мы на пары, гуляем. Сашка с Ниной в обнимку, мы с Людой чинно следом. Я молчу, и она молчит. Долго молчали. Сашка с Ниной, не попрощавшись, скрылись. Я сказал, зевнув для форсу:
– Ну что, пора подаваться до дому до хаты. Тебя проводить?
Думал: я ей не глянулся и она мне, чего тут тары-бары разводить, но из вежливости предложил проводить.
– Как хочешь! – сказала она. Пришлось тащиться на край света. Если бы я был провидцем, то, конечно, вскочил бы в первое попавшееся такси и до самого своего дома ехал зажмурясь. Но я поплелся ее провожать. Часа полтора провожал. Разговорились кое-как.
– Вечер-то какой! – сказал я спустя вечность. – Скоро непременно зиме быть.
– Да, – ответила она. – Подмораживает.
Еще полчаса.
– Ты где живешь, Люда? Под Москвой?
– Уже почти пришли.
– Тогда ладно.
Через сколько-то времени пришли к двухэтажному дому в неизвестном переулке. Это тогда он мне был неизвестный, а теперь я его с закрытыми глазами найду. В этом переулке люди не живут. Во всем доме три окна горят. И один фонарь на всю округу.
Я помялся у подъезда, поглядел на нее, на Люду. Я почти ни разу, пока мы гуляли, на нее не посмотрел внимательно, а тут в лицо заглянул, чтобы попрощаться. И увидел, что лицо ее светится голубоватым мерцанием. Увидел, что она хороша собой, и молода, и печальна. Тут меня черт и толкнул под локоть. Или привычка сработала. Я ее к себе потянул и чмокнул в щеку. Она меня взяла за руку, как-то так по-деловому ввела в подъезд, подтолкнула к стене и начала целоваться. Я, честно скажу, оробел. То есть хуже того – смалодушничал. Как она целовалась – этого не описать. В тот момент я ничего не чувствовал, кроме неловкости. Она меня так целовала, как кино смотрела. Все остальное для нее исчезло. Кто-то дверью наверху хлопнул, кто-то, кажется, в подъезд входил, я пытался отстраниться – куда там. Пока ей самой не надоело, я был как в ловушке – не станешь же силой отпихиваться. Постепенно и сам начал распаляться, но она вдруг задохнулась и от меня убежала. Сказала самым обыкновенным голосом:
– Ну все. Пока.
– Сильна ты, Людмила!
– Что?
– Как что? Чуть старика не задушила в девичьих объятиях.
Она коротко хохотнула, протянула ладошку и – скок-скок по ступенькам. На первом этаже в двери поковырялась ключом, пропала.
Я вышел на улицу и увидел – ночь темна. Пошел куда глаза глядят – до первого прохожего. Узнал, где метро. Домой приехал около двух.
На следующий день, как обычно, делились впечатлениями с Сашкой. В курилке. И Кудряш тут же. Кудряш женатый, ему особенно интересно. Сашка сказал, что назначил Нине на сегодня свидание, но не уверен, что пойдет: уж больно глупа.
– А у тебя как? – он спросил.
– Никак. Я и телефон не взял.
– Нинка, между прочим, рассказывала про твою, – сказал Сашка.
– Что?
– Чушь всякую. Про какую-то тайну молола. Будто твоя не совсем в порядке после личной драмы. Что они могут сказать! Намекают. Мол, мы такие – ого-го!
Ну и все. Саня на свидание все же сходил. И потом мне сообщил, что Люда мной интересовалась. А как интересовалась? Сказала, что я не по годам застенчивый и тем привлекателен для девушек. Во мне, когда я это выслушал, самолюбие взыграло. И не только самолюбие. Она мне ночью приснилась. Я попросил Саню узнать у его подруги Людин телефончик. Он узнал. Через три дня я ей позвонил. Чего-то даже боялся, когда набирал ее номер. Со второго раза набрал, первый раз диск соскользнул. Люда сняла трубку. Странно, но я ее голос узнал по телефону.
– Добрый день! Это Миша, помните?.
– A-а! Помню. Здравствуй!
В ее голосе равнодушия на сто человек.
– Э-э… Может быть, повидаемся? В смысле, куда-нибудь сходим, развеемся?
– Не знаю… а куда?
– Может, в кино?
– В кино мы уже были.
– Можно просто погулять.
– А у тебя деньги есть?
– Сколько?
– Рублей пятнадцать.
– Могу наскрести.
– Тогда лучше пойдем в ресторан.
Мне понравилось, что она не стесняется. Это упрощало дело. Но она не пришла. Мы договорились в восемь встретиться на Пушкинской, но она не пришла. Я там действительно, как озабоченный придурок, проторчал около часа, но она так и не явилась. Меня такой поворот дел не устраивал, тем более что я у стариков перехватил двадцатку. Позвонил Сашке, чтобы его позвать. Сашки дома не было. А ведь сказал, что весь вечер будет дома. Будет хоккей смотреть. Я затесался в какую-то забегаловку, посидел малость, а потом нарвался там на каких-то худосочных мальцов. Они мне не понравились: в туалете вели себя безобразно. Я сделал им корректное замечание. Я им сказал: "Вытряхивайтесь отсюда, мальцы, пока я вас не вытряхнул". Ну, слово за слово, а худосочные оказались калеными орешками. Они меня здорово отвалтузили. Когда посмотрел в зеркало, то не сразу себя признал. И официант меня тоже, видно, не сразу признал. Он на меня долго смотрел с удивлением, а потом выписал странный счет. В нем было на пять рублей больше того, что должно было быть, по моим подсчетам. Я ему сказал: "Ты, товарищ, давай правильный счет, а не фальшивку". И вдруг он как начал верещать что-то про милицию, про вытрезвитель. Он напрасно верещал, потому что я сам быстро оценил положение. Сказал: "Подавись, ворюга, рабочими деньгами, но мы еще с тобой повидаемся в другое время и в другом месте".
Из автомата позвонил Сашке, но тот еще где-то шлялся. Наскреб Людин номер. Она была дома.
– Кто же так поступает, мадам? Знаешь кто?
– Я не смогла прийти.
– Почему?
– У меня оказались неотложные дела.
Я немного подумал без всяких мыслей. В будке было жарко, и туман в моей голове сгустился.
– Меня, Людмила, по твоей милости бандиты изуродовали и официант ограбил. Я теперь нищий и убогий.
– Я не виновата.
У меня не было на нее злости. Это вот удивительно. Вообще-то я вспыльчивый. Но к девушкам у меня снисхождение. Я их не считаю совсем за людей. Они скорее птицы. Летать умеют, а считают не больше чем до ста.
– Хорошо, – сказал я. – Это дело прошлое. А сейчас давай приезжай. Я тебя буду ждать на том же месте и в тот же час. У памятника Пушкину.
Я ведь это просто так сказал, чтобы потрепаться. Ни одна дура не приняла бы мои слова всерьез. Дура бы не приняла, а Людмила приняла. Может быть, она была сверхдура. Это тогда я так подумал. Теперь знаю, кто она… Она человек возвышенной души и легковерного сердца. И если бы… да ладно, по порядку. Она спросила, смогу ли я подождать полчаса. А что такое полчаса для избитого и пьяного человека. Все равно, что мгновение или вечность. У меня не было времени. Я жил в пространстве в тот вечер. А время исчезло. Сказал, что смогу ждать очень долго. Хоть тыщу лет.
И вот тут случилась чрезвычайность. Постоял около будки, покурил и… обо всем забыл. Ну, то есть, начисто все вылетело из головы, что касается Люды. Я помню, о чем думал, стоя около будки, а потом сидя на скамейке неподалеку. Я думал о том, как все нескладно выходит. За что, думал я, исколошматили меня шальные хлопцы? Ведь я им зла не делал. И официанту не делал ничего плохого, а он взял и обжулил. Как быстро и без толку, думал, прошли мои лучшие годы. И что впереди? Пусто. До края рукой подать. Прокантуюсь таким же макаром еще каких-нибудь тридцать – сорок лет – и адью. Поминай как звали. А что оставлю? Дома, книги, детей? Кто, собственно, меня помянет? Еще я думал о своих неустроенных, беззащитных родителях и, думая о них, заплакал. Вытирал слезы ладонью, и на ней оставались грязно-серые полосы. Потом сел в такси и поехал к Сашке. Он был дома. Мне не удивился, сказал:
– Ты, Миша, пойди сразу умойся, а то мать выйдет в кухню – может перепугаться.
Я умылся, причесался и стал как новенький. Сашка зажарил яичницу на большой сковородке, и мы славно посидели.
Сашка принес жбан домашней наливки. Сашка вспомнил, что наливка приготовлена сеструхе на свадьбу. Мы долго жалели его сеструху Веру, которая собиралась замуж на четвертом десятке. А жениху было за пятьдесят, Мы их обоих одинаково жалели, но сеструху больше. Жениха мы тоже жалели. Он третий раз женился. Куча детей, но очень одинокий человек. Мы с Сашкой как-то хотели скинуть его с лестницы. Нам показалось, что он Вере не пара, занудливый и настырный. А она красивая и покладистая. Но невезучая. Или, может, слишком разборчивая. У нее не поймешь. Она скрытная… Так вот, когда мы хотели спустить жениха с лестницы по причине его несовместимости с невестой, он нам открыл свою тайну. С целью самосохранения. Рассказал про свою жизнь. Оказывается, в двух первых браках он очень страдал. Первая жена сильно погуливала, причем делала это на виду у всей общественности. "Словно хотела мне отомстить за что-то. А за что?" Вторая жена хотя и не погуливала, зато дралась, швырялась предметами и однажды пробила мужу голову деревянной чуркой. "А за что?" Когда мы выслушали исповедь Вериного жениха, особенно убедительную потому, что произносилась она перед лестничным пролетом, то поняли – действительно не за что. И мы протянули жениху руку дружбы. Сашка только спросил, отчего он такой занудливый и настырный. Лезет во все дырки. И даже интересуется, сколько у Веры пар обуви. На это жених ответил, что он сам не рад своей привычке лезть во все дырки и надеется с течением времени, в новых условиях жизни, от нее избавиться. Бросают же люди курить.
Короче, мы почти до утра просидели с Сашкой на кухне и жалели всех подряд. Себя тоже не забыли. Нам ведь радоваться, в общем-то, было нечему. Особенно мне, побитому и оскорбленному. Проспали часа полтора на Сашкиной кровати и еле доползли до работы. По дороге я, кстати, вспомнил о последнем разговоре с Людмилой. Было такое ощущение, что этот нереальный разговор случился сто тысяч лет назад.
Работать было трудно в тот день, и, как на грех, работа все шла тонкая, ювелирная. Кудряш, который вечно пробивается в передовики производства, смотрел на нас с презрением. Он женатый – ему легче. Сказал нам в курилке:
– Догуляетесь вы, хлопцы. Попомните мои слова – догуляетесь до ручки. Будет вам скоро крышка.
– Алкоголизм излечим! – неуверенно возразил ему Сашка.
И вот что дальше произошло. Кончилась кое-как смена, и мы, точно вареные раки, выползли на свет божий. За проходной распрощались. Я шел и думал, как же там мои бедные родители, и клял себя на все корки. Но не успел проклясть до конца, потому что наткнулся на Люду. Она стояла на углу, возле магазина "Ткани". На ней был светлый плащ и на голове косынка. Кого-то ждала. Она ждала меня.
– Здравствуй, Людмила! – сказал я без удивления, но и без радости. Уж очень не по-хорошему светились ее глаза. Вместо ответа она широко и неловко размахнулась и влепила мне пощечину. Я не люблю получать пощечины. Если бы не мое сонное состояние, успел бы отстраниться. Кругом шли люди, и среди них, возможно, товарищи по работе. Может быть, и Кудряш шел мимо. Я вытер щеку рукой, улыбнулся девушке и пошел себе потихоньку дальше. Не спросил, за что ударяла. Это было понятно. Стоило только из-за этого переться в такую даль и подстерегать у проходной? Но это дело вкуса. Я пошел от нее прочь, потому что не выношу баламутных женщин. Не принимаю. Они много на себя берут. Они думают, что у них есть право на суд и расправу. Это заблуждение. Такой власти нет ни у кого. Зато у всех есть право обыкновенного человеческого понимания. Спроси – и тебе ответят. Погляди повнимательнее, поговори с человеком – вдруг окажется, что кругом не так уж много виноватых. Больше тех, кто попал в круговорот обстоятельств или поддался слабости характера.
Я шел не оглядываясь, но Люда меня догнала. От бега она раскраснелась. Она была действительно симпатичной девушкой. Но дело не в этом. Симпатичных мы видали и раньше. В ней было что-то такое – от леса, не от города. Она была нездешней.
– Я приехала ночью, через весь город, одна. Разве это не подло? Разве так поступают? Ты сказал, что у тебя беда, и я поехала. Я тебе поверила! Разве так делают? – она говорила с такой обидой и таким звенящим от непонятного мне напряжения голосом, что я остановился.
– Посмотри на меня.
– Я вижу, – сказала Люда тоном ниже, вглядевшись в мои боевые шрамы. – Это не оправдание.
– Я и не оправдываюсь. Я прошу прощения.
Мимо шли люди. Мы разговаривали среди толпы.
Она сморщила лобик и жалко улыбнулась.
Тут я и сломался. Увидел в ее глазах тоску.
– Давай зайдем куда-нибудь, перекусим?
– Я обедала.
– Кофейку выпьем.
Она не отреагировала. Вот какое я сделал движение – я ее обнял и с силой притянул к себе. Она не отстранялась и не вырывалась. Она заплакала. Я тоже ночью плакал и сказал ей об этом.
Мы пошли в "Харчевню трех пескарей". За столиками сидели мужики, пили портвейн и поедали котлеты.
Обстановка нас сблизила. Обстановка, то есть место, где люди находятся, всегда сближает или разъединяет. Так сказал Кудряш, вернувшись из дома отдыха в прошлом году. У него там было два приключения. Одно с поварихой, которой Кудряш сразу приглянулся своим сиротским видом. Она ему с кухни пересылала добавку – куриные ножки. Но дальше этого у них не пошло. Повариха была старая и рябая. Второе приключение было у Кудряша – страшно вдуматься! – с женой архитектора. По словам Кудряша – штучка что надо. Похожа издали на Галину Польских. А вблизи ни на кого не похожа. И на саму себя не похожа. Потому что сплошь в штукатурке. Она выловила нашего приятеля Кудряша на второй вечер на танцах. Какой Кудряш танцор – это мы знаем. Он хороший танцор, если сидит. За столом. Там наш приятель на месте. Вот он притулился тихо-мирно у стенки, курил, и архитекторша сама его выглядела. Кудряшу она понравилась своим независимым характером. Она ему в деревне покупала водку. Представляете: повариха пересылает ему мясо, а архитекторша под это мясо водочки. Он здорово отдохнул. Сашка все допытывался: "Ну о чем, скажи, могли вы с ней говорить, Кудряш? О том, что ты передовик производства?" – "Да уж находили темы!" – многозначительно отвечал Кудряш. Он после того отпуска, месяца полтора заговаривался. Он мне как-то сказал: "Ты, Мишка, еще не раз вспомнишь Забайкалье и собор Парижской богоматери!" – "Почему это я их вспомню, если я там ни разу не бывал?" – "Как не бывал? А мы не вместе с тобой ездили?"
В этом году Кудряш от путевки отказался, сославшись на переутомление. Весь отпуск проковырялся на дачном участке у тещи. Но и там крепко отдохнул. Его прижучила сторожиха садового кооператива, женщина о сорока годах и ненасытного, по его словам, телосложения. Она преследовала Кудряша три недели. Не носила ему мяса и не беседовала с ним о соборах, а требовала, чтобы он починил ей колодец. И обещала за это какую-то неслыханную награду. Кончилось тем, что Кудряш не выдержал и нажаловался теще. Теща у Кудряша – это разговор на два года. А одним словом – это вечный двигатель, которого, как по ошибке думают, нет в природе. Теща схлестнулась со сторожихой на николин день. Этот день все дачники запомнят навеки. Так Кудряш считает. Ему видней. Он присутствовал. Сказал, что в тот день были странные предзнаменования природы. Например, перестала течь вода из кранов. Небо заволокли черные тучи, но дождя не было. Впрочем, я далеко отвлекся…
Мы сидели с Людой в харчевне, и мне казалось, будто я сюда с ней и раньше захаживал. Она сосредоточилась на котлете и обо мне забыла. Обо всем на свете забыла. О своих бедах, о напастях, которые всегда подстерегают нас за углом, о родных и близких. Ела котлету, и этого ей хватало, чтобы жизнь не казалась пустяковой. Счастливое любимое создание. Теперь-то я могу сказать, что любимое, хотя тогда, конечно, не мог. Тогда я испытывал к ней необыкновенно острое чувство жалости и недоумевал. Недоумевал, потому что не знал, за что ее жалею. Она красивая, молодая и ест котлету. За что жалеть? Может, я и не очень умен, как считает Сашка, но скажу, что понял позже. Такая ни с того ни с сего жалость и есть самый верный предвестник любви. Я уже любил ее тогда, в занюханной харчевне, но только не догадывался об этом. А догадался об этом на улице. Через недельку примерно. Тогда же просто смотрел, как она ест котлету, точно проголодавшаяся кошка, аккуратно и жадно, смотрел на нее и до слез жалел. Как родителей своих, как себя самого, как Сашкину сеструху Веру. Я прихлебывал портвейн из стакана и закусывал ветчиной. Когда она доела котлету, то вернулась в наш мир и спросила:
– Ты случайно не пьяница, Михаил?
– Пьяница, – ответил я, – но пью очень редко и помалу. В целях конспирации.
После харчевни мы отправились в кино. Там повторилась прежняя история. Она смотрела какой-то бездарный фильм и на мое присутствие не реагировала. Сказал ей, что пойду покурить. Люда только слабо рукой повела: ступай, мол, на все четыре стороны. Из автомата я позвонил домой. За сутки звонил третий раз, и разговор был одинаков. Трубку у матери выхватывал отец и начинал грозить. В этот раз я узнал, что мой негодяйский пепел будет развеян по пустыням Африки и что уши висельников в добрые старые времена прибивали к заборам. Я пообещал, что вернусь засветло, хотя на улице уже смеркалось. Отец нервно захохотал и бросил трубку.
После кино мы побродили по улицам и переулкам. То есть брели в направлении Людиного дома. Я заранее предвкушал, как будем целоваться. Мне хотелось с ней целоваться и хотелось гладить по голове. Но мои надежды не сбылись. Дошли мы до ее дома, где в окнах свет не горит. Я сразу потащил ее в подъезд, но она почему-то уперлась. Спросил – почему. Я всегда спрашиваю, если непонятно. Не стесняюсь. Саня – тот стесняется спрашивать. Он ни у кого ничего не спросит. Ему кажется, что спрашивая, он унижает себя. Он лучше будет терпеть до второго пришествия. Я не такой, я спрашиваю всегда, если оказываюсь в тупике.
– Ты чего, Людмила?
– А тебе только это и нужно? Только за этим ты меня и провожаешь?
Меня нелегко сбить с толку в зрелые мои годы.
– А тебе что нужно?
Отвечать вопросом на вопрос – самый лучший способ уйти от ответа.
– Ты чудной парень, Миша.
– Чем это я чудной?
– Ну какой-то не такой, как все.
Это услышать всегда приятно.
– Давай начистоту, Людмила. Да, я хочу с тобой целоваться. Мне нравится, как ты это делаешь. Я хочу даже и большего. Но если ты против, согласен дружить с тобой платонической дружбой. Я читал про такую. Мы будем ходить с тобой в библиотеку и в музеи. И наступит срок, когда выдам тебя замуж за хорошего человека. Именно про такой случай я читал в книжке. Правда, мне показалось, что там описан дебил…
Была ночь, и в высоком небе летали звезды. Самое время маленько порассуждать.
– Значит, благородные чувства тебе неведомы? – спросила Люда. Фраза была дикая, но я ее понял.
– Пойду, пожалуй. Меня дома папа с мамой заждались.
– Иди!
Я повернулся и пошел. Шел, посвистывая и как бы невидимым прутиком сшибая головки невидимых цветов. Но бодрился напрасно. Уже начиналось, зрело во мне сумасшествие, которое вскоре согнуло меня в дугу. Я уже был болен любовной горячкой, но не сознавал этого. Да и как мог сознавать. Подумаешь, сходили с девчонкой два раза в кино, перекинулись несколькими словами, один раз пообнимались в подъезде. Откуда может быть любовь? Если бы еще Люда была особенно умна, особенно красива, вообще хоть чем нибудь выделялась из толпы. Она, конечно, была симпатична, она была гибка и стройна, она умела смотреть в глаза не отрываясь, со странным ожиданием и мольбой во взгляде. Но разве этого достаточно, чтобы потерять голову?… Боже мой, мы ничего не знаем о любви! Ни я, ни Сашка, ни женатый страдалец Кудряш, ни многие другие. Мы слепые котята в этом вопросе, хотя часто подпускаем туману и строим из себя всеведущих сердцеедов. Мы думаем, что если когда-то, что-то у нас было, то университет любви уже окончен с отличием. О нет! Когда вдруг накатывает это страшное состояние, мы оказываемся беспомощными, как дети, не выучившие урока. Мы не знаем, что делать, даже не представляем, какие слова говорить. Мы совершаем глупости, о которых стыдно рассказать родному отцу. Мы совершаем тысячи мелких и неинтересных поступков – и ты, и я, и он. Я говорю "мы", потому что видел, как это случается и у других, не только у меня. Я видел нормальных, веселых и жизнерадостных парней, которые менялись на глазах и делались полными идиотами. Уж теперь-то я знаю, почему они делались идиотами. Они сталкивались лбом с любовью. Их, как и меня, можно было отправлять в Ганнушку. Но их, как и меня, не отправляют, потому что влюбленные почти не опасны для окружающих. Вдобавок неизлечимы.
Я сделал свою первую любовную глупость на следующий день.
Это была еще совсем крошечная глупость, похожая на судорогу. В обеденный перерыв я не пошел в столовую, хотя был голоден. В обеденный перерыв цех и лаборатории пустеют, и все телефоны освобождаются. Позвонил, но Люда, естественно, была на работе. Ответила женщина, вполне возможно, ее мамаша. Я назвал себя почему-то Андреем и выпросил Людин рабочий телефон, сказав, что срочно нужно передать ей учебники. Разговор был унизительный для меня. Мамаша, или кто уж она там, с пристрастием допытывалась, кто я такой. Поговорив с ней, можно было предположить, что Люду преследует банда уголовников. Я изворачивался, врал. Представился инженером-конструктором. Сказал, что Люда сама просила достать ей кое-какие учебники, очень редкие. Сказал, что мне удалось достать учебники с огромным трудом и ненадолго. Впоследствии мне часто приходилось врать и изворачиваться с такой яростью, точно от того, поверят мне или нет, зависела моя жизнь. Это естественно и неизбежно. Любовь полна вранья. Она питается враньем, как змея кроликами. Но тогда я этого еще не знал. Когда первый раз накручивал незнакомому человеку макароны на уши, меня коробило, как от флюса. Не надо думать, что я такой уж чистоплюй. Врать мне в жизни приходилось не единожды, но всегда осмысленно. А тут впервые врал как бы по наитию, неизвестно зачем. Вранье, которое сопровождает любовь, большей частью поражает своей бессмысленностью. Забавно, ей-богу! Врешь, чтобы что-то скрыть, врешь, чтобы уязвить, врешь, чтобы предстать не тем, кто ты есть, – врешь, врешь, врешь. Снежный ком вранья, который душит похуже самой любви.
Все-таки телефончик я выцыганил и позвонил Люде на работу в поликлинику. Она со мной разговаривала, как с тяжелобольным. Как с больным, который всем надоел своей невменяемостью. Люда сказала, чтобы я больше не переживал, что она больше не обижается и что она очень занята и не может со мной разговаривать по телефону. Это служебный телефон, сказала она, и если она будет по нему трепаться, ее взгреют. Попросила больше не звонить на работу. Я ее внимательно выслушал.








