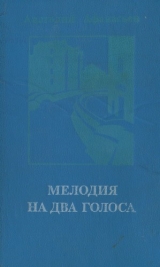
Текст книги "Мелодия на два голоса [сборник]"
Автор книги: Анатолий Афанасьев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– Я тебе, Федорыч, не подарил, а продал. Вот Зоиньке я бы и так подарил. Зоя у нас самая красивая женщина в отделе.
Он аккуратно обтер ложку чистым носовым платком, обмакнул ее в щи, поворошил, выудил сало и положил на клеенку.
– Подозрительный ты, Федорыч. А если и подарил, от чистого сердца, а, Зоя?
Зоя думала, что если правда в нее так влюбился симпатичный и надежный Пономарев, то это прибавит хлопот в ее девичьей жизни. Но она сызмальства привыкла к хлопотам. Девушка была целеустремленная, рабочая. У Пономарева честный взгляд. И он крепкий еще, хотя и тощий. Умный зато. Умные любят ласково.
– А у тебя, оказывается, есть собачка, Толик? Она кусается? – флиртовала Зоя освобожденно.
– Есть, лучший друг мне подарил. Спасибо, Веня.
– Не за что, старина.
Вениамин брезгливо поедал суп. Кусочек сала лежал на клеенке как укор.
– Ты иди, Зоенька, – сказал Пономарев, – а я тебя догоню.
Они остались вдвоем.
– Слушай, а почему ты в самом деле мне собаку притащил?
– Что-то ты странный сегодня, старина, на себя не похожий. А Зойка баба аппетитная, – Воробейченко сладко поежился. – Как она насчет этого? Не пробовал?
– Нет у тебя идеалов, Воробейченко. Вот и про меня ты гадости говоришь. А зачем, Вень, зачем?
Воробейченко расчленил вилкой котлету и набил рот салатом. Соображая, он задумчиво глянул мимо Пономарева.
– Ах, вон оно что. Шутки это, старина. Плюнь мне в глаза, если я тебя обидел. Мы же друзья, старина… Не принимай к сердцу. Знаешь, ради красного словца не пожалеешь мать и отца. Вот и я такой. А что, тебе донесли? Семенов, наверное.
Пономарев с сожалением подумал, что никогда не сможет он плюнуть в эти больные пустые глаза. Да и не только в эти. Ни в какие. Характер не тот, лютости нет. А так иной раз хочется плюнуть в «дружескую» харю.
– Нам с тобой, может, реже надо встречаться, – заметил он робко, но смысл слов, яростный и категоричный, поразил его самого.
– Как это?
– Так. Ну что мы совсем уж сблизились. У тебя никого, что ли, нет больше, Воробей?
Вениамин нехотя отодвинул тарелку, жестко покрутил желваками, и Пономарев на мгновение замер. Ему почудилось – Вениамин сейчас его трахнет кулаком либо прямо тарелкой.
– Есть, Толик, – холодно бросил Воробейченко, – еще есть только один человек. Хочешь знать кто?
Пономарев кивнул, хотя ему было безразлично.
– Твоя жена, Толик!
Пономарев молчал. Вениамин зловеще оскалился, и как бы впервые Пономарев разглядел вплотную его серую улыбку. Так улыбаются звери своей жертве. Кошка – мыши. Ребенок – сусальному ангелу.
– Жена? – спросил Пономарев. – Аночка?
– Аночка. Да, она. Удивлен? А ты не удивляйся. Жизнь умнее нас, Пономарев, – как бы играя топором, крушил слова Воробейченко, – я тут не виноват. Так сошлось на мне и на тебе. Ты уж пересилься. Мы же люди интеллигентные.
– Да ты про что? Опомнись, Веня!
Пономарев сиротливо огляделся. Воробейченко погрузил в рот кусок селедки.
– Ладно, доедай, а я уж пойду, – беспомощно сказал Пономарев. Он сразу понял, что Венька сволочь, не договорил, что он знает то, чего не знает Пономарев и что ему скоро предстоит узнать.
4
Сначала в голову ему приходили самые незамысловатые вопросы. Зачем, пытался он понять, зачем Веньке нужна Аночка? Наверняка у него хватает женщин. А Аночка уже немолодая, двадцать девять, и у нее сын, Виктор. Зачем его Аночке этот упитанный и сытый Воробейченко. Хотя, может быть, ничего и не происходит? Может быть, все это нелепые вымыслы?
Зачем Венька гоняется за ним, Пономаревым, не дает ему покоя и тишины, необходимой для нормальной работы? Что они друг другу?
Его мозг лукавил, и Анатолий чувствовал это. Между ним и Воробейченко была связь, непонятная и болезненная, но зато такая, как железный канат, кусачками не откусишь.
Тут строй его мыслей расслоился. Он никак не мог вогнать их в ясный порядок слов и предложений человеческой речи.
И именно оттого, что у него не нашлось слов, он понял: происходит нечто непоправимое.
5
Аночка штопала Витины колготки. На мужа она внимания не обратила: чему-то собственному улыбалась. Рядом в кресле прикорнул ирландский пес Снуки.
«О Воробейченко грустит, – мудро предположил Пономарев. – Что, интересно, она о нем может вспомнить такого исключительного?»
Он со страхом следил за собой, ожидая истерики, и не знал, во что она выльется. Внутри, как в самоваре, булькало и постепенно накипало.
«Надо спокойно, – подумал он. – Я же знаю, что мне делать теперь. Я хорошо это знаю».
– Как Витенька? – спросил он по привычке.
Аночка, словно осознав наконец приход мужа, потянулась плечами и ответила тоже обычно – незло, но метко:
– Разве тебя это интересует?
Первый вопрос был исчерпан. На повестке дня стоял второй вопрос.
– Ты любишь Воробейченко? – запнувшись на фамилии, выдавил Пономарев.
С Аночкой они познакомились в институте. Как-то Пономарев прибрел на заседание литобъединения. Затащил его туда друг Костя Хмаров, поэт и песенник-самородок. Сам Пономарев стихов писать не умел и по этому поводу не тужил. Но в душе он уважал людей, имеющих дар складно записывать слова, а потом читать их нараспев с томлением в лице и голосе.
Он любил стихи Блока, но никому об этом не сказал за всю жизнь. Нечего было говорить. Он любил Блока слепой бессловесной любовью и верил, что единственно такая любовь имеет смысл. Еще он любил и покорно терпел Костю Хмарова, не его суть стихи, а то, что Хмаров умеет писать стихи, и то, как читает их ему, непонимающему, с верой и соболезнованием.
Они пришли на заседание, чтобы Костя мог поделиться накопленными в одиночестве строчками с людьми добрыми, чуткими и знающими. Однако их никто слушать не собирался, потому что у литобъединения был четкий план занятий, и по этому плану сегодня происходил творческий отчет студентки Аночки Вишняковой.
Пономарев с бледным от волнения Костей (тот никак не мог поверить в несправедливость и ждал каждую минуту приглашения выступить) уселись в углу на один стул и затаились.
Стройная девица в коротком платье модного покроя «я еще девочка, мама» трагическим шепотом читала упаднические стихи. «Северная тяжелая любовь разбросала свои серые крылья. Плохо наше дело, плохо. Обессилены мы, обессилены».
Вид у Аночки был заунывный, похожа она была на погибающего от недомоганий птенца. Она прочитала несколько таких коротеньких четверостиший о трагической любви, а потом ей устроили овацию. Все члены литобъединения, большей частью молодые модные длинноволосые ребята, кричали: «Гениально!», «Аночка – ты Ахматова», подбегали целовать ей руку. Костя, подвластный поэтическому гипнозу, тоже умчался вперед, как вольный ветер. Руководитель литобъединения, пожилой, никому в народе не известный заслуженный поэт, пытался утихомирить страсти, улыбаясь, поднимал одну руку вверх, словно на параде, а второй рукой держал Аночку за плечо. Пономарев сидел одиноко в углу, ждал возвращения Кости. Но того, видно, унесло в поэтической толпе. В комнате остались трое: руководитель, Аночка Вишнякова и ошеломленный донельзя всем виденным Пономарев.
Руководитель вежливо спросил:
– А вы ко мне, молодой человек?
– Нет.
Пономарев вышел в коридор, но и там Кости не было. Пономарев, все больше удивляясь, закурил. И тут из комнаты выпорхнула воздушная Аночка и прямо обратилась к нему:
– Вы первый раз пришли? Да? У вас стихи?
Пономарев сообразил, что судьба по ошибке предоставила ему редкий случай пообщаться с гениальным человеком, и поэтому повел себя дерзко и строптиво. Он не ответил на вопрос, – а заговорил совсем в другом ключе.
– Ваши стихи как пряник, – сказал он. – А пряниками сыт не будешь.
Девушка смутилась, мгновенно покраснела.
– Стихи не для столовой пишут. Их не едят, – сказала она тонко и обиженно. Отвернулась и медленно побрела по длинному коридору. Плечи ее были опущены, как у больной. Пономарев догнал ее.
– Простите. Простите, пожалуйста! Я не то сказал… У меня друг пропал. Был и нет. Может быть, лежит теперь где-нибудь раненый!
Аночка улыбнулась ему, и он понял: надо срочно идти за ней следом, кривляться, лебезить. Иначе еще шаг, там, на улице, и она пропадет, растает. Это была Аночка, его будущая жена. Тогда впереди, у них сияло белое счастье, а теперь оно, счастье, было в прошлом, позади, размокло под сизым дождем, покрылось пеплом. Они оба давно перешли жить в другую жизнь…
– Ты любишь Воробейченко! – Пономарев обмер, видя, что Аночка безответно, серая, как смерть, глядит в сторону, мимо его вопроса. И колготки отложила. Щенок нехотя проснулся, поглядел по сторонам – откуда шум – и тявкнул на Пономарева.
– Ты с ума сошел! – сказала Аночка в ужасе.
– Значит, ты любишь его?!
– Что с тобой, Толя?
Но он со сверхъестественной секундной зоркостью – видел, как она выходит из нервного транса, и прозревал, вопрос для нее не нов, жена знала ответ, только страшилась, как и он, ответа. Аночка косила глаза в пространство, была далекая, похожая на сотни чужих женщин.
– Значит, ты любишь его?!
Аночка строго молчала. В дверь забарабанил Витенька.
Пономарев открыл и вернулся.
– Мы расстаемся? – спросил он.
Аночка свято молчала.
– Почему ты молчишь?! – заорал Пономарев. – Я, что ли, виноват? Я работаю, сдохну скоро! – ненавижу тебя, тварь!
Витенька подбежал к нему и, с мольбой глядя снизу, дернул его за руку:
– Папа, не кричи на мою маму! Не кричи!
Аночка, оледенев, молчала. Колготки странно свесились со стола, сейчас упадут на пол. Снуки, щенок, с пола пытался сбить их лапой.
– Ладно, я уйду, – крикнул Пономарев. К горлу подступила рвота, как с похмелья, сердце стучало по ребрам.
Он выдернул из шкафа чемодан, с ним они ездили на юг, новый, кожаный, с изящными замками дорогой чемодан, швырял в него вещи: брюки, рубашки, пепельницу, подарок друга, принес с кухни бритву. Витенька прижался к маминым коленям, и они оба смотрели на буйного отца.
«Сейчас она меня остановит! – думал Пономарев. – Сейчас остановит, и мы все выясним. Сейчас, сейчас!..»
Он уложил аккуратно поверх всего заветные тетради с расчетами и две-три самые важные книги. Закрыл чемодан. Оглянулся и пристально, в последний раз, посмотрел на Аночку. То, что он прочитал на ее лице, означало беду. Там была растерянность и дальнее, светом сквозившее облегчение. Вот как, именно облегчение. Пономарев мог ее убить.
– Значит, все правильно? – спросил он тихо.
– Не знаю.
– Прощай, Аночка! Витенька!
– Мама, куда он уходит?
– К другой тете, сынок!
– К какой тете, мам?
– У него есть тетя.
– Папа, ты уходишь к другой тете?
Пономарев поднял чемодан, ринулся к дверям. Он боялся упасть от вязкой слабости в ногах и в сердце. Нет, ничего. Открыл замок. В яростной надежде, проклиная себя, помедлил мгновение. Нет, ничего. Вышел и захлопнул дверь…
6
Пономарев шагал по темному городу. Он не заметил, как стемнело. Звездное небо стояло высоко и прозрачно. Легкие мысли, как гимнасты, кувыркались в голове.
Может, все почудилось. Может, я просто дурак? Ну дурак – в любом случае. Но ведь она ничего толком не сказала. А Воробейченко мог иметь в виду совсем другое. Мог соврать. Он почему-то обозлен.
Но ярко представлялось ему Аночкино облегчение, убийственное, почти радостное выражение ее глаз.
Удивительно, но сейчас, идя по улицам, не зная, куда приткнуться, без денег, без желаний, Пономарев больше не ощущал так остро свое ничтожество, в котором он не сомневался все последние месяцы и которое таскал, на спине повсюду, как мешок с углем.
Нет, теперь он шел могучий и свободный, отрешенный от хлопот, ни в чем не сомневающийся, почти счастливый. Надолго ли?
Он дошел пешком до Савеловского вокзала, считай, всю Москву пересек, сел в электричку и поехал в Р., маленький поселок. Там жил старый институтский друг, Костя Хмаров. Там он работал в рыбном институте. Жил в трех часах езды от Москвы, а видел его последний раз Пономарев года два назад. Хмаров приезжал в командировку, выколачивал какие-то приборы. Поэт Костя Хмаров ни одной звезды с неба не сорвал, незаметно работал, ни слуху о нем, ни духу не было.
В электричке, последней, ночной, в вагоне Пономарев был один. Он задремал у окна, притулившись на сиденье. И в полудремоте вспоминал, как водил Витеньку недавно к зубному врачу. Витенька, в ту пору турецкий султан, у врача не плакал, удивил всех своим мужеством. Только икал и зевал.
На жестком сиденье счастливый Пономарев, как наяву, снова сжал маленькую ручку, целовал мягкие волосы, приговаривая что-то, клянчил. И проснулся на последней остановке в слезах и беспокойстве.
Дальше надо было ехать на автобусе. Так удачно, совпадало – первый автобус на Р. отходил через полчаса. Пономарев трясся в обществе двух женщин в ватниках. Шофер вел маленький «газик» с сумасшедшей скоростью. Мелькали мимо деревья, огоньки, тени леса.
«Куда я?» – вздрогнул Пономарев, и вся нелепость происходящего предстала ему в ослепительной ясности. Но он все еще как бы бредил, острые уколы терпких мыслей и воспоминаний не терзали его, а приносили утешение. Он, как в припадке, мотал головой и повторял: нет, ничего. Нет, ничего, ничего. Все в порядке.
Автобус прибыл в Р. около пяти утра. Две-три улицы двухэтажных домиков, окруженных лесом. Здание с флагом – наверное, административный центр. Озеро. Все сразу охватывал взгляд. Воздух свежий, чистый и ароматный. Тишина мертвая. Машина притормозила на площади, на каком-то булыжном пятачке. Женщины засуетились и привидениями растворились в предутреннем тумане. Шофер, не вылезая из кабины, улегся на сиденье и сразу захрапел. На Пономарева он вообще не обратил внимания. Даже денег за билет не спросил.
«Первобытные условия, упрощенная культура отношений», – усмехнулся Пономарев.
Словно за тридевять земель осталась Москва со своим бестолковым движением, суматохой, гарью.
Пономарев улыбался. Он дышал легко. Крест на прошлое. Крест на семью. Тридцать или сколько там процентов зарплаты на алименты.
Спазм перехватил горло. Он представил, как Воробейченко наклоняется к его сыну, треплет его пушистый затылок, бьет с размаху по голове…
Никогда особенно не тяготился Пономарев своим отцовством. Одиноким растением рос Витька. Отец делал карьеру, не мешайте. Какое свинство эта карусель.
По адресу он без труда разыскал квартиру Хмарова. Костя открыл ему в трусах, торчал в дверях скелет скелетом.
– Это не сон? – спросил Костя.
– Давай ущипну, – хмуро ответил Пономарев.
Поселок городского типа уже просыпался, петухи орали, мыкнула где-то коровенка…
7
Костя, ликуя, привел друга к главному инженеру Вячеславу Константиновичу Бобру-Загоруйко.
– Вот, это Пономарев, – представил его Костя. – Помните, я вам всегда рассказывал.
Главному было на вид около сорока. В рыбном хозяйстве работали либо пенсионеры, либо молодежь. На средних линиях шел жесткий отсев, бегство. Вячеслав Константинович утром не поверил Костиному звонку. По рассказам Хмарова, его московский друг блестяще защитил диссертацию и не сегодня-завтра должен был отбыть за получением Нобелевской премии. А Костя позвонил и проорал в трубку, что этот именно в близкой перспективе академик явился к ним работать.
– Так у нас вакансия директора занята! – пошутил Бобр-Загоруйко.
Но вот он стоит перед ним – знаменитый Пономарев, столичный работник, среднего роста молодой человек с утомленным печальным лицом и серьезным взглядом. Возись теперь с ним.
Костя Хмаров вел себя как на гулянье. Он наслаждался сценой знакомства своего великого друга с уважаемым главным инженером. Он знал: Пономарев – неутомимый бегун на длинные дистанции, работяга. «Если бы нам сильный кадр, – говорил главный, – мы бы тут горы бы перекопали и превратили их в овраги».
– Что же вам можно предложить, – вяло сказал Бобр-Загоруйко. – У нас ведь научная работа на уровне нуля. Хотя мы и значимся НИИ. Но знаете, третья категория. Оклада не видя, люди бегут.
Хмаров охально дергался и веселился. Какие там, к черту, оклады. Кому они нужны?
Пономарев, не глядя на розовое лицо нового начальника, пояснил:
– Не имеет значения. Понимаете, у меня есть одна трудность, – оглянулся на Хмарова. Тот кивнул ободряюще. – Документы мои прибудут несколько позже, дня через четыре. Может быть, задержатся дольше. А хотелось бы оформиться прямо сегодня. Чего тянуть, верно?
«Натворил там что-нибудь, дров наломал, шустер, видать», – с опаской подумал Бобр-Загоруйко. Он не имел никакого права брать человека без документов. Да и отдел кадров его не пропустит. Хотя бы и здешний, в лице одного человека, старичка Тимошенко, постоянного партнера Загоруйко по пулечке. Но также главный инженер хорошо изучил характер своего подчиненного, незаменимого в институте Кости Хмарова, характер поэтический, склонный к взрывам и скандалам, и шел Костя в скандалах до последней точки, середины не замечал, понятие золотой середины и компромисса незнакомо было поэту. А потерять Костю – значило многое потерять.
«Наверное, можно будет оформить задним числом», – решил про себя Бобр-Загоруйко.
– Ладно, – буркнул он и предложил: – Костя, вы покажите товарищу наше хозяйство. Объясните наши задачи и возможности. Пусть выбирает, а мы что-нибудь придумаем…
Этими словами он сразу ставил Пономарева в особое, небывало привилегированное положение, но не жалел об этом. Вячеслав Константинович тоже не зря пожил на свете и мог определить кое-что в человеке с первого взгляда.
«Не убил же он, не своровал, – заключил он. – Скорее всего полаялся с кем-нибудь из вышестоящих. Что ж, нам до этого дела мало».
Очень скоро Пономарев понял справедливость замечания главного инженера об уровне здешней научной работы. Костя знакомил его с сотрудниками. Люди встречали их приветливо, большинство после двух-трех слов приглашали в гости вечерком. Некоторые, бросив свои дела, плелись следом за Костей и Пономаревым. Пономарев на ходу засыпал. Но упорно требовал у Кости объяснений. Честно говоря, Анатолий уже не представлял, зачем он здесь и что будет делать. Один раз им попался навстречу совершенно пьяный человек, тащивший куда-то тяжеленные переносные тиски.
– Петрухин опять с утра, – покривился Костя.
– А кто он?
– Представляешь, лучший наш слесарь, золотые руки. Но вот…
Такого Пономарев у себя не видел.
Костя повел его обедать в дощатый сарай. В сарае стояло несколько столиков и рядом с ними железная огромная плита. В меню были щи и жареная рыба, на третье кисель. Повар сидел за плитой на табурете и помешивал что-то в кастрюле длинной ложкой. Симпатичная девушка раскладывала еду в тарелки. Как в походе. Подходишь, протягиваешь тарелку – и тебе наливают до краев.
– А куда же платить? – спросил Пономарев. Оказывается, у входа стоял деревянный ящик, куда каждый самостоятельно опускал деньги. Костя с грустью сказал:
– На днях открывают новую столовую… на восемьдесят мест.
За обедом они решили, куда на первое время определиться. Он будет работать инженером по монтажу. Пономарев быстренько прикинул: на эту трудную работу у него примерно часа два в день будет уходить.
– Здесь все от тебя зависит, – виновато объяснил Костя. – Никак, понимаешь, не наладимся. Бьемся, бьемся!
Понимать тут было нечего, все как на ладони.
– Ладно, – сказал Пономарев. – Там увидим. Спасибо, товарищ.
«Уехать, что ли? – сомневался он, прислушиваясь, к гудению в голове. – Немедленно уехать».
Но он не уехал. Путешествие кончилось. Костя отвел его к себе, угостил сладким вином и уложил спать, бережно ухаживал за ним. Он так давно не благодетельствовал, соскучился Костя по бескорыстному сочувствию к близким. А тут – Пономарев, случайный подарок судьбы.
8
Напрасно Пономарев рассчитывал по-молодецки оборвать все нити. Два месяца жил и работал он в поселке Р. Ему прислали документ, трудовую книжку. Викентий Палыч не поленился, присочинил несколько строк. Его теплое послание кончалось словами: «Привет дезертиру!»
Викентий Палыч не хвалил подчиненного человека Пономарева за необузданный поступок, но и не шибко ругал. В общем-то, сожалел. И это, вероятно, было искренне. Викентий Палыч обещал в случае чего взять обратно на работу, все простив.
Более всего первое время мучила Пономарева разлука с сыном. Пугала неизвестность. Он послал Аночке деньги и на открытке свой адрес. Аночка тоже ответила. Она написала в спокойных тонах о своем новом состоянии одинокой женщины. Она не обещала, что будет долго одинокой, и весело передавала привет от Воробейченко. Страсти улягутся, писала она, и станет видно, кто прав, кто виноват. Витеньке сказали, будто папа уехал в Среднюю Азию «за туманом».
Получив письмо, с неделю он ходил, пьянея от боли, даже попробовал выпивать по вечерам. Потом боль улеглась, ушла, как рыба, на глубокое дно, там подыхала в тине и бездеятельности.
Вскоре он убедился, что не так уж они смертельны, личные драмы. Пономарев глядел в зеркало и видел те же ясные глаза, то же худое скуластое лицо. Не поседел, не похудел, только без охоты смеялся над Костиными анекдотами. Наплевать, в конце концов. Хорошо, не поздно. Могло случиться через десять лет, когда бы он оброс привычками и салом. А так он еще и теплый халат все собирался купить, да не купил. И кроссвордами еще не увлекался, и телевизор смотрел лишь по воскресеньям. Нет, все хорошо.
Плохо было с работой. Невозможность вернуться к старой теме мучила физически, лишала сна. Первое время он, как шахматист, играл вслепую. Те же мысли думал, та же задача сидела гвоздем в мозгу. Но гвоздь с течением времени ржавел, мозг не справлялся с холостыми оборотами, и тогда Пономарев не находил себе места.
Он твердо и бескомпромиссно решил для себя, что прежняя жизнь была ошибкой. Но решить так – не значило освободиться. Связанный по рукам и ногам, он бродил теперь в густых потемках, потому что не видел материализованного результата своей ошибки, убийственно ощущая, как вытекает по капле его кровь и сила.
– Скоро я умру, Костя! – сказал он как-то другу совершенно всерьез.
Хмаров пугался, ловя лихорадочные взгляды друга, советовал сходить к невропатологу, а по вечерам ждал, пока Пономарев уснет, и только потом засыпал сам. Он часто рассказывал другу историю рыбного института. Пономареву нравился этот рассказ.
– Когда меня сюда распределили, помнишь, – рассказывал Костя, – здесь ничего не было. Пустырь, барак и цех… Цех стоял на старом месте, где и сейчас, а барак там, где теперь магазин. Знаешь?.. Было тут нас пятеро специалистов вместе с директором. Рабочих набрали из местных. Некоторые строители переквалифицировались. Главное, мы не знали, зачем это нужно. И почему именно здесь. Мне, когда посылали, объяснили, какие тут перспективы. Эти, конечно, перспективы, есть…. Всегда есть. Но жили мы первое время, с год буквально, как в тайге. Ничего не было. Хлеб привозили раз в неделю. Что тут творилось, Толик! Дисциплиной и не пахло. Неразбериха, ужас. Работали не по своей специальности. В основном строили. И досадно было – совсем рядом Москва. Можешь представить. Вот тебе кажется сейчас – в глушь приехал. А мы, старожилы, словно дворец воздвигли. Ей-богу, такая гордость. Я вот думаю теперь, человек не обязательно к тому месту привязан, где он родился и долго жил. Человек крепче привязывается, где он строил, где с нуля начал.
Меня разве сманишь отсюда? Ни на какие театры и деньги не поменяю я своего родного угла…
Вот так. Кажется, Костя ничего не проповедовал, жил келейно, много не требовал, но какая-то святая непреложность пронизывала все его немудреные рассказы и слова; та непреложность, которую на некотором отрезке пути миновал, не заглянув в нее, сам Пономарев. Когда Костя рассказывал, ничто не смущало униженный дух Пономарева, только из глубины поднималось сладкое сожаление об этой утерянной, неисповедимой непреложности.
Костя ступал по земле безошибочно, как по домашним половицам, а он, Пономарев, повис в воздухе на тоненьких ниточках своих неточных и несмелых мыслей ни о чем.
– Почему ты еше не женился, Костя? – спросил он как-то у друга.
– Не повезло! – засмеялся поэт, и в тоне его был ледяной оптимизм.
Наступила желтая осень. В помещениях пахло грибами и желудем. Пономарев с раннего утра входил в лес, выбирал теплую сухую поляну и час-два лежал на ней, мечтая, вспоминая. Истаявшие годы казались теперь издалека прекрасными, яркими кострами, потухшими, оставившими угли и привкус тления.
Из леса Пономарев шел прямо на работу, обедал с Костей в новой столовой, после работы опять прятался в лесу, вызывая в поселке различные кривотолки.
Скоро потекли дожди. Пономарев по-прежнему жил у Кости. По вечерам играли в шахматы, иногда спорили не так горячо и умно, как в институтские времена, но все-таки спорили. Костя обычно прицеплялся к какой-нибудь мелочи, незначительному событию и выворачивал его по-своему, наизнанку. Пономарев раздражался.
– Что ты все стараешься философствовать, – сердился он. – Это же утомительно, в конце концов. Из простых вещей ты высасываешь проблему. В лучшем случае гимнастика для ума, похожая, прости меня, на онанизм.
– Ты устал, старина, – вкрадчиво возражал Костя-поэт. – Ты боишься противоречий, вот в чем дело.
Иногда Пономарев выходил из себя и кричал:
– Я не устал, пойми ты. Я понял кое-что. Мы зря так много говорим, мы убиваем себя извержением слов. Наш и без того хилый мозг не справляется с этим потоком. Мы гибнем, пойми ты, от словоблудия, от самокопания…
– Самокопание – почва идеи. Качественно новая мысль не возникает от пустоты. К ней, если угодно, приближаешься на ощупь.
– Мы и мыслим так, как говорим, – кричал Пономарев, – обрывками, бессистемно. Именно на ощупь. Пора помолчать.
Однажды Костя сказал:
– Тебе надо вернуться в Москву. Вернись к Аночке, Толик!
– Чем я хуже тебя?
В первый раз Костя намеренно заговорил об этом. Он решил, что пробил час, и лишний раз доказал Пономареву, как плохо люди понимают друг друга. Даже самые доброжелательные и внимательные.
Никуда ему не хотелось возвращаться. Никто его не ждал. Да если бы и ждал – какая разница. Еще раз все сначала, повторение пройденного. Ничего не надо.








