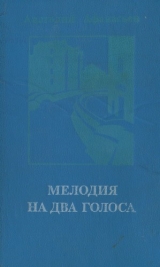
Текст книги "Мелодия на два голоса [сборник]"
Автор книги: Анатолий Афанасьев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Евгений Абрамович Пенин, лечащий врач, поделился со мной своим научным лечебным методом.
– Один наш труженик командированный был во Франции, – рассказал он. – И там у него приключился острый приступ язвы. Необходимо было хирургическое вмешательство. Что делать? – мучился командированный. Я же ни слова не знаю по-ихнему. Как буду с врачами объясняться? В больнице очень удивлялись, почему больной русский так растерян и суетлив. Чего-то руками показать старается. Кукиш, что ли? А когда поняли, в чем затруднение, то даже развеселились. Французские врачи так объяснили. Нам не надо с больным разговаривать. Достаточно, что он может кивнуть головой. Мы все сами видим и сделаем… Через две недели командированный выписывался. Понимаете, в чем закорючка?
– А в чем?
– А в том, что наши больные очень все умные. По каждому пустяку готовы с врачом дискутировать. Им кажется, что доктор ничего не понимает из их обморочного состояния, чего-то недооценивает. И каждую колику, таким образом, представляют себе как рак. Это воспитывает у больного вредную мнительность, а нас, врачей, нервирует и отнимает лишнее время, может иногда повести по ложному следу… Надо больным запретить говорить, кроме «да» и «нет».
– Теперь понимаю… Метод бессловесной твари. Человек-лягушка.
– А хотя бы и так. Операции-то проверенные. Не экспериментальные.
– Поэтому и заведующий ваш все время молчит?
– Дмитрий Иваныч? Он – гений!
Пенин сказал такие громкие слова без иронии. Ну и нравы в этом заведении. Тогда, выходит, сам Пенин – ученик гения. А я, выходит, счастливец. Пенин косо намекнул, что будет ассистировать. Якобы только ему может доверять гений-Клим в трудной борьбе за жизнь человека-лягушки. Значит, если я на операции вытяну ноги, то буду не просто покойником, а ошибкой гения.
У нас в лаборатории тоже полно гениев. Даже есть одна женщина-гений. Уникум. Мы с ней спервоначалу дружили, с гением Катериной. Она и мне доброжелательно говорила, что я гений. Катерина с первого взгляда на нее производит впечатление предельно аристократичной и демократичной особы.
Когда я понял, что ее гениальность заключается в умении схватывать чужие мысли на лету, а также презрительно кривиться по поводу еще незарегистрированных в известном кругу суждений, я стал иногда разговаривать с ней непочтительно. Не как с гением, а как, может быть, с другом. Этого она не простила.
На сегодняшний день мы не здороваемся, и я знаю, что за спиной она говорит про меня гадости. А также интригует против меня с завотделом Скрябиным. Он в ней души не чает. Катерина из тех красивых женщин, в которых трудно влюбиться, но хочется, чтобы они были рядом на всякий случай.
Выпитое вчера вино сверлило левый бок, пробуравливало в нем отверстие, но вырваться из тела не могло и жгло там внутри. Ничего, уже так мало часов до последнего звонка. Вино получит выход, а жизнь моя исход. Только бы не опозориться на прощанье.
…Вдруг я вспомнил, как прекрасна земля летним теплым днем… Как она чувственно тянет к себе, даже если глядишь на нее из окна. Жить захотелось нестерпимо. Лежать в пахучей траве на земле, над тобой шатаются, скрипят деревья, огромное небо прозрачно и высоко, легко кружится голова от тишины, шуршат листья.
Лежал я так давно и забывал, зачем пришел, и спал наяву с открытыми глазами, и уставал от этого больше, чем от работы.
За день до операции меня навестил анестезиолог Володя, щуплый, черноглазый, улыбчивый парень. Он был такой русский, что от него пахло рекой.
– Ну вот, – сказал он, усаживаясь возле кровати. – Значит, будем делать операцию?
– Без операции как-то скучно, – подтвердил я.
Кислярский воспринял приход анестезиолога очень интимно. Как и вообще все, что происходило вокруг. Он считал, что все приходят только к нему – под разными предлогами. Кто бы ни был. Врачи, чужие родственники, нянечки; всем завидно и приятно пообщаться именно с Кислярским.
– Мне тоже делали операцию, даже не одну, – заметил он Володе снисходительно. – И ничего, покамест случайно жив. Помню, у вас тут работал такой врач Петраков Иван Димитрич. Не знаете? Напрасно. Так вот, ему моя жена принесла мою мочу. Я сам попросил. Песок у меня шел, а не моча. Белый зернистый песок. Я испугался тогда и уговорил жену сходить показать пробирочку какому-нибудь опытному докторюге. Она как раз и попала к Петракову. Скажите, говорит, что этому больному делать, раз у него такая моча? А кто больной, не сказала. Что это ее муж – не объяснила. Петраков посмотрел пробирку и отвечает: а чего, говорит, ему делать, когда и жить ему осталось три месяца при такой моче. Жена моя – хлоп! – в обморок. Мы с ней двадцать лет ни разу не ругались, хотя и поженились случайно. До меня она встречалась с одним чекистом…
– Короче! – сказал Петр брезгливо. – Не на собрании!
Александр Давыдович обиделся и замолчал. Дмитрий Савельевич, казак и мученик, полез в тумбочку за компотом. Петр помог ему открыть жестянку.
– Так вот, – сказал анестезиолог Володя дружелюбно, – я хочу развеять ваши сомненья…
– У меня нет сомнений! – поспешил я.
– У него нет сомнений! – подтвердил Кислярский. – Он как Наполеон.
– Помолчи! – пробурчал Петр себе под нос.
– Нет, я не про то, – продолжал Володя, улыбаясь. – Я про существенную путаницу в представлениях. Я знаю, иногда болтают: операция то, операция се. Волосы дыбом встают… А операция, мой друг, при современном наркозе – ерунда. Ее нет для больного. Понятно? Немножко поболит после операции несколько дней, но в меру, как вот палец обожженный ноет. Понятно?
– Понятно! – сказал я обрадованно. – То-то такое веселье в больнице кругом.
– Это, допустим, совсем не так, – вступился Кислярский обиженно. – В учебнике Покровского черным по белому сказано: послеоперационный период очень тяжел и чреват осложнениями. Летальный процент…
Петр вышел из комнаты, ругаясь на ходу.
– Нет, нет ничего такого, – заметил Володя твердо. – Этот учебник написан десять лет назад. А статистика, на основе которой выводы, – еще более устарела…
– Может быть, – с сомнением сказал Кислярский. – Конечно. Сейчас люди выздоравливают, как мухи!..
– А как настроение? – спросил Володя.
– Терпимо, – сказал я, – ничего не поделаешь.
Володя розово улыбнулся.
– Выше голову. Будете здоровее прежнего. Я за вас отвечаю, не волнуйтесь.
Кислярский оскорбительно хмыкнул.
Часа через два случилась неожиданная тихая истерика с Дмитрием Савельевичем. Он вызвал врача. Прибыл Пенин.
– Выпишите меня домой! – сказал ему Дмитрий Савельевич с казацкой прямотой.
Пенин захохотал, захлопал себя по бедрам.
– Выпишем, – заорал он счастливо. – Бутылка коньяку с тебя. Бутылку ставишь, и выпишем.
– Не юродствуйте, Евгений Абрамович, – прервал его танец больной герой. – Пошутили уже. Хочу дома помирать. Где жил. Выписывайте…
Пенин поскучнел и справился со своим счастливым настроением.
– Помирать – все помрем, – сказал он уже спокойно. – Но тебе, отец, еще рано. Еще поживи на радость внукам, помахай саблей. А бутылка все равно с тебя…
– А чего действительно держите человека зря, – заступился Кислярский, – не лечите, а держите! Чье-то место занимает. Пусть домой едет.
– Это не ваше дело, Александр Давыдович, – сказал я мягко и интеллигентно. Петра что-то не видно стало.
– Знаете медицинский анекдот, – ответил Кислярский с лукавинкой. – Врачу сообщили, что больной умер. А перед смертью икал? – спрашивает врач. Два раза, – отвечают. – Очень хорошо! – говорит врач. Так и здесь.
Жалко, Петра нет, подумал я. Раздражение опасно вползало в мой пустующий ум.
– Это про вас анекдот! – сказал я Кислярскому с робкой улыбкой.
– Про всех нас.
Пенин померил Дмитрию Савельевичу давление.
– Мне бы такое давление, – сказал он с искренней завистью.
– Если не выпишете, – ответил Дмитрий Савельевич, – ночью сам уйду!
И повернулся спиной.
– Ладно, – сказал Пенин. – Я передам Дмитрию Иванычу. Обсудим.
Дмитрий Савельевич помалкивал…
Опять пришел грустный отец, и мы сели с ним на ту же скамейку, где с Ксенией Боборыкиной разбирались в последних чувствах.
Отец – пенсионер, бывший экономист, умный, строгий, холодноватый человек с добрым, настороженным сердцем. Сколько ссорились мы с ним, сколько душу рвали друг другу на мелкие куски. Казалось, не соберешь. Сколько бешеных слов сказали. И вот все забылось.
– Завтра будут резать, папа, – сказал я. – Выспаться надо бы сегодня…
– Может быть, снотворное примешь?!
– Приму, конечно.
– Ты очень сильный человек, Володя, – убеждал отец в который раз. – Ты и не подозреваешь своей силы. Я-то вижу. Тебе бы только верное направление взять.
– Направление есть. И анализы! – пошутил я. Он послушно улыбнулся.
– Значит, завтра с утра приеду и буду ждать. Мне Пенин пообещал сразу сказать как что. Конечно, я неправильно говорю – как что, все будет отлично. Пенин милый все же человек, а?
– Подвижный очень. В движенье вся его радость и прелесть.
– Но он врач, кажется, дельный. Ну, а про Клима и говорить нечего. Я столько за эти дни наслышался. Чудотворец. Говорят, за тридцать лет практики, а работает он чуть не каждый день – ни одной ошибки. Каково? Прирожденный, так сказать, хирург.
– Прирожденных хирургов не бывает, есть только прирожденные идиоты. Больным хочется создать вокруг своего врача ореол непогрешимости и таланта. Кому охота ложиться под нож, заранее зная, что он в руках бездарности.
– Клима это не касается. Я точные справки навел.
– Спасибо.
– Крепись, сынок. Через месяц поедем на рыбалку.
– На щуку?
– На Волгу махнем. Звонил мне вчера Петр Андреевич – совсем недалеко есть чудесные места…
Я смотрел, как отец уходит, тяжело неся грустную спину. Горе у него. Сын, возможно, сыграет в ящик преждевременно. Жалко сыновей.
Ох, сколько бы я мог сделать, черт. Как бы страстно, напряженно жил теперь, если бы благополучный конец.
Ерунда и вранье. Суета сует. Жил, работал. Не стоит того. Пора, как учит Кислярский, подумать о душе. А не о работе. Что работа? Один из видов самогипноза. Мы работаем, надеясь на славу или на деньги. Просто так мы не работаем. Дураков нет, они только в книгах о молодом строителе. Все верно. Но почему же тогда я сейчас, на пороге, можно сказать, вечности, думаю о проклятой работе и тянусь к ней из последних слабеющих сил? Не на черноморский пляж тянусь, не в объятия запоздалой Ксении Боборыкиной, не в цыганский кабак, а на работу я хочу. В свою лабораторию, где приборы и мой личный стол. Где Катерина и все остальные однополчане в невидимом строю.
– Что-то ты рано сегодня, Берсенев? – говорит, ухмыляясь, сторож-вахтер отец Василий. – С похмелюги, видать?
– С похмелюги! – говорю приветливо я, давно не пьющий. – Полтора ведра вчера принял.
– То-то, – говорит отец Василий. – Я вас насквозь вижу. Меня не проведешь!
И мы расстаемся, так хорошо поздоровавшись. И я иду в лабораторию номер такой-то. Миную пустой еще цех, административные коридоры, толкаю одну стеклянную дверь, ключом отпираю вторую с кожаным халатом. Я – дома.
Призрачные течеискатели, громоздкие и компактные измерительные приборы, опытные стеллажи, просторные светлые окна. Я – дома. Могу посидеть покурить. Кто придет следом за мной?
Клавдия Васильевна, моя ночная сестра, стояла у дежурного столика.
– Это ваш отец был? – спросила она.
– Папаша, да.
– Молодой еще, симпатичный!
– Давайте поцелуемся!
– Потом, – сказала она лукаво и простодушно. – После операции… Как ты себя чувствуешь?
– Никак. Сколько вам лет, Клавдия Васильевна?
– Прибавь к своим тридцати еще сорок.
Дерзкая злость душила меня. Притихшая боль оттягивала живот к полу. Я рванулся вперед, цепко схватил ее плечи и впился в подкрашенные, тонкие, как крылышки, губы. Изумленные больные ковыляли мимо.
– Эей-эй! – крикнул Пенин, пробегая. Безвольное, хрупкое тело дрожало в моих руках.
– Глупо, Берсенев, – сказала бледная Клавдия Васильевна беззащитно. – Глупо и гадко. Я вам в матери гожусь.
– Неправда ваша, – сказал я. – Простите великодушно.
Клавдия Васильевна выскользнула из моих рук и скоренько поплыла по коридору.
– Недоставало еще меня жалеть, – сказал я вслед. – Жалейте себя, добродетельные сестры милосердия, врачи и педагоги. Меня жалеть вы не будете. Так-то…
Последнюю ночь я спал крепко восемь часов подряд, и разбудила меня сестра со шприцем.
– Сделаем укольчик, Берсенев! – сказала она…
Часть вторая
Врач
1Из анкеты:
Дмитрий Иванович Клим, 50 лет, коммунист, доктор медицинских наук, двое детей – сын и дочь. За границей не был.
Вспоминается мне один эпизод с Бурденко. Он демонстрировал студентам простейшую операцию – удаление грыжи. Главное при этой операции, сказал Бурденко студентам, не перерезать вот тут семенной канатик. И сейчас же сам его перерезал. Значит, не надо ничего показывать, надо все делать всерьез.
С другой стороны – нет хирурга без учителя. Мой сын будет лучше меня. Он будет не только знать, он увидит. И не потеряет годы, как я. Я знаю, к кому его направить.
Виктор вырос упрямым и медлительным. Это хорошо. Плохо, что он в двадцать лет все сомневается, быть ли ему хирургом. А кем же еще быть? Иное дело, если бы он был глуп и неприспособлен. Но, слава богу, у мальчика прекрасное чутье, точные руки, доброе сердце. Больше ничего не требуется. Кроме, разумеется, трудолюбия.
Он и не ленив, мой взрослый сын, так уж мне повезло. Иногда, правда, рассеян. Ничего, это пройдет. Мальчик прирожденный хирург.
А скандал был, когда он кончил школу. Пойду на мехмат. Что значит на мехмат? У него, видите ли, грамоты, он лауреат математических олимпиад, он любит науку. Маша, глупенькая, подливала масла в огонь. Не надо ломать мальчику жизнь. Не надо его неволить. Пусть сам решает, а я – самодур.
Я употребил всю свою власть и даже хитрость (устроил ему через знакомых столько преград на пути в МГУ, что бедный юный Эйнштейн споткнулся), и Витя стал студентом-медиком. Спустя год он сам с улыбкой вспоминал наши распри. Мы еще поработаем с ним вместе.
Способности и склонности к точным наукам ему только помогут в работе…
Сегодня у меня Володя Берсенев. Неприятный характер – нервный, взвинченный, себе на уме. Что-то выжидающее, напряженное в глазах. Он плохо перенесет послеоперационный период. Когда я его впервые увидел, сразу подумал – еще один молодой нигилист. Оказалось даже хуже. Берсенев сам не знает, чего хочет. Отрицания или действия. Нехорошо скрытен и возбужден. Все это отражается в его стесненных и в то же время резких вызывающих движениях. Углубился в свою болезнь. Это естественно. Самокопание в собственной персоне ослабляет и здоровых людей. Затянувшееся духовное взросление. Очень часто приходится с ним сталкиваться в последнее время.
– Вы уверены в успехе, доктор? – спросил он меня. Я не могу быть уверенным ни в чем, но это не мешает мне делать дело. А Берсеневу мешает. Ему необходима уверенность во всем. Зачем? (Уверенность – качество дурное, прямое следствие уверенности – потеря самоконтроля.) Если я почувствую, что абсолютно уверен в операции, я поручу ее Павлу Анатольевичу.
А потом Берсенев пошутил насчет психологического фактора. Мол, говорите, доктор, говорите, если не лень. Я-то все знаю лучше вас. И больше, чем вы, примитивист. Знаю, что все психологические факторы – ерунда. А что не ерунда? Что не ерунда, Берсенев?
Вот на таких вопросах они, как правило, и спотыкаются.
Когда спор доходит до позитивных программ, Берсеневы теряются, начинают мямлить и заикаться и часто несут околесицу. Они не знают, чего хотят. Им нечего предложить, кроме красивой позы бывалого. Берсенев кажется сам себе неизмеримо более сложным, чем все вокруг, и это вводит его в заблуждение. Да, конечно, человек пугающе сложен и тонок внутри себя, в своем «я». Он многое наблюдает в себе, чувствует неуловимые миру нюансы. А вокруг видит вещи относительно простые, принципы однозначные. Ненаправленный, неумело, наспех образованный мозг не выдерживает противоречия и, следуя первому импульсу, ставит свое «я» превыше всего.
Сильные умы скоро преодолевают заблуждение, начинают понимать красоту и многомерность мира, то есть начинают жить с пользой, с человеческой увлеченностью. Некоторые гибнут, можно сказать, не родившись гражданственно, не успев понять и полюбить общество себе подобных, не умея прощать слабости, ни себе, ни окружающим. Отрицание хорошо, когда оно конкретно.
Меня до сих пор поражает удивительная чистоплотность моих сверстников. Духовная этакая брезгливость к подлости. И спивались-то мы, кажется, по-иному, не прося подачек. И всегда видели ясно свою цель и смысл.
Революционный труд продиктовал нам принципы, и мы не изменили. Нынешней молодежи диктуют мировоззрение книги и лекции. А книг много, и они разные, есть с подвохом. А нам страшно. Какие они, наши дети, что готовят нам на старость. Радость или горькое разочарование?
2Утром я, как обычно, делал обход. Утренний обход – вроде физзарядки. Он очень важен для меня. Нередко утренние встречи с больными меняют весь дневной план.
Кого-то привезли ночью, кому-то стало хуже. Мало ли что изменилось за ночь.
Бывают приятные неожиданности. Человек вечером умирал, а утром, входишь в палату, он сидит, бреется, довольный собой и погодой. С таким больным хочется посидеть, поболтать дольше, чем положено, слушаешь у него пульс и украдкой следишь, как из оживших глаз струится окрепшая надежда и робкая благодарность. И с удовлетворением видишь, что поработал недаром. А больной смотрит на тебя, как на знакомого бога, и ты улыбаешься ему. Слов не надо, слова – двусмысленны, в них – подтекст. Молчаливый обмен улыбками важнее слов.
– Молодец! – говорю я, не удержавшись.
– Спасибо вам, доктор, – отвечает больной.
И какие-то доли секунды он тебе как сын, как брат, как памятник. Потом идешь к следующему, к следующему, к следующему. Боль, кровь, страдания, злые взгляды, обида, тошнотворный запах, умоляющие слова – укол, доктор, мне, пожалуйста, укол!
Первое светлое, солнечное ощущение стушевывается, стушевывается, стушевывается, но совсем не исчезает. Все-таки нет болезни непобедимой, думаешь ты романтически, все больные подлечатся, встанут и пойдут восвояси, пожав мне руку на вечное прощание.
Пожалуй, не встанет Дмитрий Савельевич Мещеряков. Когда вижу его, я понимаю, что ненавижу болезнь по-звериному, по-собачьи, а не с благородным пониманием. Болезнь – мой единственный, главный и мерзкий враг в жизни. Я ненавижу ее так, как мальчик ненавидит пьяного мужика, мимоходом ни за что давшего ему щелчок, ненавижу, не умея ничего доказать и оттого самоспасительно бесясь, строя сумасшедшие планы, приписывая черты болезни всему дурному на свете.
Нет конца борьбе, где бесценные победы постоянно превращаются в поражения и не приносят тебе той радости, которую ты заслужил хотя бы старанием.
Когда я вошел сегодня в палату, Берсенев брился, а Дмитрий Савельевич ел компот. Его тянет на кислое.
Странный и самолюбивый Кислярский читал передовую в «Правде». Улыбался. Я его понимаю. Он наслаждается все утро мыслью, что не его сегодня оперируют, не он рискует. Бедный старик.
Я поздоровался своим обычным, дружелюбным и слегка официальным кивком (официальным, чтобы больные не подумали, что с ними сюсюкают – до того они больны) и приблизился к Дмитрию Савельевичу. Это тот человек, которого из сегодняшних моих больных я уважаю больше всех. Уважаю настолько, что даже не сожалею, предвидя его скорую кончину. Что сожаление, – Дмитрий Савельевич не умирает, а уходит из мира, не наследив на чистой ниве земли грязными подошвами. Он уходит, устав. И его не страх смерти мучает, а суматошные пустяки, кои мы, еще живущие здесь, нагромождаем вокруг его обыкновенного ухода.
– Отказались делать укол, Дмитрий Савельевич? – спросил я приветливо.
– Отказался, Дмитрий Иваныч. Уйми, христа ради, свою гвардию. Ребята у тебя хорошие, но не понимают…
– Ладно, – сказал я, – как дома, все в порядке?
– Коля (это его внук) сессию сдал, прислали письмо. Ниночка замуж вроде выходит, торопится. Девки теперь пухнут преждевременно, как блины, а там кто его знает. Но мы не спешили с таким вопросом…
– Да, – сказал я, – мы не спешили. Я, помню, женился в тридцать лет…
– И я в тридцать, – обрадовался Дмитрий Савельевич.
Я знал раньше, что он женился поздно. Я-то сам расписался с Машей, когда мне едва двадцать наскреблось. Война была.
– А мы с Крошкой обкрутились при нэпе, – не очень впопад сообщил Кислярский. Петр Демин, шофер и беззаветный мой поклонник, цыкнул на него неприлично громко. Так они и не нашли с Кислярским общий язык. Может быть, надо их расселить, но, думаю, Демина скоро выпишем.
Теперь я повернулся к Берсеневу. Он улыбался отрешенно и высоко, как мученик Христос. Механическая бритва в его руках только мешала полному сходству.
– Все в порядке? – улыбнулся я. – Вы готовы?
– Пожалуй, – ответил Берсенев, улыбаясь еще приветливей, чем я. – В разумных пределах готов. А вы?
– Я – готов. Через час начнем. Знаете что, Берсенев. Я вот вижу задумчивость в ваших глазах. Напрасно. То, что у вас, – это даже не операция, а процедура. Для нас это процедура.
– Конечно, понимаю! – ответил он и уже улыбался так радостно и светло, как я, ошеломленный, и не видел никогда. Полное счастье светилось на его симпатичном, светлобровом лице. А все от нервов. Догадываюсь, что значит долго представлять себя с разрезанным животом, вываленными внутренностями, на краю отвратительного безгласного бытия. Берсенев эту картину себе ясно представлял, и не единожды. Оттого так и светятся его глаза, вся его воля и выдержка в кулаке. Надо срочно ему укол, допинг.
– Ну, а вы как? – обратился я к Кислярскому.
– Хорошо! – сказал он неожиданно коротко. Петр в этой небывалой кроткости, естественно, учуял подвох.
– Он, Дмитрий Иваныч, учебников много прочитал. Все о себе узнал. Теперь ему хорошо, – сказал Петр угрожающим голосом.
– Некоторые, – ответил Кислярский смиренно, – предпочитают тратить свободное время на изготовление каменного топора, а я действительно читаю книжки. И ты, Петя, при всем моем уважении к тебе, в этом вопросе меня не переубедишь.
– А мне твое уважение… – стесняясь при мне выматериться, воинствующий шофер подавился спазмой, в горле у него что-то булькнуло.
Берсенев спросил:
– Скажите, доктор, нельзя ли мне позавтракать?
– Лучше не надо, – сказал я.
– Спасибо! – сказал Берсенев.
Из палаты Берсенева я вернулся в процедурную. Женя Пенин со старшей сестрой заполняли бесчисленные наши протоколы и бланки.
– Кто готовил Берсенева? – спросил я резко.
Нина Александровна и Пенин переглянулись недоуменно. У Пенина есть привычка: он не может стоять на месте и во время разговора прыгает перед тобой, как марионетка. На операции это ему не мешает, но и там он иногда дергается весь, и я часто боюсь за больного. Все равно на операции я ему не доверяю. Скверно, но ничего не могу с собой поделать. Нет у меня доверия к цепким и сильным рукам Пенина. В них отсутствует такт. Оперируя, он причиняет телу лишнюю боль. Я понимаю, что это мистика; больной под наркозом и так далее, но тем не менее доверять никогда ему не смогу. Вижу, как он делает перевязки: быстро, умело, темпераментно. И опять лишняя боль. Больному от его пальцев не легче, а Пенин не чувствует. Скажи ему – обидится. Да и как сказать.
А кто лучше его ведет больного после операции? Разве что Клавдия Васильевна, умница, великая милосердная сестра.
– Кто готовил Берсенева? – повторил я резко.
– Мы готовили, Дмитрий Иванович. Кто же еще, – удивленно сказала Нина Александровна.
– Ему до сих пор не сменили рубашку. Он грязный!
Пенин опустил голову, вскочил и забегал.
– Повторится еще раз, – сказал я, – обоим по выговору. Стыдно, молодые люди!
Нина Александровна старше меня. Невежливо называть ее «молодыми людьми», но не могу сдержаться, когда вижу такое. Убей, своруй, подличай, но к больным относись добросовестно. Иначе цена тебе – копейка…








