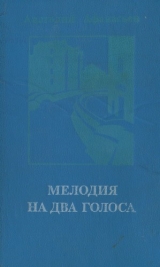
Текст книги "Мелодия на два голоса [сборник]"
Автор книги: Анатолий Афанасьев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 24 страниц)
Зима накатила ранними снегопадами и студеными ветрами. Припущенные белой изморозью деревья, когда Федор задерживал на них взгляд, приобретали очертания Анютиного белого халата. Она хитро пряталась от него в изгибах ветвей. И все же печаль его постепенно расплескивалась, истаивала, уже напоминая истомную слабость выздоравливающего больного. «Неужели и правда все проходит? – думал он. – Любовь проходит, и горе, и радость? Но тогда – что же? Тогда зачем все? Чего стоят наши страдания, если их можно прожить и забыть?»
Как-то на улице он встретил своего учителя Павла Григорьевича, последние два года тот был у них классным руководителем. Павел Григорьевич колупался на переходе с двумя тяжелыми авоськами в руках. Федор обрадовался встрече, потому что учитель был умным и дотошным человеком, таким стареньким, ехидным брюзгой с допотопными шуточками. Федор подошел к нему и молча забрал у него сумки.
– Ждете, пока вас машина собьет? – вежливо поинтересовался Федор.
– Я всегда предполагал, что ты способен на добрый поступок, – усмехнулся учитель. – Возмужал, вижу. Не женился еще? Школу вспоминаешь?
– Дурак я был, – признался Федор. – Все мы были дураками, Павел Григорьевич. А некоторые так ими и остались. Да и можно ли наверстать то, что упущено.
– Но ты-то поумнел, а?
Федор ответил после паузы:
– Нет, не поумнел. Скажите, Павел Григорьевич, а ведь есть, наверное, такие книги: прочитаешь – и все поймешь?
– Что – все?
– Ну, про себя, про жизнь.
Учитель стал серьезен, почувствовав в голосе бывшего ученика тягостную ноту.
– Трудно ответить на твой вопрос. В общем-то книги не открывают никаких секретов. Но если много читать, то постепенно повышается уровень осмысления жизни, во всяком случае, хотелось бы в это верить… Что же касается твоего вопроса… Каждый человек сам находит свои главные книги.
– На черном рынке? – пошутил Федор. Учитель шутки не принял.
– Для меня есть две великие книги.
– Какие? – поторопился спросить Федор.
– "Капитал" Маркса и Библия. Они созданы как бы на двух полюсах земного шара, и если их соединить, получится довольно полная картина мироздания. Но это мое личное мнение, я не хочу его никому навязывать. Ты понял меня?
"Капитал" Федор взял в библиотеке, а Библию позаимствовал у сеструхи, бывшей замужем за кандидатом технических наук. Это была настоящая старинная Библия в кожаном переплете с застежками. Отдавая ее, сеструха сказала, что если с книгой что-нибудь случится, ее не простят. Кандидат шагал в ногу со временем, занимался коллекционированием икон и всяческого антиквариата и на этой почве слегка тронулся. Федора он презирал за невежество.
Несколько вечеров Федор добросовестно сидел над Библией – ничего не понял. Не продрался дальше двадцати страниц. То же случилось и с "Капиталом". "Или учитель надо мной посмеялся, – решил Федор. – Или я еще глупее, чем кажется…"
Томимый воспоминаниями о бесплодных усилиях любви, Федор за день до Нового года купил в галантерее янтарные бусы за сорок рублей и поехал в аптеку. Внутрь не зашел, обосновался неподалеку в сквере, так, чтобы видна была входная дверь. Намеревался побыть тут минут десять, выкурить сигарету, потом зайти в аптеку, поздравить Анюту с Новым годом, пожелать ей счастья и удалиться восвояси. Однако сидеть на скамейке, ловя губами сухие, прохладно сладкие звездочки снега, негусто сыпавшиеся с неба, оказалось так замечательно, что он задержался значительно дольше, чем предполагал. Собственно, Федор не знал, сколько времени тут пробыл. Как-то легко погрузился в волшебное оцепенение, сквозь которое не проникали звуки города.
Когда Анюта показалась в проеме аптечных дверей, он мгновенно очнулся, тряхнул головой, шевельнулся, и скамейка морозно пискнула. Анюта торопилась к нему, размахивая спортивной сумкой, при каждом шаге далеко распахивая полы дубленки.
– Горе ты мое! – крикнула она подойдя. – А я не поверила. Подружка говорит, выйди, твой сидит на лавочке, окоченел. Ты ненормальный, да? Погляди, белые пятна на щеках. Ох, боже мой!
Анюта зачерпнула пригоршню снега и начала так тереть его щеки, что треск пошел окрест.
– Не надо, – попросил Федор. – Хотя и приятно, но больно. Не надо!
– Скажи, ты ненормальный? Ненормальный, да?
– Наверное.
– Надеюсь, не буйный?
– Тебе бояться нечего… Знаешь, Анюта, я и правда вроде замерзать начал. Но все время следил за дверью, когда ты выйдешь. Чудно! Может, я и в самом деле рехнулся.
Она опустилась на краешек скамейки, испуганно заглядывала ему в глаза. Это был удобный момент, и он им воспользовался. Потянул за ворот дубленки и прижался к ее лицу. Поцеловать не мог, губы одеревенели.
– Пусти! – сказала она. – Видно же все.
– Я ведь как думал, Анюта. Я думал, что, если вот так с тобой буду сидеть, помру от радости.
– Не помер? А ведь у тебя, Феденька, очень опасный для девушек язык. Сразу и не подумаешь. Ну пусти же, прошу тебя!
Он разжал пальцы и с удивлением огляделся. Стемнело. Город напитался чернотой. Навстречу черноте дома выстреливали электрическими вспышками окон. Улица колебалась лоснящейся чертой между мраком и светом. Рельефно проступали очертания крыш, антенн, деревьев. Тормоза проскальзывающих машин, голоса детей, скрип снега под ногами – все звуки вечернего города висели в воздухе подолгу, как сосульки, и гулко отдавались в ушах. Федору показалось, что он смотрит вокруг через сильное увеличительное стекло. Анюта никуда почему-то не спешила и его не торопила, но это Федора не особенно и волновало. Рядом с ним сидела совсем не та девушка, из-за которой он так измучился за долгие месяцы. У прежней Анюты были другие глаза, и она не могла сказать: "Горе ты мое!" Его душа ныла от окончательного расставания с той, ускользнувшей навеки. А к этой Анюте, которую можно было притянуть к себе за воротник дубленки, надо было еще привыкнуть.
– Анюта, – сказал он. – Что-то случилось, да?
– С кем?
– С тобой. Или с нами. Я тебя вроде не узнаю.
Она состроила обворожительную рожицу и постучала пальчиком себя по лбу. Он видел, что и эта новая Анюта вряд ли сможет его понять. Та не захотела, а эта не сможет. Он снял перчатки, подул на руки, достал из кармана коробочку с бусами и протянул ей.
– Что это?
– С Новым годом, Анюта! Так уж водится.
Девушка, смущенно и недоверчиво улыбаясь, открыла коробочку, и тусклый янтарь потек в ее ладонь.
– Ой, Федя! Ты что? Я не могу принять такой подарок.
– Почему?
– Это обязывает, – ответила она жеманно.
"Да она же совсем еще глупенькая!" – с облегчением подумал Федор. Что-то в нем стронулось с тормозов, точно мышка пискнула, счастливо выбравшись из мышеловки. И в тот же миг невероятная нежность к этой девушке оплавила его сознание электрическим током. Федор насупился, стал суров и сдержан, как положено мужчине.
– К чему это тебя обязывает? – спросил он.
– Ну-у, вообще… так не принято… это же очень дорогие бусы.
– Очень дельное объяснение. Ты домой собираешься?
– Куда же я, по-твоему, иду с работы?
Он понял, что Анюта слабо пытается перехватить инициативу. Поздно. Она потеряла над ним свою абсолютную, монаршую власть, и игра пошла по новым правилам. Он пытался выискать, угадать в себе праздник, которого так долго ждал, но душа его была нема. Он еще не ведал, конечно, что, как всякий человек, достигший давно и желанно поставленной цели, он бредет сейчас по узенькой тропке, где с одного края – обрыв в разочарование, зато с другого – вершины зарождающихся заново желаний и чувств.
Около ее дома Федор спросил, предугадывая ответ и не опасаясь ошибиться:
– Ты не будешь возражать, если мы вместе встретим Новый год? У тебя нет никаких планов?
– Почему это нету?
– В ресторане можно будет посидеть. Или где хочешь.
Анюта опять, как раньше на скамейке, поглядела на него с испуганным прищуром. Он с рассеянным видом оглянулся на автобусную остановку.
– Хорошо, позвони завтра утром, я тогда буду точно знать.
На прощанье Федор пожал ей руку.
Он почти бежал по городу, пугая прохожих блаженной улыбкой.
Испытываемое им ощущение полноты и непостижимости бытия раскачивало его из стороны в сторону, как лодку на вспененных ветром волнах. И жутковато было сознавать, что у реки, по которой он пустился в плаванье, не один, не два, а, наверное, множество далеких цветущих берегов.
1978
Поздно или рано
В конце апреля умер веселый Гриша Худяков, тридцатилетний учитель.
Жена Клава мертвого мужа схоронила, а сама осталась жить дальше. Валерик смерти отца полностью не осмыслил и решил, что папа куда-то уехал, скорее всего лечиться в больницу.
Много вечеров и дней Клава провела дома, часами глядела в зеркало на свое узкое, худое лицо и видела далеко в своих глазах удивительные слезы.
Ей было двадцать шесть лет. Измученная болезнью мужа, она робко отдыхала. Окончательно освобожденный Валерик приходил домой запоздно, пил чай и молча ложился в постель.
– Почитать тебе? – спрашивала Клава.
– Да, мама.
Она читала ему первый попавшийся журнал, он быстро засыпал, скривив губы, согнув ноги к животу. В спящем лице его плавали суровые взрослые сны. "Ох, – думала Клава, – боже мой! Что же это, боже мой? Как это?"
Она бесшумно раздевалась, вползала под одеяло к сыну и лежала в темноте с открытыми глазами.
В городе у нее не было родных. Она, девчонка, приехала с Севера за красивой вольной жизнью. Давным-давно. Где-то около тайги остался буйный пьяный отец и его расторопная сожительница. Матери Клава не видела и даже толком не сумела узнать, где и кто ее настоящая мать.
Она зарабатывала сто пятьдесят рублей на пыльном цементном заводе, нигде не училась, ничего не ожидала, ни о чем не сожалела.
Она думала, что всю жизнь проживет за мужем, но теперь все переменилось, и она не предугадывала продолжения своей судьбы.
В субботу вечером, когда Валерик уснул, Клава накрасилась, нацепила серьги и отправилась в единственный в городе ресторан "Кристалл". Она не говорила больному мужу, но ей давно хотелось побывать там, выпить вина и увидеть что-то прекрасное, вольное и чарующее, доступное вольным людям, то, собственно, что и есть удача и счастье.
И вот она наконец получила возможность вернуться в сверкающий, звучащий мир, откуда ее так намертво вырвали в свое время замужество, ребенок.
Ресторан "Кристалл" по субботнему делу переполненно копошился и вываливал в весенний воздух прогорклый дым.
Клава еле прокралась на свободное место у самого оркестрового помоста, спросила разрешения и подсела за столик к двум мужчинам. Те суетно обрадовались, увидев худую, яркую, странно выглядевшую женщину, и тут же предложили ей водки. Они были не пьяны и вежливы, с удивлением разглядывали Клаву.
– Выпейте скорее! – сказал один, длинношеий, с тупым утиным носом. "По носу ему будто лошадь лягнула", – с огорчением подумала Клава. Пораженные нервы ее туго звенели, как струны.
– Спасибо, спасибо…
– За спасибо… – смачно хотел пошутить утиный нос, но друг остановил его.
– Не надо, – сказал он. – Девушке не до шуток.
Клава успокоенно ответила взглядом на добрый взгляд, протянула руку и приветливо спросила:
– А за что мы выпьем? ("Как там Валерик?" – вспомнила она.)
– Выпьем за любовь! – все-таки успел нагло подшутить утиный нос, но тот, второй, опять перехватил удар. У него был свой метод обходительного знакомства.
– Меня зовут Павел, – мягко произнес он. – А это Виктор. Выпьем за то, чтобы хотя на сегодняшний вечер забылось все плохое.
– Давайте, – кивнула ему Клава, и они выпили вместе.
На сцену выскочили ребята-оркестранты. Певичка в синем платье тягуче запела.
Клаве стало хорошо. Ужас последних событий, опухолью давивший изнутри, отступил, подтаял. Она наслаждалась пустотой, окутавшей ее мозг, впитывала звуки оркестра, с умилением оглядывала деревянные резные стены, щурила глаза от изумительного света бежевых люстр. Павел велел ей потанцевать с ним. Она качалась в мужских неторопливых руках, ловила незнакомые взгляды, – ох, господи! – как это хорошо ей пришлось, как кстати.
– Мой друг немножко грубоват, – шептал партнер Павел. – Но мы от него сбежим. Верно?
Клава, бледнея от радости, кивала, кивала не ему, Павлу, неизвестно кому. Она все перезабыла и не хотела вспоминать.
– Вы такая девушка, – шептал соблазнитель. – В вас есть страсть и характер. Это такая редкость теперь, в наши скучные дни. Вы, наверное, умеете любить?.. Не отвечайте, не надо… Мы возьмем сейчас бутылку вина или водки и пойдем скорее ко мне. Скорее, Клава! Как повезло нам, что мы встретились, верно?
Оркестр доиграл.
– У меня, к сожалению, недавно умер муж, – сказала Клава. – И сейчас я пойду домой к маленькому Валерику. Спасибо вам…
И она побрела через зал, страшная она была со стороны, накрашенная, с красным лицом.
Павел догнал ее у выхода и, зло впиваясь в нее глазами, сказал:
– Не надо идти. Если он умер, ну и черт с ним. Оставьте его мертвым. Мы-то живы.
Клава заплакала и отодвинула его руки.
Она бежала по темному городу. "Валерик, Валерик, – билось в голове. – Я больше не буду. Мы вдвоем станем. Все наладится, все еще наладится".
Сердце ее трепетало.
Утром Валерик сказал:
– Мам, сходи-ка ты в школу.
– Зачем?
– Что-то тебя Митрий Митрич зовет.
"Господи, – обмерла Клава, – Этого еще не хватало, господи!"
К Дмитрию Дмитриевичу Треневу, классному руководителю сына, раньше на вызовы ходил всегда муж Худяков. Ходил частенько. Валерик в школе не дремал. По рассказу мужа она представляла себе Тренева злобным тупым чудовищем.
– Что ты там сделал? – спросила она невозмутимого Валерика.
– Дал Вальке Клюшке чернильницей по башке, – сказал гармонично развитый ребенок и, подумав, добавил – Все чернила вытекли на парту. Эх!
– Это как же? За что? – не поняла Клава.
– Чтобы не думала о себе…
Клава шла после работы в школу медленно, не спешила. Капало с крыш. Прозрачные, холодные лужи блестели на мостовой. Она думала, что теперь, видать, пропал Валерик. Разве вырастит она его, баба, как мог вырастить Гриша. Да никогда.
А от Гриши ничего не осталось. Вот как. Он дома умер. Перед самым тем, как умереть, Гриша вскочил из постели, повис у нее на плечах, сдавил руками, зашептал жарко:
– Ой, Клава, как страшно! Как страшно, Клава!
И тут же успокоился.
Клава стала в сторонке, к табачному ларьку, постояла.
"Зачем иду в школу, – подумала она вяло, – такая?"
Дмитрий Дмитриевич Тренев принял Клаву в своем физическом кабинете, где пахло электричеством, а по стенкам висели разные инструменты и графики, подействовавшие на Клаву удручающе. Но сам Тренев оказался милым юношей, наверное, Гришиным ровесником, подстриженным почти наголо, с круглой, как у Котовского, головой. Он знал, конечно, о том, что Клавин муж уже больше не среди живых, и поэтому смотрел на нее с уважением и воодушевлением.
– Ваш сын удивительный мальчик, – сказал он.
"Еще чего натворил Валерка?" – с испугом подумала Клава.
Тренев усадил ее на стул, а сам шагал перед ней, размахивал короткими руками почти до лица. Он сказал большую речь. Глаза его горели странным динамическим огнем, опять, как у Гриши.
– Что есть человек, Клавдия Андреевна? Человек сам по себе не добро и не зло. Человек – это аппарат для осуществления добра и зла. Один и тот же человек творит то доброе, то очень злое. И это непонятно, если смотреть с предубеждением.
Но надо смотреть объективно. И тогда окажется, чем ярче личность, тем она противоречивее. Разнобой в желаниях и поступках.
Обычно это не так заметно у взрослых, мы подчиняемся необходимым общественным условностям. Дети – проще. Они не подчиняются, они – приспосабливаются иногда, но остаются себе на уме.
Ваш Валерик – самое удивительное противоречие, которое я только видел. Он весь непостоянство. Может быть, он гений, понимаете?
Понимаете меня? Он, мальчишка, не считает нужным приспосабливаться, а живет по каким-то своим собственным законам. Чувствуете? Собственным!
– Что же мне теперь, лупить, может, его чаще? – робко спросила Клава, поражаясь горячности и блеску глаз учителя и в то же время чувствуя непонятную гордость за Валерика.
– Ах, нет, не то! – почти кричал Тренев. – Как это неправильно, что вы говорите. Дети – сложный, очень сложный аппарат, чуть что не так – ломается навсегда. Понимаете?
"Читайте Сухомлинского!" – вспомнила вдруг Клава, и горячая волна жалости к умершему Грише окутала ее.
– А почему вы никак с моим Григорием не ладили? – спросила она.
Тренев от неожиданности поперхнулся, слегка покраснел. Ему нравилось узкое, внимательное лицо Клавы.
– Он был радикал, – вдумчиво ответил Тренев. – Не признавал компромиссов. Понимаете, это хорошо на войне, допустим, но не в воспитании детей… Он ведь и Валеру неправильно вел, вы поймите.
– Нет, – сказала Клава, – правильно.
Она встала, неловко кивнула и пошла к двери. Тренев, смущенный, семенил за ней.
– Не обижайтесь, – говорил он. – Мальчик у вас просто прекрасный, прекрасный!
"Зачем я осталась одна, – думала Клава, – пропадет мой дорогой Валерик. Не управлюсь я с ним. Гриша плохо подумает", – она спохватилась, что Гриша уже ничего не подумает, его нет. И он был, она знала. Был он, она и сын. А вот больше ничего не было, действительно.
"Как же я с ним буду теперь? – думала Клава. – Целый день на заводе. Да и молодая я еще. Куда мне? А?"
Валерик резвился во дворе среди ровесников. Клава понаблюдала за ним издали – худым, в стареньком облезлом пальто, подвижным, – потом подошла и сказала:
– Пойдем, сыночек, домой. Поговорить нам с тобой надо.
Валерик покривился, по кивнул, побрел, стесняясь приказа, поодаль.
Дома, в пустой светлой комнате, Клава усадила его на диван и сама села рядом. Долго она не находила слов, да и не знала толком, о чем говорить. Сын смотрел на нее серьезно и, казалось, с сочувствием.
– Тебя, мам, учитель напугал? – спросил он.
– Да, малыш. Он мне сказал… Он просил, чтобы ты стал лучше.
Валерик усмехнулся.
– Он всем так говорит. Ты, мама, не думай об этом. Дети все одинаковые, шалят. Вот когда я еще немного вырасту, тогда буду лучше. Ведь так?
Клава боялась опять расплакаться от беспомощности, от любви, от тоски.
– Ты уже взрослый, Валера. У нас папы нет, ты знаешь. Мы вдвоем. А я, милый, слабая. Я не смогу тебя правильно воспитать. И если ты вырастешь плохим, я умру!
Она всхлипнула, давясь слезами, как тестом, грудь ее вздымалась.
– Ну что ты, что ты, мама. Не плачь! Я так буду делать, как ты хочешь…
Глаза его ответно намокли.
– Ты решил сегодня задачу? – успокаиваясь, наугад спросила Клава.
Валерик встал и побрел на кухню. Минут десять Клава посидела одна, потом заглянула. Сын склонился над тетрадью, что-то писал. Губы его подрагивали, лицо суровое, тонкое.
Она поставила чайник, достала мясорубку и начала провертывать мясо на котлеты.
Через час Валерик молча отдал ей тетрадку и учебник. Сам сел опять за стол. Клава читала отмеченную задачку, но не могла понять ее смысл. Она делала вид, что понимает, испуганно поглядывала на сына.
– Все правильно, не думай, – сочувственно и твердо сказал Валерик.
– Я вижу, – ответила Клава. – Теперь, если хочешь, иди гулять.
– Не хочу.
– Чего же ты хочешь? Кушать? Еще не готово.
– Я не хочу есть.
– Тогда иди в комнату. Уроки – это все?
– Папа смотрел дневник.
– Давай дневник.
Он принес. Открыл на нужной странице. Там была запись: "На уроке рисования играл в морской бой. На замечание нагрубил. Подпись".
– Ты нагрубил учителю?
– Я сказал ему, что мне надоело рисовать его цветочки. Пусть сам их рисует. Настоящие художники рисуют большие яркие картины с красками.
– Учитель хочет постепенно научить тебя рисовать такие картины.
– Папа говорит, надо учиться всему самостоятельно.
– Как это?
– Как? Значит, делать то, что тебе нравится.
– Всегда?
– Да.
– А если тебе понравится уйти из школы в кино?
– Я уйду.
– Нет!
– Да.
– Ты не должен уходить.
– Почему?
Она не нашлась сразу ответить. Гриша Худяков стоял за ее спиной, больной, и ждал.
– Только не плачь! – попросил Валерик.
– Я хочу, чтобы ты меня слушался.
– А ты меня, мама. Так говорит папа. Он говорит, что свобода делает только из человека человека. Только свобода.
Больше Клава не могла спорить. Она видела перед собой единственно любимого человека, рыжую голову, синие злые удивленные глаза и с ужасом чувствовала вдруг, что этот маленький человек, может быть, давно умнее и сильнее ее. И ей надо было учиться всему заново. Тогда она повторила свой главный страшный довод:
– Если ты не будешь меня слушаться, Валерик, я умру.
И она, правда, готова была умереть.
– Не надо, – ответил Валерик. – Я буду тебя слушаться всегда. Потому что я тебя люблю!
Он приблизился к ней и обнял ее, уткнувшись носом в живот, покорный.
"Неужели нигде нет Гриши?" – подумала Клава спокойно.
1972








