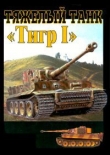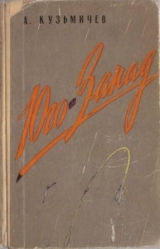
Текст книги "Юго-запад"
Автор книги: Анатолий Кузьмичев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 30 страниц)
Штаб батальона опять разместился в бункере. Но этот бункер но был похож на тот, в котором штаб находился перед штурмом Геллерта. Разделенный толстыми каменными простенками па бесчисленное множество отсеков, он был набит перепуганными молчаливыми людьми. Старики, женщины, ребятишки, надевшие на себя все теплое, принесшие с собой перины, матрацы, подушки, одеяла, боязливо жались к мокрым холодным степам. Когда Талащенко увидел этих людей впервые, он приказал Чибисову перенести штаб куда-нибудь по соседству. Но командир взвода управления только пожал плечами.
Везде так, товарищ гвардии майор! Еще хуже есть!..
Возвращаясь в штаб после разговора с Кравчуком, командир батальона чувствовал на себе настороженные взгляды десятков пар глаз. Он старался не глядеть на теснившихся вдоль стен людей, прибавил шагу и у тяжелой, обитой железом двери в штабной отсек невольно остановился. Не замечая его, шофер батальонной рации, пожилой и добродушный солдат, посвечивая фонариком, показывал какие-то замусоленные картинки и бумажки двум черноглазым мальчуганам лет по пяти.
И углу отсека, занятого штабом, забрав себе единственную лампу-гильзy, сидел над картой капитан Уваров. «Одна лампа, подумал комбат. —Эх, Саша, Саша!.. Ты никогда не допустил бы такого!.. »
Он подошел к Уварову, молча поглядел через его плечо на схему батальонного участка, которую тот уже заканчивал, потом спросил:
А где Краснов?
– В первой роте.
– Добре. Начнем и мы с Бельского.
Когда они вышли, над Будой уже висела черная безлунная ночь. Падал тихий, редкий снежок. Перестрелки почти не было слышно, только иногда нет-нет да и раздавалась где-то впереди короткая пулеметная очередь. В стороне переднего края, невидимые за зданиями, взлетали осветительные ракеты, и тогда на темном фоне неба отчетливей вырисовывались безмолвные громады домов и тускло серебрились косо летящие к земле снежинки.
Уваров, шедший впереди, остановился, подождал командира батальона:
– По проводу пойдем, товарищ гвардии майор?
– Добре! Пойдем по проводу.
Начальник штаба опять пошел первым. Его невысокая плотная фигура смутно мелькала впереди, шагах в десяти от Талащенко.
Справа, на параллельной улице, один за другим раздались несколько звонких минометных выстрелов. «Минрота соседа, – догадался Талащенко. – Пристреливает цели. Сейчас немец начнет отвечать».
Он прибавил шагу, решив догнать Уварова. И в эту секунду яркая вспышка взрыва с железным грохотом полыхнула там, где, держась за провод, шел начальник штаба. Падая на заснеженный скользкий тротуар, командир батальона увидел впереди метнувшуюся куда-то темную фигуру Уварова. Запахло гарью. Талащенко хотел подняться, но успел только встать на одно колено. Где-то рядом опять ухнул снаряд, и упругая взрывная волна отшвырнула комбата к черной каменной стене дома...
Последнюю партию раненых отправили в медсанбат, и капитан Сухов, холодно посмотрев на Катю сквозь стекла очков, сказал:
– Идите пока отдыхайте. Если понадобитесь, вас разбудят.
Сухов держался теперь с ней строго и официально. После того разговора в Бичке, когда он отказался отпустить ее в батальон вместо Славинской, командир санроты больше ни разу не показывал ей, что творится у пего в душе. Правда, иногда ей казалось, что в нем ещё теплится прежняя безответная нежность к ней, но стоило им только встретиться взглядами, глаза командира роты глядели па нее непроницаемо холодно, ничего не говоря и ни о чем но спрашивая...
Проснулась Катя от холода. Шинелька, которой она укрывалась, сползла на грязный цементный пол бункера. Железная дверь в длинный гулкий коридор была открыта, и там, в коридоре, кто-то негромко разговаривал. Прислушавшись, Катя узнала басовитый голос Славинской и другой – тоненький, тревожный– Галочки Лариной,
– Сюда, сюда! Скорей!
– Осторожно, не дрова!
– Ой, он без памяти...
– Быстро! Стол, свет!
Это уже сказал Сухов.
Что там такое? »
Ничего но понимая, только чувствуя в душе какую-то необъяснимую странную тревогу, Катя быстро натянула сапожки, подхватила шинель и вышла. В коридоре уже никого не было. Потом послышался шум шагов. Из отсека слева вышел человек в танковом шлеме и, остановившись, стал натягивать перчатки.
– Вы кого ищете? – спросила Катя.
– Никого. Раненого к вам привез. С донесением ехал и наткнулся. – Танкист козырнул, – Счастливо оставаться, красавица! Спешу!
В перевязочной под сводчатым потолком ярко горела маленькая электрическая лампочка. Катя подошла к высокому столу, возле которого уже возились Сухов и Славинская, и замерла в двух шагах от него: там, на столе, неподвижный и до странности чужой, лежал Талащенко. Желтое заострившееся лицо. Багровый кровоподтек на левой скуле. Закрытые, ввалившиеся глаза.
Кто-то мягко взял Катю за локоть, и она услышала тихий, прежний голос Сухова.
– Вам лучше уйти, – сказал командир санроты.
Но она не двинулась и не оглянулась, словно оцепенев. Она ждала. Ждала, что вот сейчас Талащенко очнется, откроет глаза, чуть склонит голову набок и узнает ее. Но он был неподвижен. Страшно неподвижен. Как мертвый.
Катя отвернулась и медленно вышла в соседнюю с перевязочной комнату. Здесь, расстелив на полу плащ-палатку, Кулешов чинил поломавшиеся носилки, а за низеньким столиком, близко пододвинув к себе свечку, что-то писала Галечка Ларина.
На столике лежали документы Талащенко: удостоверение личности, орденская книжка, партбилет. Катя машинально взяла коричневую книжечку с тисненой надписью «ВКП(б)», раскрыла ее. На стол упала небольшая, в половину почтовой открытки, фотография. Пышноволосая красивая женщина и очень похожая на нее девочка лет двух с белым бантом в темных кудряшках. На обороте карточки написано: «Дорогому мужу, милому папке. Любим и ждем. Олеся большая и Олеся маленькая».
7
Машина старшины приткнулась к уцелевшей от обстрела стене каменного дома на углу улицы. Из котлов валил пар, и раскрасневшийся Карпенко в натянутом на ватник белом халате ловко орудовал медным, начищенным до блеска черпаком с длинной деревянной ручкой. Солдаты стояли в очереди за завтраком, продрогшие, злые и неразговорчивые, с посиневшими от сырого ветра лицами, с красными, сонными глазами.
Перед самым концом завтрака возле кухни появился сосредоточенный и не в меру серьезный Авдошин. Старшина Никандров, тоже решивший наконец позавтракать, продолжая жевать, с минуту внимательно разглядывал его, потом Спросил:
– Чего опоздал-то? Я уж тут забеспокоился. Карпенко мировую кашу сварил, а благодарность от лица службы ему еще пока никто не вынес.
Помкомвзвода, подав Карпенко свой котелок, сел рядом со старшиной.
– У командира роты сейчас был, – сказал он. – Беседовали.
– Видать, по важным вопросам? – съязвил Никандров,
– Уходит от нас гвардии капитан.
Старшина перестал жевать:
– Как так уходит?
– Комбатом назначили. А лейтенант Махоркин на роту идет. На нашу.
– А ты – на взвод?
– Да я отказывался. А гвардии капитан говорит – приказ! А раз приказ, тут уж не рыпайся!..
– Это точно, не рыпайся.
Подошел Карпенко, поставил Авдошину на колени котелок.
– Куда ты мне столько? – взглянул на него помкомвзвода.
– Должность-то у вас теперь большая. Ответственность – тоже. Так шо пидкрипляйтесь, товарищ гвардии сержант.
– У него от этой ответственности, похоже, аппетит пропал, – вытирая усы, усмехнулся Никандров и вдруг хлопнул Авдошина по плечу. – Ничего, Ванюша, справишься! Дадут тебе одну звездочку на погоны для начала, а война кончится, в академию поедешь! Глядишь, будет у нас в Ивановке свой генерал, а?
– До генерала всю землю па белом свете перекопаешь, – ответил Авдошин, принимаясь за кашу. – А насчёт ответственности – это факт. Взвод не отделение...
– До Махоркина командовал? Командовал! Ну и теперь покомандуешь.
– Тут уж хочешь не хочешь, а придется.
***
Поздно вечером Виктор Мазников вывел свою роту в Будапешт в боевые порядки первого мотострелкового батальона, командир которого, капитан, назвавший себя Бельским, помог ему разобраться в обстановке и указал наиболее удобные, по его мнению, позиции для машин – на перекрестках и развилках улиц, под прикрытием каменных зданий.
Центр Буды, ближе к Дунаю, отсвечивал в небо заревами негаснущих пожаров, и с наблюдательного пункта Вельского на третьем этаже дома была хорошо видна безмолвная, застывшая на черном холме громада королевского дворца, таинственная и настороженная, со дня на день ожидающая штурма. Изредка, то ближе, то дальше от НП, слышалась автоматная перестрелка. С той стороны Дуная, из Пешта, по остававшимся у противника районам Буды били тяжелые орудия
– Последние деньки доживает, —глядя на красное, словно колышущееся небо, негромко сказал Бельский. —В бункера уходит, под землю.
Мазников тоже посмотрел на зарево, потом на темный силуэт королевского дворца.
– Контратакует?
– Редко. Но цепляется за каждый дом, за каждый подвал. Тут даже авиазавод под землей был. Вчера наша третья рота наткнулась. Электричество, станки, узкоколейка. По последнему слову техники! Мессершмиттовский.
Вернувшись к себе в роту, Виктор приказал Свиридову и новому радисту Каневскому по очереди дежурить у рации и пристроился в танке, на своем сиденье, подремать.
Разбудил его Снегирь. В приоткрытом люке башни серело хмурое утреннее небо. Слова из-за домов доносилась частая автоматно-пулеметная стрельба, опять, как и ночью на холмах Буды, оглушая рассветную тишь, рвались снаряды.
– Товарищ гвардии капитан!
– Ну? В чем дело?
– Овчаров-то... Вот, бачьте. Газета. Только сейчас принесли.
«Овчаров? – удивился Мазников. – При чем тут Овчаров? »
– Какая газета? – спросил он вслух.
– Читайте. Там все... все написано.
Снегирь подал ему в люк чуть надорванную по сгибу газету.
– Лезь, – сказал ему Виктор, – Поместимся. А то какая-нибудь дурная мина...
Они кое-как пристроились на одном сиденье, стараясь не разбудить Арзуманяна, который сладко посапывал на казеннике пушки.
– На второй странице про Овчарова, – сказал Снегирь.
Виктор перевернул газетный лист, и первое, что он увидел в синем холодном свете занимавшегося дня, – небольшой портрет Овчарова, Андрея Овчарова, его командира взвода ?пропавшего без вести две недели назад, вьюжной январской ночью в районе господского двора Петтэнд. Над портретом в одно слово – заголовок статьи «Верность».
Пододвинувшись ближе к люку (так было посветлей), Мазников начал молча читать. Какой-то старший лейтенант Д. Бочарников писал:
«... Несколько дней назад наши танкисты, стремительно продвигаясь вперед, разгромили штаб немецкой части, оборонявшей подступы к городу С. («Наверно, Секешфехервар», – подумал Виктор. ) Среди штабных бумаг, брошенных при отступлении противником, мы нашли измятый окровавленный партбилет № 7112231 на имя Овчарова Андрея Никифоровича и документы, в которых рассказывается о мужестве и героической гибели этого верного патриота Родины. Вот что нам удалось установить, когда эти документы были переведены на русский язык.
В ночь с 24 на 25 января командир танкового взвода гвардии лейтенант Овчаров, будучи тяжело раненным, в бессознательном состоянии был взят в плен и доставлен в штаб впоследствии разгромленной нами немецко-фашистской части. Здесь, когда он пришел в себя, его стали допрашивать, и, как написано в протоколах, на все вопросы фашистских офицеров у него был только один ответ – молчание. На последнем листке протокола синим карандашом по-немецки написано: «Умер во время девятого допроса. Майор К. Брауштеттер. 28. 01. 45. ».
Тела гвардии лейтенанта Овчарова и его могилы мы не нашли, партбилет и другие документы сдали в свой штаб, а маленькую фотокарточку, найденную в обложке партбилета, вместе с этой заметкой посылаем в редакцию. Пусть все наши воины знают, каким отважным и мужественным бойцом был их фронтовой товарищ, коммунист, гвардии лейтенант Овчаров Андрей Никанорович, как непоколебимо и свято он был верен военной присяге, своему воинскому долгу перед партией, Родиной и советским народом! Танкисты нашей части в суровых боях с врагом будут всегда помнить своего дорогого товарища Андрея Овчарова, учиться у него мужеству, стойкости и верности и жестоко отомстят врагу за муки и гибель советского офицера».
Строчки заметки прыгали, двоились перед глазами Виктора, и за их смутной дрожащей рябью ему виделось упрямое, всегда суровое лицо Овчарова. Казалось, даже послышался его голос, простуженный и глуховатый. Вспомнилась ночь на белой снежной равнине под Петтэндом. Машина Овчарова, так же, как и машина Гоциридзе, тогда не вернулась. Перед самым рассветом их вытащили тягачами эвакуаторы-ремонтники, Андрея в сгоревшем танке не было. «Выскочил, —подумал тогда Мазников. – Придет. А если ранен, кто-нибудь из наших подобрал... Или соседи, Сообщат... » Он каждый день ждал, что вот придет в штаб Рудакову из какого-нибудь госпиталя бумажка: «Офицер вашей части гвардии лейтенант Oвчаров А. Н. находится на излечении... » Но такой бумажки не было. Вместо нее вот эта газета с фотографией Овчарова и короткой заметкой о последних днях его жизни.
Проснулся от близкого грохота снаряда черноглазый смуглый Арзуманян. Снегирь взял у Мазникова газету, протянул ему:
– Читай. В нашей роте этот лейтенант служил. И другим потом передай, пусть тоже прочтут.
Когда совсем рассвело, в башню постучали. Виктор высунулся из люка и увидел внизу молоденького, чем-то напоминавшего Снегиря, лейтенанта. Ночью его познакомил с ним капитан Бельский, сказав, что это командир первой роты Махоркин.
– Привет, товарищ гвардии капитан! – улыбаясь, крикнул Махоркин и закинул за спину автомат, прикладом которого он, наверно, и стучал по броне.
– Привет! – невесело ответил Мазников.
– Хотим мы тут один домик у немцев отбить. Поддержите?
– Как положено!
– Тогда через полчасика выдвигайтесь. – Махоркин показал рукой в конец улицы. – Вон туда, к площади. Мы вам цели укажем трассирующими и ракетами. Вы разочка три долбаните!
– Ладно! Долбанем! – Виктор нахмурился и сказал уже больше себе самому: – Мы их сегодня так долбанем, что чертям тошно станет!
«Тридцатьчетверки», лязгая гусеницами по булыжнику, появились на левом фланге роты, там, где залег наготове взвод Авдошина. Одна из них прошла в метре от вывороченной с корнем Каменной афишной тумбы, за которой укрывался помкомвзвода, и, остановившись на углу улицы, стала медленно разворачивать длинный ствол орудия. В сторону противника полетели зеленые ракеты, и одновременно с ними в тe места, где находились немецкие огневые точки, указывая танкистам цели, впились розовые иглы трассирующих пулеметный очередей. Авдошин увидел, как вздрогнула стальная громадина танка, как, выплеснув из дула пушки язык пламени, грохнул выстрел, и стену красною дома напротив заволокло черно-бурое облако разрыва. Он сунул в рот свисток и, подняв солдат его залихватской трелью, побежал вперед. Справа и слева застучали пулеметы, за спиной отрывисто ухали орудия «тридцатьчетверок», слышался тяжелый топот ног и где-то на фланге нестройное протяжное «ура».
Взвод Авдошина ворвался во двор четырехэтажного дома и, группами разделившись по подъездам, рванулся наверх прочесывать этажи и лестничные клетки. Споткнувшись о сорванную с петель дверь, Авдошин забежал в узкий высокий коридор, поднял голову. На всех этажах шла перестрелка. Окна в доме были выбиты, и по лестницам гулял сквозняк. Авдошин поправил каску и, быстро сменив диск автомата, шагнул через несколько ступенек вверх.
Два пистолетных выстрела один за другим щелкнули вдруг справа. Весь сжавшись, Авдошин упал на холодную каменную площадку, огляделся. Внизу, в проломе стены, увидел метнувшуюся мимо темную фигуру. «Немец! » Опять щелкнул выстрел, и пуля впилась за спиной Авдошина в стену, выкрашенную серо-голубой масляной краской. «Т-так, за мной, паразит, охотится! Ну, ладно, мы еще посмотрим, кто кого! » Он дал длинную очередь по краю зиявшей в перегородке дыры и метнулся вниз. Но темная фигура появилась уже в проеме двери, и, прежде чем услышать выстрел, Авдошин почувствовал, как по каске звякнула и рикошетом ушла в сторону пуля.
Немец, мелькнувший в проеме двери, исчез. Помкомвзвода крадучись пробрался вдоль стены коридора к выходу, лег и выглянул наружу. Тот, кто стрелял по нему, пятясь в глубь двора и воровато оглядываясь, менял обойму пистолета. По его шинели с меховым воротником и тонким сапожкам Авдошин догадался, что это не солдат. «Видать, обер... Или гауптман. Попробую живьем». Он вскочил и, вскинув автомат, заорал:
– Хенде хох! Хальт!..
Немец побежал к дому, петляя тонкими длинными ногами. Авдошин взял чуть левее, чтобы пересечь ему дорогу, обогнул какой-то сарайчик и, когда выскочил из-за угла, понял, что его перехитрили, – перед домом и вообще вокруг никого не было. «Ах ты черт! – плюнул помкомвзвода. – Удрал... Но куда же он удрал? Только вон туда, в ту раскрытую дверь... Больше некуда. Видать, только туда».
Подходить к подъезду прямо было рискованно, Авдошин снова обошел сарай, перебежал к углу здания и, пригнувшись, стал пробираться вдоль выщербленной, исковырянной пулями и осколками стены. В коридоре тоже никого не было. «Чудно! Сквозь землю, что ль, провалился? »
Во всем доме стояла тишина, странная среди бушевавшей вокруг стрельбы. Недоумевая, помкомвзвода сдвинул на затылок каску, достал из кармана замызганный платок и начал обстоятельно, не торопясь, вытирать потное лицо. Легкий шорох, похожий на шарканье ног, раздался вдруг у него за спиной. Авдошин винтом обернулся, готовый ко всему, и вместо выстрела, которого он ожидал, услышал негромкий, хриплый голос:
– Товариш...
Перед ним стоял худой оборванный человек в засаленной шляпе. Его ввалившиеся щеки были покрыты густой темной щетиной, на шее висел грязный клетчатый шарф. Черные глаза смотрели умоляюще и печально.
– Товариш... – мадьяр ткнул себя пальцем в грудь и покачал головой. —Ин нем вадьок салашиста [10]10
Я не салашист! (венгерск. )
[Закрыть]! – Он как для молитвы сложил замерзшие красные руки, худые и жилистые, и, не сводя с Авдошина глаз, продолжал: – Герман – бункер, бункер... Эржика – бункер... О! Совьет зольдат – йо!..
Помкомвзвода растерялся:
– Чего? Нем иртем.
– Герман бункер... Эржика – бункер... Пушка пух, пух. – Мадьяр потянул Авдошина за рукав под лестницу. – Бункер! В глазах у него сверкнули слезы. – Товариш!..
«Может, заманить хочет? – подумал Авдошин. – А там какие-нибудь «Скрещенные стрелы»... » Но глаза мадьяра смотрели на него так умоляюще, а в его голосе, трудно произносившем слово товарищ, было столько надежды, что Авдошин махнул рукой. «Ладно, посмотрим. В случае чего – полный диск есть».
Они долго кружили по сумрачным низким коридорам и лестничным клеткам. Под ногами похрустывало битое стекло, опять путались обрывки рваного пестрого тряпья, шуршала бумага. Держа автомат наготове, Авдошин настороженно поглядывал по сторонам. Наконец мадьяр, первым спускавшийся вниз по крутой каменной лестнице, остановился и показал рукой на чуть приоткрытую железную дверь;
– Герман официр – бункер...
Он взялся за толстую ржавую ручку и потянул ее на себя. Дверь тяжело заскрипела, и в ту же секунду внутри подвала гулко хлопнули два пистолетных выстрела, послышались сдавленные женские крики.
«Что за ерунда? »
Вскинув автомат, Авдошин дал наугад короткую очередь в зияющую пустоту двери. Повыше, боясь зацепить прятавшихся в бункере жителей, и, проскочив вперед, упал на цементный пол.
В длинном, как станция метро, подвале стоял душный серый полумрак. Слабый свет еле пробивался в узкие за решетками окна, синевшие высоко под потолком. Авдошин пригляделся и наконец увидел в дальнем от двери углу того самого офицера, который так неожиданно исчез там, наверху, во дворе. Он сидел на корточках и, стреляя, прикрывался чем-то живым, молча и отчаянно бившимся в его левой руке. Авдошин догадался, что это ребенок. «Вот гад, а! »
Он снова дал короткую очередь вверх и переметнулся влево к толстой железобетонной опоре. Немец ответил одним выстрелом. Пуля цокнула в столб прямо над Авдошиным. Он почувствовал гниловатый запах цементной пыли, по сапогам стукнул отвалившийся кусок штукатурки. Опять очередь вверх и опять одинокий выстрел притаившегося в углу немецкого офицера.
«Н-ну, паразит, не на того нарвался! – стиснул зубы Авдошин. – Мы почище тебя видали! »
Патроны у немца кончились на восьмом выстреле, таком же безрезультатном, как и все предыдущие. Отшвырнув пистолет в сторону, он упал на колени и поднял вверх грязные руки. Мадьяр, позвавший Авдошина, бросился к ребенку. Это была девочка, бледная, синеглазая, лет шести. Она не плакала, не кричала, она только тряслась, озираясь по сторонам.
– Не фель, не фель [11]11
Не бойся. (венгерск. )
[Закрыть]! – прижимая ее к себе, говорил человек в засаленной шляпе и клетчатом шарфе.
Не снимая пальца со спускового крючка, Авдошин поднялся, шагнул к немцу. Мадьяр с девочкой, словно что-то вспомнив, очутился рядом и, бормоча «Кессенем! Кессенем! » («Спасибо! Спасибо! »), все порывался поцеловать Авдошину руку.
– Что я, папа римский, чтоб руку мне целовать! – угрюмо отмахнулся тот.
Мадьяр, понявший этот жест по-своему, вдруг распахнул полы потрепанного легкого пальто, порылся в карманах пиджака и протянул помкомвзвода две засаленные стопенговые бумажки.
Авдошин, поморщившись, отвел его руку:
– Эх, люди! Довели вас тут разные хорти да салаши! Деньги мне суете! Не стыдно? Разве я за вашими деньгами сюда пришел! – Он осторожно погладил встрепенувшуюся девочку по черным густым кудряшкам и бледной щеке. – У меня у самого в России такая...
– О! Россия, Россия! – заговорили сразу несколько человек,
– Россия гут!..
– Совьет Россия йо, йо!..
России – вот кому спасибо скажите. – Помкомвзвода повернулся к сидевшему на полу немецкому офицеру. – А ну,.. Ганс!..
Тот вздрогнул, ошалело посмотрел на него и вдруг, зарыдав, пополз к ногам Авдошина,
– Iсh bin kein SS!...
Тот усмехнулся:
– Знаю, какой ты «кайн СС», Может, еще скажешь, что арбайтер?
– Ja, ja, ich bin Arbeiter!..
– Тьфу! – плюнул Авдошин. – Расслюнявился! Истинно сказано, молодец против овец! – Он не без натуги вспомнил несколько нужных ему немецких слов и, отпихнув офицера от своих ног, резко скомандовал: – Штее ауф! Ком!
Немец встал и с поднятыми над головой руками уныло побрел к раскрытой двери. Помкомвзвода пошел за ним, но на пороге обернулся и, забыв, что ого, сказанные по-русски слова вряд ли кто поймёт, бросил в затхлую сырую глубину бункера!
– Вылезайте на свет божий да чистым воздухом подышите! Ведь отмучились!
Бухалов и не заметил, как потерял Авдошина из виду. Он увидел только шинель Гелашвили, мелькнувшую возле углового здания (узнал ее по дырявой, прожженной поле), и остался в переулке один. За поворотом кто-то невидимый заорал «ура». Вверху, в мутном сером небе, засвистела мина.
Бухалов шлепнулся на тротуар, как ящерица, вильнул к фундаменту здания, зажмурился, ожидая взрыва. На крыше дома резко и раскатисто треснуло.
«Вот, дьявол! Чуть не накрыл! Будто видит, где я, и сразу миной... »
Он протер глаза, осмотрелся. Дым и пыль минного разрыва тихо оседали па мокрый блестящий булыжник мостовой. Переулок был по-прежнему пуст. Далеко слева беспрестанно, словно сменяя друг друга, стрекотали автоматы.
«Ладно, на сей раз миновало. – Бухалов поднялся. – Сменю диск, перемотаю портянку и догонять. А то наших только упусти и потом черта с два догонишь! » Магазин автомата он уже расстрелял, а портянка – та беспокоила его с утра. Спешил, когда всех подняли, навернул кое-как, сунул ногу в сапог и бегом.
Он присел на выступ фундамента, поставил автомат рядом и, натужно сопя, начал стягивать сапог. Тот, ушитый для фасона по голенищу знакомым сапожником из бригадной АХЧ [12]12
Административно-хозяйственная часть.
[Закрыть], снимался туго, соскальзывал с носка подставленной под задник другой ноги. Бухалов плюнул от досады, чертыхнулся, хотел было вытереть лившийся из-под ушанки пот, поднял голову и помертвел. Шагах в десяти от него стояли на тротуаре с автоматами наперевес трое вражеских солдат. Правда, почему-то не в обычной своей серо-зеленой форме, а в другой: в песочного цвета шинелях, в смешных картузиках, в ботинках с обмотками, один – в сапогах.
«Т-так-с, дорогой Леня! Перемотал портяночку! – Не отводя глаз от солдат и глупо улыбаясь им, он потянулся правой рукой за автоматом. – Ну чего вылупились? Все равно ж я вам живьем не дамся! Чего зенки свои выкатили? – И тут же вспомнил: магазин-то пустой! – Точка! Влип! Как суслик! »
– Рус зольдат! – сказал вдруг солдат в сапогах. – Наша никс герман! Наша – мадьяр. Наша – русска плен ходить. Хаза... д-домой ходить. Иртем?
– Иртем! – зло кивнул Бухалов, переводя дух и чувствуя, как отходит захолонувшее сердце. – Сейчас! Отправим вас в плен, чтоб вам! Аж в животе зашлось, думал, помирать срок пришел. – Он все-таки стянул сапог, поглядывая на почтительно ожидавших его венгерских солдат. – Сейчас, потерпите малость.
«Фортуна! – усмехнулся Бухалов про себя. – Еще, поди, медаль за это выдадут».
Наконец он переобулся, сменил диск автомата, встал, кивнул венграм:
– Давай вперед!
Те шли покорно, настораживаясь при каждом близком разрыве. На углу переулка остановились. Быстро поговорив о чем-то между собой, все трое хотели было свернуть в темневший слева садик.
– Хальт! – крикнул Бухалов, поднимая автомат. – Это вы куда? Хальт! Иртем?
– Иртем, иртем, – поспешно закивал солдат в сапогах. Он знаками, поочередно тыкая в грудь себя и своих товарищей и отчаянно жестикулируя, объяснил, что пойти должен один, а двое останутся. Бухалов не понял, куда и зачем должен пойти этот солдат, но плюнул и махнул рукой:
– Валяй! Но гляди, далеко все равно не уйдешь, если удрать вздумал.
Солдат ушел, и минут через пять в глубине заснеженного садика показалась целая колонна в песочно-глинистых шинелях. Бухалов только захлопал глазами.
Пленный, тот, что был в сапогах, поглядев на него, сказал какое-то длинное слово, потом подошел к стене дома и грязным красным пальцем написал па ней две цифры – «3» и «8».
– Ага! Тридцать восемь человек! – догадался Бухалов. – Порядок! Честно сказать, немного поздновато спохватились. По лучше поздно, чем никогда.
«Вот это трофейчик! – думал он, шагая позади колонны. – Медаль мне теперь наверняка обеспечена».
8
Гарнизон Буды доживал последние дни. Это было совершенно ясно не только самому генерал-полковнику СС Пфеффер Вильденбруху, по и каждому его солдату. Голод, недостаток боеприпасов и полное крушение всех надежд на спасение окончательно расшатали боевой дух немецких частей. А венгерско-салашистские давно уже не шли в счет: каждое утро в них недосчитывали сотни солдат. Побросав оружие, они бесследно исчезали в городских подземельях. А многие переходили на сторону русских, как та группа в пятьсот человек, которая не только сдалась в плен, но уже и дралась на их стороне два дня назад в районе Политехнического института.
Связь с внешним миром практически прекратилась. Радиостанции Гилле, Балька, командующего группой армий «Юг» Велера молчали, и все призывы радистов штаба 9-го горнострелкового корпуса СС, ядра Будапештской группировки, растворялись в безнадежно глухом молчании эфира. Даже надоевших, бессмысленно-однообразных приказов защищать Будапешт до последнего солдата Пфеффер-Вильденбрух больше уже не получал. Кажется, единственное, чего теперь там, в Берлине, хотели от его войск – это сопротивляться в пределах возможного, чтобы хоть еще на полторы недели, на неделю, на пять дней сковать силы русских здесь, на Дунае, помешать их переброске па другие участки Восточного фронта, трещавшего по всем швам.
Одиннадцатого февраля утром Пфеффер-Вильденбрух пришел на радиостанцию. У него было мало надежды, но он все-таки приказал обросшему, изможденному, с красными усталыми глазами радисту вызывать штаб 6-й армии. Монотонно постукивал телеграфный ключ, от тяжелых разрывов наверху вздрагивали каменные своды подвала, яркий электрический свет резал глаза.
Прошло десять минут, двадцать, тридцать...
Бальк молчал. Вильденбрух понял это по виноватому потному лицу радиста и, ничего не спрашивая, ушел.
Спустя полчаса адъютант командующего связывался по телефону с командирами дивизий и отдельных частей, передавая им приказание Пфеффер-Вильденбруха к семнадцати часам явиться к нему в штаб..,
Последнее совещание длилось не больше часа. Командующий обороной Будапешта, не вставая и ни на кого не глядя, сообщил об обстановке в Буде и о принятом им решении.
– Положение наших войск стало критическим, – сказал он. – Продукты питания, включая все резервы, подходят к концу. Солдат получает пятьдесят граммов хлеба в сутки, Боеприпасов нет. Мне доложено, что на каждый автомат осталось по пятьдесят—шестьдесят патронов. Танки и автомашины но могут двигаться, пет горючего. Полтора месяца мы ждали помощи извне и не дождались ее. Теперь она маловероятна» Русские полностью владеют всеми переправами на Дунае и, надо полагать, перебросили на правый берег значительные силы..
Пфеффер-Вильденбрух замолчал, оглядев сидевших перед ним генералов и офицеров. Желтые худые лица, засаленные мундиры, давно не мытые лоснящиеся волосы, руки с грязными ногтями. Сейчас это не удивило и не возмутило его. Таков был и он сам.
Жестом приказав всем сидеть, он все-таки поднялся, подошел к карте, занимавшей половину стены за его креслом.
– Данные, которыми я располагаю, позволяют мне судить, что части 6-й армии, наиболее близко стоящие к Будапешту, расположены вот здесь, в излучине Дуная, юго-восточнее Эстергома и северо-западнее по отношению к нам. До них здесь – двадцать—двадцать два километра. Я принял решение всеми имеющимися в моем распоряжении силами сегодня ночью прорываться в этом направлении.
По кабинету прокатился шорох. Вильденбрух обернулся:
– Это предпочтительнее капитуляции, господа. И предпочтительнее ожидания. Выход основных наших сил рассчитан на два перехода, каждый ночью. Днем – круговая оборона и отдых. Всех раненых оставляем здесь на милосердие бога и... дружественного нам населения венгерской столицы. Личный состав необходимо разбить на небольшие отряды, во главе которых поставить фельдфебелей и опытных унтер-офицеров. Отдайте приказ: если кто отстанет от своей группы, пусть примыкает к другой или спасается, как сумеет. На большее мы надеяться не можем...
К восьми часам вечера о решении прорываться стало известно во всех частях. На улицах и крохотных площадях в районе королевского дворца спешно комплектовались отряды по двадцать пять – тридцать человек. Каждые шестнадцать солдат получали маленькую буханку черствого хлеба и тут же делили её на пятидесятиграммовые куски. Офицерские команды вылавливали тех, кто пытался укрыться и потом сдаться в плен. Под дулами парабеллумов неудачливых дезертиров рассовывали по отрядам. Раненых бросали в темных бункерах и уходили, не оборачиваясь на их крики и проклятья. У автомашин с пустыми бензобаками распарывали штыками скаты, корёжили все, что можно сломать в моторах. Взрывать их или сжигать было категорически запрещено, что бы не привлечь внимания противника...