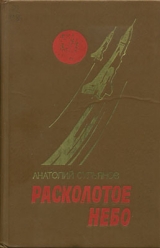
Текст книги "Расколотое небо"
Автор книги: Анатолий Сульянов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 31 страниц)
Милая и родная моему сердцу беспокойная авиационная жизнь! О тебе писали романы и повести, рассказы и стихи, и каждый, кто брался описать эту бурную жизнь, не раз горевал: а зачем я связался с этой авиацией, в которой ни черта не понять? Рядовой летчик вдруг стыдит своего командира за то, что тот, боясь земли, рано вывел из пикирования машину, и пара не выполнила задания на полигоне; командир полка перед строем целует низкорослого, щуплого бедолагу – техника; эскадрилья летчиков вместе с солдатами откапывает из снега занесенные истребители; командир дивизии, генерал, был на рыбалке и, появившись на аэродроме, спрашивает инженера, которого вчера отчитывал за какие-то недостатки: «Спирт далеко? Промерз до костей, согреться надо». И чтобы понять все отличия и удивительные противоречия авиации, надо побыть в ней, и не наездом – полжизни, а лучше и всю жизнь, померзнуть на аэродроме или однажды зайти на посадку с горящим двигателем. Нигде, как в авиации, люди так не близки друг другу, понимают друг друга с одного жеста; нигде так не ругают свою службу, как в авиации, но когда дело доходит до перевода в другую пасть или в наземную службу, то человек, бывает, и слезами умоется, хоть не вспомнит даже, когда в последний раз плакал. Романтика юношества, соединенная с опасностью полета, рождает такой сплав человека и техники, который не боится ни огня, ни страха, ни врага, а сам человек так прикипает сердцем к самолету, что становится и его рабом, и его повелителем. Где он еще увидит густые разливы синевы на высоте двадцати тысяч метров или восход солнца, когда на стыке дня и ночи выходишь из облаков?..
Но кроме поэзии в авиации есть и проза.
В ночь перед Октябрьскими праздниками эскадрилью подняли по тревоге и приказали надеть комбинезоны. Васеев едва растолкал Кочкина: Николай поздно вернулся с танцев, потом долго писал ответное письмо Наде.
Подполковник Фурса стоял в темном углу и молча наблюдал, как при свете керосиновой лампы сонные курсанты, словно телята, натыкались друг на друга, сбивались в кучу, толкались, пока не включили свет и не подали команду «Смирно!». Рядом с ним, нахохлившись, словно старый воробей, стоял Зверев и зевал, обнажая белые зубы и большой розовый язык. От предложения Фурсы возглавить группу курсантов на разгрузке строительного леса и угля Зверев отказался, сославшись на болезнь жены; Фурса настаивать не стал, махнул рукой и приказал вызвать двух инструкторов: Потапенко и Хохрякова из второго звена.
На улице – проливной дождь и холодный ноябрьский ветер. В темноте долго усаживались в кузов ЗИЛа; поднимали воротники шинелей, глубже надвигали шапки, вполголоса ругали железнодорожников («Другого дня не нашлось – под самые Октябрьские праздники!»), ворчали на промозглую погоду. Всем хотелось спать.
Машина тронулась, когда оба инструктора поднялись в кузов; вокруг Потапенко собралась вся группа, ближе других сидели Васеев, Кочкин и Сторожев. Настроение – хуже некуда. Потапенко принялся рассказывать смешные истории из авиационной жизни, многие слушали неохотно, отворачивались, уткнувшись носами в спину соседа. Но постепенно слушающих становилось больше. Подъезжая к разгрузочной площадке, Фурса услышал из кузова дружный смех. «Поднялось настроение у ребят, – подумал комэск. – Молодец Потапенко! Таких вот надо выдвигать по службе – они и настроение людям поднять могут, и авторитетом пользуются. Жаль расставаться с Петром Максимовичем, а придется – опять рапорт написал. В школу испытателей рвется. А курсантов кто учить будет? Сердцем понимаю, что надо отпустить, а ребят на кого оставить?..»
Всех разделили на две группы. Потапенко с курсантами разгружал бревна. Он первым взобрался на верх полувагона, расставил и проинструктировал ребят и взялся за огромное бревно. К нему подскочили курсанты, приподняли кряж, сунули под ствол две жердины. Раз-два, взяли! Ни с места. Потапенко сам взял жердину и, кивнув курсантам, навалился на нее изо всех сил – бревно не двинулось. Кто-то осветил фонариком срез кряжа, прочитал сделанную углем надпись и расхохотался.
– Посмотрите, что написано!
– Читай!
Ночную темноту разорвал взрыв хохота; смеялся и Потапенко находчивости и юмору тех, кто грузил огромное, считай, в два обхвата, бревно.
Пришлось взять еще две жердины. Наконец стронули бревно с места, подкатили к краю полувагона, перевалили на опоры спуска и под радостные возгласы столкнули вниз. За ним второе, третье…
Потапенко расстегнул куртку, вытер лицо и осмотрел курсантов; одни тяжело дышали, широко открывая рты, другие, облокотившись на борт полувагона, безучастно смотрели в темноту. Он похвалил ребят и бодро вскочил на очередной вагон.
Усилился ветер, дождь сек лица и руки, стекал за воротник на шею, холодил спины. В темноте зловеще чернел последний полувагон, а у курсантов почти не оставалось сил; некоторые, не выдержав нагрузки, опустились на спекшийся шлак и отрешенно смотрели, как Потапенко взбирался по металлическим скобам наверх.
Поднимаясь, Потапенко оглянулся, и его охватило неприятное чувство. Он больше всего боялся, что его курсанты не пойдут за ним. Они должны подняться, чего бы это ни стоило, иначе зря отдавал он им свои знания, зря учил их. Страх за близких ему людей расслабил Петра Максимовича, он едва добрался до верха полувагона. «Нет, сам я не отступлю. Сам, если потребуется, буду сгружать до последней лесины, сдохну здесь, но выгружу. А они… Они-то как будут потом в глаза смотреть? Как мне с ними работать, если не поднимутся сейчас?!»
Курсанты сидели, словно окаменев. Потапенко почувствовал себя виноватым. «Что-то я, наверно, сделал не так. Не разглядел. Иначе встали бы, не дожидаясь приказа. Приказать – не фокус. Мне важно другое…»
Слезились глаза, подрагивали пальцы, стучало в висках. Он снова посмотрел вниз и почувствовал себя одиноким, как в ту ночь, когда после отказа управления спускался на парашюте над зловеще-темной, притихшей пустыней. Ни огонька, ни селения, ни дороги, только сыпучий песок, из которого едва вытащил ноги. Натерпелся тогда страху, намучился без воды… Вспомнил – и в горле пересохло. Открыл рот и начал жадно хватать капли дождя. Затем сел на скользкое от дождя бревно, сцепив руки, и опустил на грудь голову.
Очнулся Петр Максимович от стука подошв о железные скобы вагона. Медленно открыл глаза. Перед ним стоял Васеев, по скобам поднимались Сторожев и Кочкин. Он смотрел на них, испытывая чувство радости и облегчения. Все правильно, ребята. Я верил в вас. Я знал, что вы не подведете.
Геннадий едва держался на ногах от усталости. Болели спина и ноги, хотелось свалиться на теплый еще шлак и уснуть. Хоть на несколько минут, хотя бы присесть или просто опереться на что-то. Он не чувствовал ни холода, ни пронизывающего ветра, ни стекавших вдоль тела капель дождя; он видел рядом с собой Потапенко и знал, что не отступит, а если отступит – никогда себе этого не простит.
Никто не произнес ни слова. Вчетвером они начали сбрасывать бревна вниз, подолгу отдыхая после каждого поднятого ствола; испарина покрыла их лица и, перемешанная с дождем, слепила. Ребята внизу откатывали бревна дальше.
– Ребята, – сдавленным пересохшим голосом неожиданно прохрипел Потапенко, выпрямившись во весь рост. – Посмотрите на восток.
Курсанты и на полувагоне, и внизу одновременно повернули головы. Из-под темного небосвода виднелась узкая светло-розовая полоска; она ширилась, словно приподнимала тяжелый ночной небесный полог, свет становился гуще, набирал силу, прорывался сквозь бетонную толщу темноты и облаков.
– День настает. И какой день! 7 Ноября! – Петр Максимович потер негнущиеся руки. – Начнем штурм. Последний! Тут всего десятка два осталось. – Взял жердину, подошел к бревну, нагнулся. – Раз-два! Взяли!
Бревно легло на направляющие и скользнуло вниз. Потапенко напрягся, перехватил жердину поудобнее и двинул очередную лесину.
Построение было кратким. Фурса, промокший до нитки, измученный и уставший, опустил воротник, сдвинул козырек фуражки, приоткрыв лицо, и глухо произнес:
– Всем объявляю благодарность!
Строй колыхнулся, и над станционной утренней тишиной громко пронеслось:
– Служим Советскому Союзу!
Потапенко подошел к командиру эскадрильи, что-то сказал ему. Фурса согласно кивнул.
– Васеев, Сторожев, Кочкин – за мной!
Курсанты недоуменно переглянулись, вышли из строя и двинулись вслед за Потапенко. Вышли на улицу, свернули в переулок и долго шли в густом тумане.
Остановились возле крытого железом дома.
– Куда, товарищ капитан? – удивленно спросил Кочкин.
– Ко мне. Пить чай. Сегодня же праздник! – Потапенко открыл дверь, и курсанты один за другим вошли в дом через застекленную широкую террасу.
Их встретила сонная, в наброшенном на плечи халате жена Потапенко. Недоуменно посмотрела на мокрых, грязных ребят, на такого же мокрого и грязного мужа.
– Работу закончили. Намерзлись, устали. Готовь, Лиза, чай. Угощай ребят праздничным пирогом – теща не зря старалась.
Когда сели за стол, Петр Максимович не без гордости в голосе сказал Лизе и теще, кивнув на притихших ребят:
– Хорошо хлопцы поработали! – И подумал о трудной ночи. Себя победили. Дружнее и мужественнее стали. Теперь с каждым можно пойти в разведку, а подучатся – и на боевое задание, как в Отечественную. Надежные ведомые, наверняка прикроют в бою. Теперь – наверняка. Теперь в каждом уверен…
И кто знает, думал Потапенко, может, именно этой ночью в каждом родился гражданин, с теми нравственными качествами, которые издревле в народе называют совестью. И все в нем светилось радостью и чувством исполненного перед собственной совестью долга.
7После первой встречи на стадионе Кочкин каждое воскресенье брал увольнительную и спешил на окраину станицы, где жила Надя. Он подходил к дому, ласкал мохнатого, чуть повизгивающего, доверчивого пса, помогал надиной тетке Марии Матвеевне по хозяйству. Когда Николай кончал работу, тетка усаживала его за стол и ставила полюбившиеся ему вареники. Николай не стеснялся: по курсантскому пайку вареников не готовили, больше нажимали на каши да на картошку, а тут – вареники с вишней или со свежим творогом, со сметаной. Вкуснятина!
Надя сидела рядом, вязала или рассеянно листала книгу.
Ее родители были геологами. В большой городской квартире Надя часто оставалась одна, отец и мать надолго исчезали и присылали телеграммы то из Сибири, то из Казахстана. Что они там искали, нефть или уголь, Надю не интересовало. Главное, чтобы аккуратно присылали деньги, а на деньги папа с мамой не скупились. Одной быть не хотелось. Подружки, обрадовавшись, что есть где собраться, не заставили себя долго ждать. Покупали вино, делали винегрет, включали магнитофон – веселились.
Тон в компании задавала Женя. Она была постарше, пятикурсница, с выщипанными, словно нитки, бровями. Женя уже успела выйти замуж и развестись. На жизнь смотрела легко и просто. «Живем, девчата, один раз, – любила она повторять. – Выйдем замуж, родим сына или дочку – и пошло и поехало. Пеленки, посуда, стирка, ворчливый муж («Опять сорочка не выглажена!»), коклюш, скарлатина, сумки, магазины… Да гори все это синим огнем! Повеселимся, пока молоды!» Ребята подобрались что надо, свой брат студент. Гитара, туристские песенки, шумный бестолковый трёп… Застолья участились, Черт возьми, как интересна жизнь! Мать в письмах предупреждала: того не делай, этого ве надо… Тебя, мамуля, война лишила молодости, а сейчас – мир, и мы должны жить и радоваться.
Все шло хорошо, пока один из парней не остался с Надей наедине. Пьяная была, ничего не помнила. Утром проснулась – гадко на себя в зеркало взглянуть. Словно оплеванная. Долго мылась под обжигающим душем, словно кожу с себя содрать хотела. Не сдерешь… Хорошо, каникулы начались – уехала к тетке. Скучно, конечно, после Ленинграда в глухомани. Зато забот никаких – ходи, гуляй целый день, спи сколько хочешь. А тут еще курсант этот… Николай, глядишь, и развеселит…
Когда стемнело, пошли на танцы. Надя держала Николая на расстоянии. «Недотрога, – думал Кочкин, осторожно прикасаясь ладонью к ее лопаткам. – Все красивые недотроги. Недоступные».
– Пойдем на речку, – неожиданно предложила Надя.
– Идем! – согласился Николай.
Они выбрались из толпы, взялись за руки и побежали к речке. Остановились у берега, рядом с заросшим колхозным садом. Оглушительно квакали лягушки, из сада доносился звонкий хор цикад. Над головой дырявили небо крупные, с кулак, звезды.
– Какая красотища! – не удержался Кочкин, придерживая Надю за локоть. – Речка, звезды, лягушки… Я люблю ходить на речку ловить рыбу и раков.
– Они же кусаются!
– Раки? Бери за шейку – никогда не ущипнут.
– Где ты жил? – поинтересовалась Надя.
– В Белоруссии. На Витебщине. Рек у нас, озер…
– Ясно. – Она сбросила туфли, приподняла юбку и зашлепала вдоль берега. – Хочу побродить по воде. Знаешь, не холодная. Пошли.
Кочкин разулся, засучил брюки, вошел в воду и протянул руку. Так и шли, бултыхая ногами, пока Надя не повернула к берегу.
– Постой! – Николай выскочил на траву, снял брюки. – Давай искупаемся.
– Давай! – засмеялась Надя, стаскивая через голову кофту.
Они переплыли речку. Запрокинув голову, Надя громко смеялась, брызгалась, визжала, когда Николай дотрагивался до нее.
– Ты знаешь, мне так сегодня хорошо! – сказала Надя, когда они подплыли к небольшому, заросшему высокой травой островку.
Дно было песчаное; на отмели песок за день нагрелся и еще хранил тепло. Надя легла и позвала Николая. Ей хотелось, чтобы он был рядом. Хватит, по горло сыта городскими застольями, Женькой и этим подонком с пустыми синими глазами… Насколько здесь, в станице, все проще, чище, светлее. И Николай… Ласковый, милый парень. Интересно, а если спросить его… Нет, не буду. Тот был мастер говорить о любви большой, возвышенной, а цена его разговорам… Какая она, настоящая любовь? Вздохи и ахи? К черту! Любовь – это когда человек не может и дня без другого. Когда он становится лучше, добрее. Женька говорила, что ее муж клялся в любви, а как поженились, через месяц орать начал.
Надя повернулась к Николаю. Обвила рукой шею:
– Ты… ты любишь меня?
Николай не мог от волнения говорить. Немного успокоился, когда почувствовал, что Надя отстранилась и нависла над ним копной распущенных волос.
– Не знаю. Наверно… Наверно, люб…
Надя обняла Николая и прижалась к его полуоткрытому рту…
Осколок луны вывалился из облака, высветил зеркальную гладь реки, в которой отражалась россыпь Млечного Пути, повис островком и спрятался за другое облако. Донесся хриплый, сонный лай собаки, скрип закрываемой где-то неподалеку двери, и все стихло…
Вскоре Надя уехала в город. Возвращаясь с полетов, Николай спешил к дневальному, который вручал ему очередной конверт.
– Везет тебе, Кочкин, опять письмо!
Николай широко улыбнулся: ему бы да не везло!..
Глава третья
1Домой Геннадий вернулся в четвертом часу ночи. Его, как обычно, встретила Лида. Скрестила руки на упругой шее мужа, чмокнула в щеку.
– Что так поздно, Гена? Я уже глаза проглядела. Что случилось? Трудный вылет, да?
Геннадий обнял жену, уткнулся лицом в ее пахнущие хной темные волосы и тихо ответил:
– Не то чтобы уж очень трудный, однако… пришлось немного поволноваться.
– А дымом почему пахнешь?
– Дымом? – переспросил Геннадий.
– Ну да! Самым настоящим дымом! – Лида требовательно взглянула на потемневшее, осунувшееся лицо мужа. – Отвечай же!
– Может, потом, Лидуська? Утром, ладно?
– Нет, нет! Только сейчас, – потребовала Лида. – Я утром от других услышу.
С первых дней их совместной жизни Лида дотошно расспрашивала Геннадия о летной работе: ее глубоко волновали его радости и заботы. Лида понимала: только зная все о самом близком тебе человеке, сможешь поддержать его в трудную минуту.
Геннадий был сильным, но сильный тоже иногда нуждается в помощи, во внимании и ласке, И Лида молчала, если видела Геннадия раздосадованным, взволнованным. Зная его привязанность к сыновьям, заводила разговор не о полетах, не об аэродромной жизни, а о проказах Игоря и Олега, о милых пустяках, которые могли его отвлечь и развлечь. Лида чувствовала, что они дороги друг другу. Любовь, зародившаяся еще в курсантские годы, не тускнела от времени.
– Движок чуть-чуть подпалился, вот дыма и нанюхался, – отмахнулся Геннадий.
Лида всматривалась в усталое лицо мужа и, слушая его короткий, сдержанный рассказ о пожаре, переживала вместе с ним каждую минуту полета.
– Хороший мой, – ласково шептала она, целуя его. – Усталый… Теперь все будет хорошо. – Ты – дома, с нами…
– Дай, Лидуська, стакан молока, – попросил Геннадий.
– Пойдем на кухню. – Лида знала, что муж любит молоко, и всегда имела в запасе две-три бутылки. Слишком часто ему приходилось в полете дышать чистым кислородом, и это давало о себе знать на земле.
Геннадий пил молоко редкими, небольшими глотками, словно пробуя на вкус. Допив, посмотрел на жену. Ее обычно чуть розоватое нежное лицо поблекло, серые глаза потускнели, казалось, она вот-вот заплачет. Он взял Лиду за плечи, прижал ее голову к груди, и она впрямь заплакала, беззвучно вздрагивая всем телом.
– Ну что ты, Лидушка, зачем ты… – жалобно пробормотал Геннадий. – Успокойся, родная. Сама же сказала: я теперь дома, с вами. Не надо, прошу тебя…
Лида запрокинула голову. В потемневших глазах ее был страх.
– Я сразу даже не поняла, только теперь… Помнишь того парня? Он тоже садился на горящем самолете. Ты ведь тоже мог… не долететь, Геночка! Какой ужас…
Она снова прижалась к мужу, словно не веря, что все уже позади. Геннадий вытирал ей слезы, шептал на ухо смешные полузабытые слова, гладил жесткие волосы. Лида притихла, успокаиваясь, – ему ведь завтра снова в небо…
Они вошли в детскую и, не зажигая света, остановились у кроваток сыновей. Старший, Игорь, спал, уткнувшись лицом в подушку, младший, Олег, – свернувшись калачиком и положив кулачок под пухлую щеку. Лида осторожно высвободила кулачок, но Олег, не просыпаясь, тут же сунул его обратно.
– Упрямый растет.
– И хорошо, – усмехнулся Геннадий. – У настоящих мужчин должен быть характер.
Лида погрозила мужу пальцем и, взяв его за локоть, осторожно вывела из детской.
Геннадий открыл дверь в комнату Анатолия, постоял у входа, спросил Лиду:
– Давно улегся?
– Читал долго. Свет погас после двенадцати.
2Впервые Геннадий увидел Лиду на предполетном медицинском осмотре в авиаучилище. В белом халате и такой же белой шапочке незнакомая медсестра называла фамилия курсантов и записывала в журнал.
– Васеев!
Геннадий несмело подошел к столу, опустился на стул и привычно подставил руку. Врач, измерявший давление, не поднимая головы, произнес:
– Сто двадцать на семьдесят. Пульс шестьдесят четыре.
Девушка вскинула глаза на Геннадия. Она показалась ему грустной и чем-то озабоченной, и Геннадий с удивлением почувствовал, что ему захотелось встретиться с теми, кто ее обидел, – уж он бы им задал! Он не мог оторвать от нее взгляда и стоял до тех пор, пока кто-то не подтолкнул его локтем. Так и вышел в коридор спиной вперед.
– Ты, Геныч, развернись на сто восемьдесят градусов, а то ненароком столб собьешь! – услышал он насмешливый голос Коли Кочкина, повернулся и опрометью выскочил на улицу.
Среди курсантов всегда есть любители порисоваться перед хорошенькой девушкой, поболтать с ней в свободное время, пригласить на танцы. Геннадий замечал их и возле Лиды – имя ее он узнал в тот же день, когда впервые увидел в комнате дежурного врача, – и у него всякий раз чесались кулаки. «Да что я, сторожем при ней приставлен?! – ругал он себя. – Тоже мне опекун выискался!»
Когда не было полетов, он робко заходил в медпункт, останавливаясь у самого порога. Завидев врача, торопливо кивал Лиде и тут же исчезал. Лида удивленно вскидывала темные брови, краснела и старательно прятала в глазах радость.
Однажды, получив увольнительную, Геннадий набрался смелости и предложил Лиде пойти в кино. В душе он ждал отказа, но Лида неожиданно согласилась. Договорились встретиться возле кинотеатра.
Пришел туда за добрый час до начала сеанса – надеялся, что и Лида придет хоть немного раньше. Ему очень хотелось, чтобы она пришла раньше: погуляла бы, поговорили… Мимо него неторопливо проходили пары, сновали в поисках мороженого мальчишки, стайками проскакивали чем-то озабоченные девчата. Лиды не было. Геннадий вытягивал шею и крутил головой, выглядывая в пестрой толпе знакомое нежное лицо, и постепенно мрачнел.
Лида появилась так неожиданно, что он даже вздрогнул, – будто выросла из-под земли.
– Добрый вечер. Я не опоздала?
– Нет-нет! – вырвалось у него. – Нормально.
– А вы давно здесь?
Ей очень хотелось назвать курсанта по имени, но она не решалась: вообразит еще невесть что!
– Недавно, – покривил душой Геннадий. – Минут десять – пятнадцать…
В зал они вошли, когда зрители начали усаживаться. Лида увидела подруг по школе и медучилищу и, краснея, подумала: «Видят… заметили… Когда же погаснет свет?» Ей казалось, что все смотрят только на нее, будто она в чем-то виновата. К счастью, свет начал меркнуть, и ощущение неловкости отступило. Лида искоса взглянула на Геннадия. «Сидит и не смущается. Словно деревянный. Наверно, уже не раз ходил с девчонками…»
Но Геннадий лишь казался спокойным. Он решил взять девушку за руку, как только в кинотеатре погаснет свет, и теперь это решение не давало ему покоя: а вдруг Лида рассердится, встанет и уйдет?!
В зале уже наступила темнота, а он все не мог побороть робость: осторожно протягивал руку и тут же отдергивал ее, словно касался раскаленной плиты.
Промелькнули титры фильма. Геннадий не смотрел на экран. Он слышал, как стучит его сердце, и мысленно повторял: «Еще минуту. Вот автомобиль свернет с дороги, и тогда… Нет, чуть позже…» Затем, отчаявшись, осторожно взял девушку за руку, некрепко сжал ее и почувствовал слабое ответное движение пальцев.
Лида едва заметно повернула голову, увидела ликующее лицо Геннадия, блеснувшие в темноте белки его глаз, и ей стало уютнее в этом большом темном зале.
Если бы в тот вечер их попросили рассказать, о чем был фильм, оба не смогли бы этого сделать.
По дороге домой Лида немного рассказала ему о себе. Жила она с матерью и бабушкой. Последние годы бабушка много болеет, мама часто остается в больнице на ночные дежурства, так что все хлопоты по дому достаются Лиде. Наготовить, и убрать, и дать бабушке лекарства… В кино сбегать – времени не выберешь. Дни похожи один на другой: дежурство на медпункте – магазин – кухня – сон – дежурство. Обычная жизнь, не о чем говорить…
– А мне в детстве хорошо было, – сказал Геннадий, когда Лида замолчала. – Мать на лето отвозила в деревню, а там река – чудо что за река! Иловля называется. Купались мы в ней до посинения, рыбу ловили… Бабушка пирожков напечет, молодой картошки наварит, молока принесет. Пей – не хочу. А главное – свобода. Правда, зимой было похуже. Жили трудно – на мамину зарплату и пенсию за погибшего на войне отца. Мама, бывало, усадит рядом, разложит довоенные фотографии, старые, пожелтевшие, рассказывает об отце, а сама плачет. Отец у меня тоже в авиации служил.
Он готов был рассказывать ей о себе до утра, но время увольнительной заканчивалось. Утешало одно: Лида разрешила завтра заглянуть в санчасть.








