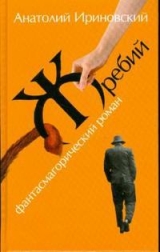
Текст книги "Жребий"
Автор книги: Анатолий Ириновский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц)
– Да, верь ты ему, – сказала Захаровна. – Я этих докторов знаю еще с войны. Обманывать они великие мастера. Никому неведомо, когда человеку приходит конец. Я вот тут лежу и думаю… о тебе. Ты бы лучше женился, Тимоша. И мне на старость была бы великая радость. А ты не хочешь старухе уважить.
– Ну, конечно, – сказал Тимофей Сергеевич, – самое время мне жениться!
– Да я вообще… Что ж ты, век свой будешь бобылем мыкаться?
Опять возникала эта дурацкая коллизия.
– Не к месту разговор, Захаровна, не к месту.
– К месту, Тимоша, к месту. Я, может быть, отойду скоро. А у меня живой души на земле не останется, кто бы за моей могилой поухаживал. Вот… Понимаешь?
– Чего уж тут не понимать? Я и так вам безмерно обязан, – сказал Тимофей Сергеевич.
Она затихла. Долго и сосредоточенно смотрела в потолок, словно собираясь с силами. Потом тихо, полушепотом, сказала:
– Чтобы ты знал… Откроешь шкаф одежный – там, на верхней полочке, в моем старом ридикюле, две сберкнижки. Одна – на твое имя. Это деньги, которые ты мне платил за комнату. И завещание там на твое имя…
– Прекратите! – сказал Нетудыхин, весь покраснев, как мальчишка.
– Молчи! – сказала она тихо, но настойчиво. – И слушай, что тебе говорят. – На минуту она умолкла. Потом продолжала, не меняя тона и все так же тихо. – Хорошо, что я тебя прописала. Я как чувствовала, что беда надвигается.
– Да перестаньте вы паниковать! – сказал Нетудыхин, опять не сдержав себя.
– Никакой паники нет, – сказала твердо она. – Все равно это рано или поздно случится. Так лучше я уж тебе скажу заранее. Мало ли как со мной может дело обернуться. Одна я на земле, одна. Война всех у меня забрала. Эх, Тимоша, ничего ты не знаешь!.. Ладно, слушай и не перебивай. Мне и так нелегко с тобой разговаривать. Снимешь икону, раскроешь ее и посмотришь, что там лежит в середине. Кое-что из этого я хотела преподнести твоей жене. Но, видишь, как получается: никак не получается. Если умру, это тебе мой дар. Не транжирь только без крайней надобности. За Кузьму не забудь, похоронишь рядом со мной. Чтобы не было мне там скучно. А теперь ступай. Я устала.
Она закрыла глаза и отвернулась. Нетудыхин находился в крайней растерянности. Он не знал, как ему поступить в данном случае. Просто подняться и уйти казалось ему невозможным. Он долго, в молчании, сидел у ее кровати. Сумка с продуктами, которые он принес Захаровне, стояла рядом. Он выгрузил ее содержимое в тумбочку, потом, наклонившись, тихо сказал Захаровне:
– Я приду завтра после обеда. Вы меня слышите?
– Да-да, – сказала она, не открывая глаз. – Иди с Богом.
И Нетудыхин, с тяжелым чувством на душе, вышел из палаты. Было совершенно ясно: отныне его отношения с Захаровной переходят в качественно иную плоскость. И дело заключалось не только в признании хозяйки о ее сбережениях, нет, нечто большее теперь сближало их. Но подобрать этой новой ситуации определение Тимофей Сергеевич пока не находился. Что-то здесь еще не ухватывалось им, ускользало и больше чувствовалось, чем сознавалось. Удивила его, конечно, та твердость, доходящая до властности, с которой Захаровна вела с ним разговор. Такой ее Тимофей Сергеевич не знал. И досадно огорчила вновь возобновившаяся просьба о его женитьбе. Тут он утешить ее ничем не мог, хотя и подумал: "Может, она и права". Но та женщина, которая могла бы стать его женой, была сегодня от него далеко. Разменивать же в очередной раз любовь на сексуальное умиление – зачем? Это казалось ему бессмысленным и было бы для него повторением варианта с Натальей Сергеевной.
Понял Нетудыхин и то, что дарственный жест Захаровна не был результатом сегодняшнего ее положения. За всем этим стоял давно продуманный ею замысел. Но сейчас Тимофея Сергеевича больше тревожило, окажутся ли драгоценности хозяйки в сохранности. А вдруг Сатана их уже успел увести? И все обернется тогда совершенно катастрофической стороной: хозяйка, в минуты недуга, доверилась о своих сбережениях квартиранту, а он, негодяй, возьми да и укради их, – чем не версия? Очень правдоподобно, любой суд клюнет на такую версию. Лучше бы она ему о своих побрякушках вообще ничего не говорила.
Дома, в волнении, Нетудыхин снял запыленную икону и прошел с ней на кухню. Протерев Богородицу полотенцем, он раскрыл ее и обнаружил в корпусе иконы небольшой раздувшийся кошелек. Молча перекрестился: слава Богу, цел. Потом он расстелил на столе полотенце и высыпал на него содержимое кошелька. Рассортировал изделия. Получилось: пять золотых колец разных размеров; три перстня с камнями; золотые женские часы с браслетом; один кулон без цепочки; одно серебряное ожерелье; крупный золотой крест на цепочке с рельефным изображением распятого Христа; платиновая брошь, усеянная мелкими бриллиантами, – всего тринадцать изделий. Тринадцать! Опять эта чертова цифирь преследовала его. Но он не придал этому значения. Надо решать, куда теперь все это добро запрятать. Таскать ежедневно с собой до возвращения Захаровны? Тимофей Сергеевич сложил все драгоценности в кошелек и прикинул на руке вес: изрядно, только карманы обрывать таким кошельком. А может, положить его обратно и пусть он себе там лежит, как лежал до сегодняшнего дня? Нет, рискованно: за то время, которое Тимофей Сергеевич ежедневно отсутствует, можно до мелочей перешмонать не только комнату Захаровны, но и всю квартиру.
И тут Нетудыхин припомнил, что Кузьма, столкнувшись впервые с Сатаной, встретил того беспричинной и яростной агрессией. С чего бы это? Неужто собака интуицией учуяла в нем олицетворенное Зло? А ведь можно запрятать кошелек под коврик у Кузьмы. И тот падет трупом, но никого из посторонних не подпустит к себе. Это идея!
Он позвал к себе Кузьму, и они вышли в прихожую на обследование. Место для Кузьмы располагалось в боковой нише трехсекционной тумбы для обуви. Над ней размещалась вешалка для верхней одежды. По размеру ниши Захаровна сшила Кузьме толстый ватный коврик, и он служил собаке постоянным лежбищем.
Тимофей Сергеевич вытащил коврик, уложил в угол тумбы кошелек и опять застелил нишу ковриком.
– Место, Кузя, иди на место! – сказал он.
Пес нехотя повиновался, но не лег, а сел, совершенно не понимая, зачем это Тимофею Сергеевичу понадобилось загонять его в ящик среди бела дня. Он сидел и выглядывал оттуда на хозяина удивленными глазами.
– Отлично! – говорил Тимофей Сергеевич. – Отлично! Настоящая охрана!
И, приняв этот вариант хранения, через день, вернувшись с работы, Нетудыхин сразу же проверил: кошелек на месте? На месте. Ну и прекрасно.
Так, естественным ходом самой жизни, казалось, был развязан узел с золотом Захаровны. Однако хранить его под Кузьмой Нетудыхин решил только до возвращения хозяйки. Накануне ее прибытия он должен был вернуть кошелек на свое прежнее место. Как ситуация будет развиваться дальше, жизнь покажет.
Захаровна поправлялась медленно. Тимофей Сергеевич в эти дни метался между больницей, школой и домом. Наконец, больная поднялась и начала ходить. Еще через неделю исчезли хрипы в легких. Ее стали готовить на выписку. Нетудыхин был безмерно рад.
Лечащий врач сказал ему по телефону, что в субботу ее можно будет забрать. А в пятницу, придя домой, Тимофей Сергеевич решил переложить золото в икону. Полез под коврик – кошелька нет. Нетудыхин опешил. Прошелся рукой по всем углам – тот же результат. Вот это да!
Нетудыхин сел в прихожей прямо на пол и взялся обеими руками за голову. "Все, хана, партия сыграна! – сказал он себе. – Суши сухари, Тимоша!". Но когда, когда же этот проходимец успел увести кошелек, если еще утром Нетудыхин, уходя в школу, проверил наличие кошелька на ощупь и убедился, что он на месте? Крах, полный крах!
– Кузьма, сучок еловый, а ну иди сюда! Ты слышишь меня? Иди сюда!
Из-за поворота на кухню показался Кузьма. С виноватым видом и прижатыми ушами, он в нерешительности остановился на расстоянии метра от сидящего на полу хозяина.
– Что ж ты наделал, подлец? – сказал Нетудыхин. – Ты понимаешь, что ты натворил? Меня ж в тюрьму посадят за эти паршивые железяки! – Кузьма виновато склонил голову и то ли искренно сожалел, то ли просил прощения за содеянное. – Нет, ты мне тут рожи не строй! – говорил Тимофей Сергеевич. – Ты мне лучше скажи, кто здесь был? И где ты находился в это время? На кухне под теплой батареей, да? Конечно, на кухне. А где же еще? Сволочь ты, Кузьма, сволочь настоящая! А я-то ведь тебя другом считал! И как на друга понадеялся. Эх, ты! Иди отсюда! Глаза б мои тебя не видели! Пошел!
Кузьма повернулся и виновато поковылял из прихожей. Он никак не мог предположить, что этот поганый кошелек принесет Тимоше столько огорчений. Тимофей Сергеевич бросил коврик на место и пошел на кухню. В его расстроенной голове не возникало ни одной дельной мысли. Крутился, не находя себе ответа, лишь безысходный вопрос: что делать? что делать? что делать? Завтра нужно забирать Захаровну, везти ее сюда. Через день, а может, и в этот же день, она обнаружит пропажу ценностей. И что тогда? Начнется следствие, допросы, опять эта грязь… Ах ты, козел вонючий! А ведь можно было просчитать ситуацию заранее, учесть что "интеллигент" Кузьма любит часами валяться на кухне под теплой батареей, – нет, не додумал все до конца, поспешил. И в результате оказался в абсолютно тупиковом положении.
Тимофей Сергеевич закурил, открыл форточку. Да, таких провокаций ему в жизни еще не приходилось переживать. Заловил его Сатана, крепко заловил.
В квартире что-то грохнуло. Тимофей Сергеевич обернулся и… обмер. Кузьма – весь в паутине, – выходя из ванной, нес к нему в зубах злополучный кошелек. Он положил его у ног онемевшего Нетудыхина, присел и виновато согнул голову.
– Ты что? Ты что это, морда, вытворяешь? – сказал Тимофей Сергеевич. – Ты же меня до инфаркта чуть не довел! Разве так шутят? – Он поднял Кузьму с пола и поцеловал прямо в нос. – Ну, брат, конспиратор ты, оказывается! – Потом опустил собаку на пол, подобрал кошелек. Кузьма перевернулся на спину и, косо поглядывая, ожидал, когда Тимоша пощекочет ему живот. – Да, только мне до твоих чесалочек! Морду тебе надо набить за такие фокусы!
Однако Тимофей Сергеевич открыл холодильник, достал колбасу и, нарезав часть ее мелкими кусочками, положил на блюдце.
– Лопай, – сказал он, – охрана!
Кузьма, понюхав, не торопясь и аккуратно стал есть.
Нетудыхин облегченно вздохнул.
Глава 13
Пасха
Хотя золото отыскалось и Тимофей Сергеевич вернул его на прежнее место, угроза исчезновения ценностей по-прежнему продолжала существовать. Не было никакой гарантии, что в один из дней, вернувшись из школы, Тимофей Сергеевич вдруг не услышит от Захаровны весть об их пропаже. Но что было Нетудыхину делать? Объясняться с хозяйкой? Это – отпадало начисто. И оставалось одно: ждать и надеяться на лучший исход.
После выздоровления Захаровны отношения Тимофея Сергеевича с ней подернулись налетом какой-то неопределенности: они словно вторично знакомились друг с другом. Для Захаровны Тимофей Сергеевич оставался все тем же Тимошей. Но теперь имя его она произносила – он это чувствовал – с высоты некоторой хозяйской дистанции. А может быть, – материнской. Тимофей Сергеевич забеспокоился: не наступление ли это на его независимость? Более того, он ощутил в себе даже слегка зашевелившуюся раздражительность против хозяйки. И сам стал в позицию подчеркнутой отстраненности. Нетудыхин подозревал, что она, видимо, сожалеет о своем преждевременном признании. И никак не может определить с достаточной ясностью, кем же он теперь является для нее: постояльцем, соседом или добрым ангелом-хранителем? Впрочем, сам Нетудыхин никем другим быть не хотел, кроме как тем, кем он был на самом деле, – квартирантом. Это положение для него было наиболее независимым и вполне его устраивало.
В школе дела шли своим чередом. После скандального разговора в классе Нетудыхин все ждал, что Сатана вот-вот заявится к нему на уроки. Ничего подобного не произошло: новый шеф вообще прекратил посещать уроки. Что-то его беспокоило больше, чем тяжба с Нетудыхиным. Обманчивое затишье, однако, полнилось тревожным ожиданием. В любой день оно могло обернуться катастрофическим взрывом.
Записанный разговор с Ахримановым он несколько раз прослушал тщательно и сделал еще одну копию. Зачем? А так, про запас. Для сохранности. В нем все же теплилась необъяснимая надежда убедить людей, что не одним же твердолобым реализмом наполнена человеческая жизнь. Обе бобины он разнес в разные места: одну спрятал у себя за классной доской, распяв ее в футляре на четырех гвоздях; другую – на квартире в книжном шкафе у Натальи Сергеевны. Затолкал на самой верхней полке за книги, которыми она никогда не пользовалась, и ничего ей не сказал. Пусть лежит до времени.
Наступили пасхальные праздники. В воскресенье утром Нетудыхин, по обыкновению выходного дня, несколько залежался в постели.
– Тимоша! – позвала его через закрытую дверь Захаровна. – Ты чего валяешься до сих пор? Сегодня какой день?
– Воскресенье, по-моему, – ответил он.
– А что было с Иисусом в воскресенье?
– В воскресенье? Наверное, он воскрес. Если его, конечно, не сперли к этому времени апостолы.
– Ну, Тимоша, ты настоящий безбожник! Разве можно так говорить о Христе?
Она постучала, открыла двери и предстала перед Нетудыхиным необычно принаряженная и как-то даже помолодевшая.
– Я разве Христа осуждаю? – сказал он. – Я говорю об апостолах. Они ведь все его предали. Но вину свалили на одного Иуду.
– Это ты правду говоришь?
– Безусловно. Они разбежались, как мелкие трусишки, бросив Учителя на произвол судьбы. Потом, конечно, всполошились и вспомнили, что Он им говорил накануне своего ареста. Но факт предательства уже состоялся, судебная машина завертелась.
– Да, нехорошо получилось, – сказала Захаровна. – А я как-то об этом не думала. Ну, одевайся и пожалуй на кухню. Я тебя жду.
"Зачем это?" подумал с легкой тревогой Нетудыхин. С недавнего времени он все принимал с настороженностью.
Он заправил диван, облачился в спортивный костюм, в котором он обычно ходил дома, и вышел умываться. Кузьма подкатился к нему под ноги.
– Приветик! – сказал ему Нетудыхин.
– А почему же в церкви об этом ничего не говорят? – спросила его хозяйка, продолжая начатый разговор.
– Церковь говорит лишь о том, что ей на руку. Нельзя ей своих апостолов клеймить позором предательства. Это равносильно, что рубить сук, на котором она сидит.
– Плохо ты говоришь, Тимоша, плохо. Что-то здесь не то.
– Все то, Захаровна: предательство всегда есть предательство, как бы оно кем-то не переистолковывалось.
Причесавшись, он вошел на кухню и был восторженно удивлен.
– Ну-у! – сказал он, увидев обильно накрытый стол. – Целое пиршество! Тут еды хватит на полкласса. – Посередине стола, в большом хрустальном блюде, стояла обложенная крашеными яйцами пасха. – У Христа, на тайной вечере, такого обилия пищи не было. Там были только вино, хлеб и баранина.
– А я, пожалуйста, – наливочки приготовила. Налью, налью обязательно. – Она вся сияла. – Как же ты думал? Но сначала водицы святой хлебни.
– Вы что, в церковь ходили?
– Нет, Нестеровна ходила. Пасху освятила мне и яйца. И водички святой принесла. Пей. – Нетудыхин попил водицу из поданного стакана. – А теперь повернись ко мне спиной и раскрой ворот.
– Это зачем?
– Ты делай то, что тебе говорят, – сказала она, улыбаясь, но властно. И опять Тимофей Сергеевич почувствовал в ее голосе ту непреклонность, которая его так поразила в ней, когда она лежала в больнице. Чтобы не огорчать ее, он все же повернулся к ней спиной и расстегнул ворот.
– Скажи мне, – спросила она ему в спину, – ты в Христа веришь?
– Трудный вопрос вы задаете, Захаровна, – отвечал Нетудыхин. – Это все не так просто. Он гений нравственности, человек в высшем своем взлете.
– Нет, ты не юли, не надо мне твоих красивых слов, – говорила она. – Ты мне просто скажи: веришь или нет? Окончательно! Мне это надо знать!
– Если бы я в него не верил, – сказал Нетудыхин, – то и мне бы дела не было на земле.
– Попроще, Тимоша, попроще, – взмолилась Захаровна. – Ты же знаешь, я не очень грамотная. Что это значит?
– А то, что я верю в него как в человека. Как в личность, которая когда-то была и проповедовала людям нормой общения Добро и Любовь между ними.
– Ладно, поворачивайся, с тобой не договоришься, сильно умный. – И она, чуть приподнявшись на носках, возложила на Нетудыхина золотое распятье Христа. – Это тебе от меня, – сказала она. – Да хранит тебя Господь!
– Вы что? Вы что, Захаровна? – сказал Тимофей Сергеевич, растерявшись. – Я не могу это принять!
– Ты все-таки не веришь в Христа?
– Почему же, верю. Но такой подарок, извините… – Он попытался снять с себя распятие, но она остановила его решительным жестом, положив свою руку ему на грудь.
– Тимоша! – сказала она властно. – Обидишь старуху до гроба.
– Но это же бесценный подарок! – сопротивлялся он.
– Ну и прекрасно! – отвечала она. – Куда ж мне его девать? На тот свет, что ли? А тебе еще жить и жить. Вот и будет у тебя память обо мне. Я тебе этот крест дарю от души. Садись, не ссорься в святой день. Тем более, что человек, как ты говоришь, Христос был хороший. Садись, садись. Непонятно только, за что же его тогда распяли?
– Да за это же самое и распяли, – говорил Нетудыхин, – за проповедь его неуместную. Ведь если на земле однажды воцарится Любовь и Добро, к чему он призывал народ, то масса людей останется не у дел. Невыгодно многим такое положение оказывается. Понятно? Особенно правящим невыгодно.
– Да, действительно трудный вопрос, – согласилась Захаровна, разливая по рюмкам наливку. – Ну, я ж неграмотная, Тимоша. Извини меня. А почему утверждают, что он сын Божий?
– Мы все дети Божьи!
– Не скажи, Тимоша, не скажи. Есть такие субъекты – хуже зверей, от которых хочется бежать, как от страшного чудовища. Гитлер, например. Он мне всю жизнь изувечил.
– Таков человек. Захаровна: с одной стороны – он Христос, с другой – Гитлер, подобен зверю. Даже не зверю, для зверя это звучит оскорбительно. У вас точнее определение – чудовище! А внешне все как будто одинаковы. Люди, в общем.
За разговорами пригубили наливку и похристосовались. Потом стукнулись крашеными яйцами. У Нетудыхина яйцо осталось целым, а у Захаровны разбилось.
Тимофей Сергеевич рассказал хозяйке, что собой символизирует яйцо. И как Мария Магдалина на пасху, в римской амфитеатре, преподнесла его императору Тиберию со словами "Христос воскрес!"
Странная это была картина: два человека, с возрастной разницей более чем в тридцать лет, принадлежащие к атеистическому обществу, сидели за утренним столом и говорили о третьем, глубоко верующем, жившем две тысячи лет тому назад.
– Вообще-то, – сказал Нетудыхин, – мы ведем себя сегодня, как безбожники.
– Это почему? – спросила Захаровна.
– По православным обычаям нам надо было, прежде чем сесть за трапезу, сначала помолиться. А мы уселись и нахально лопаем.
– О чем молиться, Тимоша?
– Ну, у каждого свои проблемы и грехи. Вот о них надо и просить Творца, чтобы Он простил или помог нам одолеть их.
– Тимоша, но ведь сегодня Он воскрес! Радоваться надо. А мы вдруг к Нему со своими болячками посунемся. По-моему, это нехорошо. Испортим Ему все настроение.
Тимофей Сергеевич удивленно посмотрел на хозяйку и спросил:
– Да? А что, возможно, вы и правы. Очень даже может быть. В такой день Ему, пожалуй, не до грехов наших.
– О них вообще надо забыть сегодня, – сказала Захаровна. – Потому что, раз Он воскрес, то с Ним все грехи нам уже не страшны.
– Э, нет, Захаровна, есть грехи настолько мучительные, что преследуют человека всю его жизнь.
– Да, мне это знакомо. Не думай, что я безгрешна. Грешна матушка, да еще как. Я вот в больнице лежала и думала, что это Он меня за мой роковой грех решил убрать со света пораньше.
– И что же это за такой грех? – спросил, не выдержав, заинтригованный Тимофей Сергеевич.
– Ах, Тимоша, тяжкий грех, бабий грех – аборт! Всю жизнь не могу себе извинить этого проступка. Молода же была, дура! И мужа послушала. Сгубила своего первенца. Ты ж не знаешь, что такое жизнь жены офицера. Сегодня – здесь, завтра – там, через год – вообще на краю света. Военные городки, бараки, вечная неустроенность… Да что там рассказывать – это надо увидеть и почувствовать. Вот он меня и уговорил воздержаться временно от ребенка. Еще, мол, успеем. А тут война грянула, Гитлер проклятый напал – не до детей уже было. Так я и осталась одна. Но, видишь, жива. Наверное, простил. Замахнулся, а потом передумал, пожалел. Так что, Тимоша, у меня сегодня, как бы двойной праздник. Давай, наливай еще наливочки, забудем о грехах наших.
Расходилась Захаровна. И щеки ее порозовели, а в лице проглянула былая красота, и засветилось оно Добротой. "Нет, не ту судьбу нарезал ей Господь, не ту, – подумал мимоходом Нетудыхин. – Но жизнь-то необратима."
Под конец этой пасхальной трапезы, захмелев, она спросила Тимофея Сергеевича:
– Ты сегодня, что планируешь?
– Да вообще-то собираюсь сходить к одному другу. А что?
– Нет, ничего. Я просто так спросила. Иди, развейся на людях. Порадуйся жизни. Что тебе со мной, старухой, тут толочься. А я возьму этого паршивца, – сказала она, имея в виду Кузьму, который весь завтрак проверился у них под ногами, – и пойду в гости к Нестеровне. Она же тоже офицерша, между прочим.
Поднимаясь из-за стола, Нетудыхин вдруг ощутил на себе тяжесть распятия. Он вынул его из пазухи и, внимательно осмотрев, сказал:
– Ну, Захаровна, вы меня удивили этим презентом! Это истинно царский подарок! – И бережно опустил распятие себе на грудь.
– Носи, Тимоша. Я буду только рада. Этот крест принадлежал моему отцу. Он уберег его от смерти в русско-японскую войну. А со мной он объехал весь Союз. Муж был неверующий. Не разрешал носить его мне. Теперь крест обрел своего нового хозяина.
Тимофей Сергеевич подошел к Захаровне и крепко поцеловал ее в щеку.
– Спасибо!
Когда он ушел к себе в комнату, она тихо и радостно заплакала.
А вечером, вернувшись от Натальи Сергеевны, он загрузил свой портфель на завтрашние уроки, и завалился спать. Проснулся непонятно почему в полночь. И такое ощущение в душе, словно в комнате, кроме него, еще кто-то присутствует.
Ему показалось, что он сходит с ума. Пощупал пульс: пульс как пульс, нормальный. Включил настольную лампу: сидит, подлец, ты смотри! В кресле сидит. В каком-то странном серебряном костюме, плотно облегавшем его фигуру. Прямо цирковой акробат. Вырядился, сволота! Или с очередного шабаша по дороге завернул…
Откуда-то, может быть, с Голгофы древнего Иерусалима, через толщу времен, прорвалась вдруг к Нетудыхину строка-молитва:
Не оставляй меня, Господь!..
– Ну, – сказал спокойно Тимофей Сергеевич, – что надо?
А тот, нахально развалившись в кресле, циничный и посверкивающий своей робой, смотрел на него надменно и дерзко улыбался.
– Охристосывался, значит? – говорил. – Бабку сердолюбную на золотишко расколол? Так-так-так…
– Ты зачем приперся? – грубо оборвал его Нетудыхин.
– Да на крестик твой полюбоваться. Когда же я могу еще тебя раздетым узреть?
Выплыли сами собой еще три строки:
…Ведь я твоя и кровь и плоть.
Не покидай меня, когда
Над мной безумствует беда.
Поднялся с дивана, прошел к письменному столу и взял тетрадь и ручку. Спиной чувствовал, как Сатана наблюдает за ним.
Вернулся на диван, записал первое четверостишие.
Сидящий в кресле презренно изрек:
– Пиит!
– Не лезь! – сказал Нетудыхин.
– Напрасно стараешься. Все прах. Все тлен. Хоть огнем ты выжги свои строчки.
– Кровью надо писать, кровью! – ответил Тимофей Сергеевич.
– Ага. А еще лучше мочой: она быстрее выветривается.
– Дурак! – сказал Нетудыхин резко. И написал дальше:
Я знаю, воля в том Твоя,
Чтобы распят был ими я.
Но в муке этой роковой
Побудь еще, побудь со мной!
– Жалуешься? – не отставал Сатана. – Ему на меня жалуешься, кляузник паршивый! Между прочим, как мне доложила служба подслушивания, Он собирается тебя навестить.
– Кто? – не понял Нетудыхин.
– Да Тот, к которому ты так взыскуешь. Докатился-таки, наверное, до Него твой истошный вопль. Так что, жди Гостя. Ты удостаиваешься величайшего визита в своей жизни. Но спрос с тебя теперь будет не за то, что ты договор наш объявил недействительным, а за то, что ты меня предал. Уразумел? Держись, субчик-голубчик! Беседы и уговоры кончились! Крестик тебе этот дорого обойдется!
– Не мешай! – почти задыхаясь, отвечал Нетудыхин.
Мысль в нем клокотала, и надо было ее мгновенно зафиксировать, пока она еще не распалась. Нетудыхин продолжал:
Они не ведая творят.
"Распни его! Распни!" – кричат.
Солдаты Рима и евреи,
Я в мир пришел добро посеять.
А что не поняли меня,
Так это заблужденье дня…
В прихожей гавкнул Кузя и замолк. Сатана от неожиданности вздрогнул. Что-то собаке снилось.
– Будешь мешать, – сказал Тимофей Сергеевич зло, – сейчас позову Кузьму. От тебя одни потроха полетят. Усек?
– Шкрябай, шкрябай, – сказал Сатана. – Я подожду.
"Заблуждение, – перечитал Нетудыхин. – Нехорошее слово. Казенное какое-то. Ладно, потом подыщу более точное."
Толпа истерично конвульсировала в его сознании и жаждала распятия Мессии. Старая женщина трясущимися руками тянулась к лицу Иисуса, все пытаясь его оцарапать. Пилат виновато поглядывал в сторону Христа. И Нетудыхин записал:
Пилату стыдно за себя,
Но я ему прощу любя.
Отныне, с высоты Голгофы,
Начнется новая эпоха.
Воды, воды, воды хочу я!
И тычут губку мне сырую,
И обжигает уксус рот —
Прости меня, Искариот.
О миг последний, миг сакральный
В судьбе моей многострадальной!
О как устала моя плоть,
Прими меня, прими, Господь!
Нетудыхин пробежал весь текст и положил тетрадь на стол.
– Ну, – сказал он, – так зачем же все-таки изволили пожаловать? Подпугнуть меня? Ночь, явление Сатаны – еще бы! Устаревший трюк, милорд! Ах, да, еще и Господь, оказывается, собирается ко мне в гости! Скажите, важная птица: Тимофей Сергеевич Нетудыхин! Ты что чушь тут несешь? Или хочешь подсунуть мне какого-нибудь проходимца и выдать его за Творца? Так я и поверил тебе!
– Моя служба меня никогда не обманывает, – сказал серьезно Сатана. – У меня ребята хлеб свой честно отрабатывают. Вы можете мне верить или нет – это ваше дело, но Он будет у вас обязательно.
– Это почему же лично у меня? Я же сомневаюсь в Его существовании.
– Откуда мне знать? Он со мной своими планами не делится. Мне известно только Его правило: для Него каждая душа важна.
– А твои какие тут интересы? Или ты, может быть, переборщил в своих функциях по отношению ко мне и теперь побаиваешься, чтобы тебя не взгрели?
– Ой, ой, ой! Великий страдалец нашелся! Иов! Ваши мучения еще впереди. Я к вам так заглянул, мимоходом. Как к старому знакомому. Ну и, конечно, на крестик взглянуть.
"Ишь ты, тварь, изворачивается!" – подумал Нетудыхин. Но ответил:
– Такие знакомые, как ты, дражайший, у меня еще на Воркуте валенки увели.
Тимофей Сергеевич посмотрел на окно, за которым зияла черно-синяя ночная бездна. А действительно, что можно сказать Творцу, если такая встреча вдруг представилась бы? О чем-то Его просить? Или объясниться в любви, в которой Он, может быть, совершенно не нуждается? Нет, не верил Нетудыхин в эту столь ошарашивающую новость. Просто этот провокатор опять что-то задумал и подсовывает ему своего кадра вместо Творца.
В комнате послышался какой-то равномерный шум. Чем-то он напоминал по звучанию шум проснувшейся после зимней спячки пчелиной семьи. Шумело в голове у Нетудыхина, шумело в ушах. Неожиданно оконный проем начал наливаться матовым светом. Он не резал глаза, и комната постепенно наполнялась им, как луговая впадина утренним молочным туманом.
– Вот Он! Это Он! – закричал Сатана. – Я же вам говорил, а вы не верили!
Лампа на столе вдруг замигала и потухла. Нетудыхин поднялся с дивана и приблизился к окну. Он ожидал в нем увидеть того классического старца, того Саваофа, которого он воображал себе по христианским канонам. Но никого не было. Из окна лился лишь один ровный мягкий свет.
Нетудыхин перекрестился. Сатана, распростертый ниц, казался мертв. Легкий жужжащий шум все продолжался. Потом Нетудыхин услышал:
– Ты не испугался, дитя мое блудное?
– Нет, – сказал дрогнувшим голосом Тимофей Сергеевич. – Но я бы хотел видеть Твое лицо.
– Нельзя. Узревший меня уходит немедленно в царствие мое. А у тебя еще много дел недовершенных здесь. Живи, успеешь. Тебе как живется? – Нетудыхин не отвечал. Что ему было говорить? – Ты чего молчишь? Правду мне сказать боишься?
– Да плохо вообще-то, – с досадою сказал Тимофей Сергеевич. – Зла кругом много. Тип тут один ко мне приклеился, как банный лист… Но очень много Зла. Везде несправедливость, кровь, войны… Дьявол расходился не в меру, – идя уже на "ура", рубанул напрямую Нетудыхин и посмотрел через плечо, ожидая увидеть на полу скорчившегося Сатану. Но тот куда-то испарился.
– Знаю, – сказал с грустью Творец. – Самому от этого знания горько бывает. Только на Сатанаиле, я должен тебе заметить, лишь часть Зла лежит. А в основном-то оно от вас, от людей, исходит.
– Но ведь так же жить нельзя! – сказал Нетудыхин.
– Нельзя, – согласился Творец.
– Так что же нам делать? – спросил Тимофей Сергеевич. – Мы же скоро перегрызем друг другу глотки и исчезнем как вид. Средства истребления постоянно совершенствуются. Мир наполнен страданиями. А человек с каждым днем становится все мерзостней и агрессивней. Может быть, в нашем сотворении была допущена какая-то ошибка?
– Какая ошибка, дитя мое, что ты говоришь! Видно, дух Сатюни в тебя проник глубоко. Никакой ошибки! Я даровал тебе достаток и бессмертие. Но ты скоро пресытился ими. Ты предпочел им древо познания Добра и Зла. И отрекся от моего дара. Ты вступил в преступную связь с одним из моих ангелов, что же мне оставалось делать? Ты же посягнул на то, что принадлежит только мне, ибо абсолютным знанием обладаю только я. Но раз так случилось, что ж, надо исправлять положение. Ты сам себя обрек на эту мучительную стезю. Хотя было в моей воле простить тебя. Ведь я тебя люблю, и твое стремление к знанию и свободе для меня тоже кое-что значит. Я сказал себе: пусть будет так. Теперь ты свободен, но обременен грузом знаний, которыми не умеешь пользоваться. Они еще долго будут в тебе накапливаться, пока не начнут перерастать в качественно новую свою стадию. А Сатюня, что Сатюня? Он всего лишь регулятор Зла на земле. Мне его иногда тоже по-отцовски жаль. Правда, я знаю, что он об этой своей регулятивной функции догадывается. Он всегда у меня отличался умом и смекалистостью. Но все-таки, изначально, Зло творишь на земле ты, дитя мое. Ты возжаждал свободы и знаний. Возжаждал несвоевременно, отсюда страдания все твои. А ведь путь и к свободе, и к знаниям мог быть другим. Теперь клин приходится вышибать клином: Сатанаил своим Злом демонстрирует тебе то, как жить нельзя на земле. И невольно отвечает на вопрос, что есть Добро. Тебе же я дал разум и право выбора, не дал бы, ты бы обвинил меня в несправедливости. Поэтому ты сегодня свободен, выбирай. От тебя все зависит. Но уразумей, дитя: Зло не может быть источником жизни, а знания должны служить Благу. Как только ты это поймешь, начнутся для тебя другие времена.







