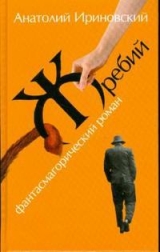
Текст книги "Жребий"
Автор книги: Анатолий Ириновский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 26 страниц)
Вот в какой переплет я попал, Тима. Долг велит, а совесть мучит. Жалко дядьку. И знаю точно, что он и партизанам помогал.
Прошелся я вдоль забора – тихо, ни единой души поблизости. Только собаки где-то на окраине лают. Спит Ковель. Но двор освещен, весь просматривается, как на ладони. В некоторых кабинетах свет еще горит. Молотилка наша работала практически круглосуточно. Не дай Бог, если кто-то заметит нас – обоим капут. Короче, чувствовал я себя не лучше того карася, что живым жарится на сковородке.
И все-таки я решился. Подошел к дядьке Богдану и сказал, чтобы он потихоньку переползал к забору. Мне надо было выяснить, сможет ли он вообще передвигаться. Смотрю, пополз на четвереньках, и довольно шустро. Такой прыти я от него не ожидал. На что только не способен человек ради жизни.
Долго ему оставаться у освещенного забора было опасно. Я поспешил ему на помощь. С трудом, за ноги, когда он поднялся, перевалил его через забор. Он рухнул на той стороне и громко застонал. Потом надолго затих. Лежит мертвым. Ну, думаю, кончится у забора – мне вообще тогда хана. Когда – нет, некоторое время спустя, смотрю, оклемался и в прямом смысле порачковал через школьную спортивную площадку в темноту ночи. Если в течение часа не будет никакого шума, значит, все удалось. Хожу и молюсь: только бы он не наткнулся на кого-нибудь, только бы добрался до сестры…
Стало светать. Я поправил брезент на трупах бандеровцев, обследовал забор. Плющ подпушил, чтобы у него был естественный вид. А несколько стеблей со следами крови аккуратно удалил. Спрятал себе в карман. И страшно волновался, как пройдет сдача дежурства. Ты знаешь, волновался так, как не волновался даже при закладке мин. Там, на дороге, волнуешься в начале. А потом наступает момент, когда ты ничего не видишь, кроме мины и рельсы. Но помнишь: тебя подстраховывают друзья. Тут я был один. Перед собственной совестью: один решил – один исполнил. Ну, если не считать дядьку Богдана. Стал обдумывать, что мне отвечать на случай, вдруг обнаружат пропажу. Трупы я по счету не принимал. Сколько их там привезли, сказать не могу. Много. Может, десять. Может, больше. Точно не знаю.
Дежурство прошло без происшествий. Утром побежали наши сотруднички. Бегут, бегут в свою контору. Кто с больной головой, а кто, может, уже и опохмелился. Все шло своим чередом.
В восемь ноль-ноль я сдал дежурство и отбыл домой. Но душа ж все равно не спокойна. Анютка уже ушла на работу. Спать я не мог. С часу на час я ждал, что вот-вот за мной явится машина и меня увезут в наши подвалы. Я хорошо знал, как там умеют допрашивать. Только к вечеру я заснул.
На следующий день с видом, как ни в чем не бывало, я вышел на работу. Смотрю, трупов нет, уже увезли. Двор, как обычно, прибран и вымыт. Кажись, пронесло. Слава тебе, Господи!
С месяц, наверное, я жил в постоянном страхе. Дядька Богдан не выходил у меня из головы. Добрался ли он до сестры? Жив или умер и тайно похоронен? Ведь он мог просто изойти кровью. Да мало ли как в такой передряге могла сложиться его участь. Но он как в воду канул и оставался для меня надолго в неизвестности.
Да. Это был 47-й год, тяжелый год. Тогда в Ковель понаехали тучи людей. Был же голод, и народ двинулся по стране в поисках куска хлеба. Но я-то не голодал. Я был сыт. Со мной другое происходило: не мог я больше стрелять в бандеровцев. Служба моя мне стала в тягость. Вот какой перелом наступил во мне после истории с дядькой Богданом. Одно дело были немцы – враги! Пришли нас покорить. Все ясно. А тут же свои, братья-славяне, – мудаки, блядь! Как же так?.. Нет, что-то тут было не то, перевернуто все как-то. Словом, подал я рапорт об увольнении. Говорю, старики, мол, слабы и зовут нас с Анюткой к себе. Начальство сразу ни в какую – тогда было трудно из органов уйти, – но потом отпустили. Собрали мы свои манатки и подались сюда, в Победоносное. Да, характеристику мне дали – Сатана лучшую не даст. Ну-ну. Чтобы я, значит, определился в родственные органы по месту нового местожительства. Нет, братцы, точка. Завязал я охоту на зайцев. Бумагу эту я засунул подальше в сундук и по приезду пошел на курсы механизаторов.
Все как будто было нормально. Анютка вскоре пацанов принесла, дом перестроили… Аж до 50-го года жил спокойно. Уже и про дядьку Богдана я забыл. Когда осенью приезжают на "бобике" два кадра за мной из района. Я их как увидел возле дома, когда они выходили из машины, сразу вычислил. Значит, где-то дядька Богдан все же всплыл… И завертелось-закрутилось колесо: допросы, опознания, очные ставки… Вот так, Тима. Так катастрофически закончилась моя свободная жизнь. Начались странствия по тюрьмам и лагерям. До самой осени 55-го. Вот где тяжело было выжить. Это тебе не немцы, а наша сволота. Но это уже новый роман. Я расскажу тебе его как-нибудь в другой раз. А то поперепутается у тебя все в голове…
– Один момент, – сказал заинтригованный Нетудыхин. – Так дядька Богдан остался жив?
– Конечно!
– А как же его обнаружили?
– Тима! Хоть и велика Россия, а запрятаться в ней очень трудно. Разве что залезть куда-нибудь в горы и сидеть там, не высовываясь. А он, когда вычухался и окреп, подался на Кубань. Работал там, жил под чужой фамилией, пока им не заинтересовались.
– И раскололся?
– Боже упаси! Дядька Богдан оказался стойким мужиком. Колонулась сестра его. Знаешь, баба. Закрутили ее. Ну, а меня им было найти проще простого. Мы потом, на Вычегде, встретились с ним. Земля маленькая, Тима. А мы, негодники и пачкуны, все воюем на ней. Поговорили от души. Все в подробностях выяснили. Он мне еще носки вязаные подарил. Ему дали десять, мне – восемь, с учетом моих заслуг перед Родиной.
На суде, когда зашел разговор о моих партизанских делах, судья поинтересовался, сколько я лично составов пустил под откос. Я без преувеличения ответил. А когда объявили приговор, я его спросил: "Это что, по году за эшелон получается?!!" Наград, конечно, меня всех лишили. Ну, да хрен с ними, с этими железяками. Тут другой вопрос: кто мне может сегодня грамотно ответить, – кто же я такой на самом деле, партизан или изменник Родины? Ведь под амнистию я-то попал, но не реабилитирован. По-моему, партизан. Потому что вот живу я тут, в Победоносном, и все-таки продолжаю партизанить, чтобы удержаться на плаву… Давай сигаретку свою. Что-то у нас рыба сегодня ни хрена не ловится.
Рыба, действительно, ловилась плохо, несмотря на всю предшествующую подготовку. Все же часам к десяти им удалось с четырех удочек снять около десятка карасей. А потом клев совсем пропал. Началась жара. Они свернулись.
Завтракали они в тени зеленого навеса во дворе дома. Василий Акимович, распаленный воспоминаниями о прошлом, демонстративно выставил на стол бутылку самогона. Нетудыхин сказал:
– Духота, нельзя в такую жару пить.
– А мы по махонькой, – сказал Василий Акимович. – Сколько той жизни, Тима! Пить в жару нельзя, курить – вообще нельзя, куда не повернись – везде нельзя. На хрена тогда жить? Все равно проживешь ровно столько, сколько отпустил тебе Господь. Поэтому дыши свободно. Садись.
– Русская душа не знает меры.
– Ну, может быть, она потому и русская, что не знает меры. Знала бы, была бы душой уже кого-то другого.
Нетудыхин с любопытством посмотрел на Василия Акимовича. За сегодняшнее утро этот ершистый мужичонка очень вырос в его глазах. Он не так-то был прост, как казался на первый взгляд.
– Давай, – сказал Василий Акимович, поднимая стакан. – За тех, кто не вернулся! Пусть земля им будет вечным покоем!
Выпили, крякнули, закусили. Заговорили о причинах пережитой войны. Василий Акимович объявил ее главным виновником Гитлера. Это он, фюрер, своими безумными речами, внушил немцам, что они должны верховодить над миром.
С таким мнением Нетудыхин сталкивался уже не первый раз. Тут либо хорошо поработала пропаганда того времени, либо простота суждения была для многих более предпочтительнее, чем серьезное осмысление. Хотя, несомненно, была доля истины и в таком толковании. Гитлер, действительно, сыграл в прошлой войне самую зловещую роль. И все же, почему столь прославленный немецкий разум с такой поразительной легкостью вдруг уступил свои позиции самым разнузданным сатанинским инстинктам? Как Гитлеру удалось в столь короткий срок оболванить такой рассудительный народ, как немцы? Чем был занят мир, что позволил отдельному человеку ввергнуть людей в кровавую бойню? Наконец, – для Нетудыхина это было особенно важно, – на какой такой социально-психологической почве произрастает мания персонального величия и формируется у отдельного этноса комплекс национальной исключительности? Не потому ли это все происходит, что мы отдельному человеку вручаем столько власти, сколько не имеет над нами даже сам Бог?
Однако Нетудыхин не стал разубеждать Василия Акимовича. Корень Зла многосложен, а выяснение причин войны требовало знаний конкретных исторических реалий и беспристрастного их анализа.
Вечером, записывая кратко услышанную одиссею, Нетудыхин вдруг подумал, что, окажись он ровесником Василия Акимовича, ему вполне была бы уготована аналогичная судьба. Жизнь его протекала бы в той событийно-исторической канве, в которой реализовался Василий Акимович. Может быть, Нетудыхин был бы более или менее удачлив – неважно. Однако этому поколению Провидением уже была заготовлена война как стержневое событие его жизни. Потом, после войны и от нее, оно станет вести отсчет времени в оба конца своего существования. Все будет освещено трагическим отблеском этого события. И оно основательно изувечит биографию Нетудыхина, которая при мирной жизни могла быть совершенна иной. Хотя Тимофей Сергеевич все же думал, что его поколению приготовлен свой ряд событий. Но тоже начиненный Злом, как заминированное поле взрывчаткой.
Ночью к нему опять заявился Сатана. Стучал в окно, держа в руках горящую керосиновую лампу, и жестами вызывал во двор на разговор. Паскудное рыло его улыбалось, он приплясывал и был как будто бы навеселе.
– Изыйди! Изыйди, сволочь! – кричал Нетудыхин. Он пытался наложить крест на Сатану, но рука ему не повиновалась.
Когда он проснулся, над ним стоял Василий Акимович.
– Что ты кричишь, Тима? Что с тобой? Ты не заболел?
– Сон дикий приснился, – сказал Нетудыхин, сам еще не вполне осознавая, был ли это сон или явь.
Потом, успокоившись, он долго смотрел на черный проем окна.
"Мразь! – думал Тимофей Сергеевич. – Опять что-то затевает".
В углу светлицы, наискосок от дивана, на котором Нетудыхин спал, висела деревянная икона святого Николая Чудотворца. Нетудыхин перекрестился на нее и, повернувшись к стене, попытался заснуть. Не получалось, сон не шел к нему. Он все кружил вокруг тяжбы с Сатаной. Как этого мерзавца переиграть? В какой-то момент Нетудыхин был уже почти на грани открытия ключа, но не додумал, проскользнул мимо.
Проснулся он утром с ощущением надвигающейся беды. "Надо ехать, сегодня же. Там что-то произошло, что-то случилось".
Объявил о своем решении Василию Акимовичу. Тот запротестовал. Куда ему торопиться? Ему что тут, не нравится? Отпуск еще весь впереди. А рыба – ну, это дело такое: сегодня не клюет, завтра сама на голый крючок цепляется.
Василий Акимович уговорил его не торопиться с отъездом.
– В воскресенье автобус ходит переполненный. Людей – как селедки в бочке. А понедельник – не годится: тяжелый день. Поедешь послезавтра, если тебе так припекло, – недовольный сказал он.
Но тревога не покидала Нетудыхина. Он собрал все написанное им в Победоносном и, сложив в отдельную папку, сдал ее на хранение Василию Акимовичу.
– Пусть полежит тут. Приеду как-то – заберу, – сказал он. – Я надеюсь, бумаги мои никуда не денутся.
– О чем разговор, Тима! У меня, как в швейцарском банке, – заверил его Василий Акимович. Он бережно принял от Нетудыхина папку и унес ее в соседнюю комнату.
Во вторник утром, позавтракав и выпив по настоянию хозяина на "коня", они двинулись мотоциклом в Покровское.
Грустно было расставаться с Василием Акимовичем. Вся его немудреная жизнь казалась Нетудыхину торжеством несправедливости и абсурда. И безысходней всего осознавалось то, что никакой надежды на ее изменение в ближайшем будущем пока не предвиделось.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
И Д О Л
Глава 19
Приехали…
Брали его на автовокзале.
Он сошел с автобуса и сразу же попал в привокзальную сутолоку. Было около де-сяти утра. Ощутимо пригревало солнце. У пивного ларька толпились мужики.
Вспомнив о своей рыбе, Тимофей Сергеевич прошел к ларьку и занял очередь. Вообще-то, Нетудыхин не относился к любителям пива. Но в предчувствии надвигаю-щейся жары ему почему-то захотелось пива.
Подошла его очередь. Он получил бокал и, повернувшись, вдруг увидел своего институтского знакомого.
– Рамон! – удивился он. – Какими путями?.. Послушай, дорогуша, – обратил-ся он к продавщице, – еще один бокал, будь добра.
И с двумя бокалами, рюкзаком за плечами и удочками под мышкой он пошел Ра-мону навстречу. Тот улыбался.
– Я тебя приветствую в наших краях! – сказал Нетудыхин, останавливаясь возле свободного столика. Он поставил бокалы, и они пожали друг другу руки.
– Почему в наших? – сказал Рамон. – Я живу здесь уже третий год.
– Ну?!
– Да.
– Вот это да! Как же это мы с тобой до сих пор не встретились?
– Не пришлось, – ответил Рамон. – Воля судьбы…
Нетудыхин пододвинул к нему бокал и полез в рюкзак.
– Один момент, – сказал Тимофей Сергеевич. – У меня вобла вяленая есть.
Здесь нужно сделать отступление и вернуть читателя ко временам минувшим.
Познакомились они в институте. Хотя учились в разных группах и даже на разных отделениях: Нетудыхин – на вечернем, Рамон – на заочном. На экзаменационных сес-сиях эти потоки иногда объединялись. Они слушали вместе лекции, вместе сдавали экза-мены. А по завершении сессии, обычно, шли обмывать ее в какое-нибудь питейное заве-дение. Собственно на одном таком обмывоне Нетудыхин и сблизился с Рамоном.
У этого парня была не совсем обычная судьба. Родился он в Испании. Отец его, после прихода Франко к власти, вынужден был бежать сюда, в Союз, где и осел оконча-тельно. По облику своему и манерам Рамон-младший воспринимался совершенно рус-ским человеком. Русоволос и слегка курчав, внешне похож на Есенина, парень хват, лю-бил он выпить, приволокнуться за женщинами, ценил юмор и, в общем, слыл человеком неунывающим и компанейским. Но, может быть, этот образ "своего парня" служил ему всего лишь маской. В тоталитарных системах истинное лицо человека всегда скрыто. А он даже имя собственное переиначил: представлялся Стасом, в то время, как на самом деле, по паспорту, именовался Вячеславом, точнее – Вячеславом Моисеевичем. Хотя вполне возможно, что было это сделано скорее всего по соображениям благозвучия, а не защиты ради. Две буквы "с", окольцовывая слово, придавали имени некую орфоэпиче-скую завершенность и репрезентативность: Стас.
Как студент глубокими знаниями он не блистал, числился в середнячках. Когда Нетудыхин спросил его как-то, зачем ему филологическое образование, Рамон ответил:
– В моей шараге, где я пашу, все должны иметь высшее образование. Безразлич-но какое, но высшее. Иначе вытурят.
Шарагой оказался Комитет госбезопасности… Теперь они стояли за металличе-ским столиком и пили пиво.
Разговор шел о том, у кого как сложилась жизнь после окончания института.
Нетудыхин о себе сообщил очень кратко: учительствует. Рамона повысили в зва-нии, перевели работать сюда. Женился он наконец-то, получил квартиру, пока один ре-бенок – пацан.
– Вообще-то, – сказал Рамон, – такую встречу надо бы отметить по-другому. Предлагаю взять мотор и махнуть ко мне домой. У меня в холодильнике найдется кое-что покрепче.
Нетудыхин колебнулся. Но что-то его удержало, – может быть, даже рюкзак с удочками: таскать с собой по городу.
– Мы же одной бутылкой точно не обойдемся, – сказал он, улыбаясь. – Полу-чится лишка. Нет, Стас, у нас еще будет время. Я рад, что мы встретились. При случае мы это дело обязательно обмоем.
Не знал Тимофей Сергеевич, что своим отказом он зачеркивает более спокойный вариант ареста.
Допивали пиво.
– Может, еще по бокальчику опрокинем? – предложил Нетудыхин.
– Нет, не хочу. Что-то это пойло мешанкой отдает, – ответил Рамон.
– А я возьму. Тут при повторе дают вне очереди.
Он осушил бокал до дна и пошел к ларьку за вторым. Это уже совсем не было предусмотрено сценарием ареста. Здесь его люди ждут-не дождутся, а ему, видите ли, пивом захотелось побаловаться. Безобразие. И мою волю как автора он игнорировал: я для него, даю слово, планировал только один бокал. Ну что ж, придется подождать, раз так дело поворачивается. Пусть пьет, пьяндыга ненасытный. Может, это его последнее пиво на свободе…
Стоя на повтор, – впереди его был еще клиент – Нетудыхин заметил в отраже-нии витрины, как к Рамону подошел какой-то мужик и что-то ему сказал. Тимофей Сер-геевич подумал… Нет, не подумал, – в нем шевельнулось то тревожное чувство надви-гающейся беды, которое он испытывал накануне своего отъезда. Мельком шевельнулось, на какую-то долю секунды. Но Нетудыхин достаточно осознанно его зафиксировал. "Дурной признак – сразу же по приезду встретить на своем пути кагэбиста", – теперь уже вполне определенно подумал Тимофей Сергеевич.
Вместо одного бокала он прикупил еще и второй – для Рамона.
– Да на хрена ты взял эту муляку? – запротестовал Стас. – Я тебе предлагаю: берем мотор и покатили ко мне.
– Счас, – невозмутимо сказал Нетудыхин. – Еще по бокальчику возьмем и по-топим.
– Ты что, лопнуть надумал?
– Почему лопнуть?
Рамон попадал в совершенно непредвиденную ситуацию. Но чтобы как-то упро-стить ее, он взял принесенный бокал и стал с неохотой его осиливать, налегая больше на рыбу.
Постепенно пиво прикончили.
– Ну что, еще?
– Нет, все. Погнали.
– Что-то я тебя совсем не узнаю, Стас, – сказал Нетудыхин. – Это на тебя не похоже.
Они все же закруглились и медленно стали продвигаться через толчею к стоянке такси.
– Нет, Стас, не поеду я, – сказал Нетудыхин. – Отправлюсь я сейчас домой и занырну в холодную ванну. А потом бабахнусь спать.
Вышли к выездной дороге автовокзала и остановились. Неслышно подкатила к ним "Волга".
– Несерьезный ты совершенно, Тим, – сказал Рамон. Он открыл заднюю дверь машины и, держа Нетудыхина за локоть левой руки, предложил: – Садись.
Нетудыхин понял: "Арест!"
– Нет уж, я как-нибудь пешочком дотепаю до трамвая, – сказал он.
Но тут, словно из-под земли, справа возник еще некто. И жестко взял Нетудыхина за другую руку. Вдвоем они толкнули Тимофея Сергеевича на заднее сиденье: слетел на асфальт рюкзак, упали удочки. Рюкзак подняли и бросили на переднее сиденье, удочки остались на дороге.
Вся эта сцена происходила на глазах пассажиров и кучки таксистов, собравшихся на своей площадке на утренний треп.
– Удочки, сволочи! – заорал Нетудыхин во всю глотку. – Удочки заберите!
Кое-как разместили удочки в салоне. Сжимая его с двух сторон и держа за руки, выехали с автовокзала.
Сердце Нетудыхина стучало, как у заарканенного зверя. А тут еще справа, напар-ник Рамона, заламывал ему до боли кисть.
– Не ломай руку, падла! – сказал Нетудыхин. – Я тебе не тренировочный сна-ряд! – И вдруг разъяренно зарычал и грозно клацнул зубами ему прямо в лицо. Тот от испуга шарахнулся. – Не дави – откушу нос!
– Успокойся! – сказал Рамон.
– А ты молчи, собутыльничек! Никогда не предполагал, что ты меня будешь аре-стовывать.
Мусора они были для него поганые. Мусора, а не блюстители безопасности рос-сийской. И в нем заработал тот агрессивный пацан, которым он был в пятидесятые годы.
Ехали по центральной улице города. В голове Тимофея Сергеевича мучительно пульсировал один вопрос: "За что?" Просто так ведь эти молодцы не берут. Значит, предъявят обвинение. Неужели рукописи каким-то образом попали к ним?
По ходу движения машины он понял, что его везут в управление КГБ. Он знал эту сумрачную хату, замкнутую в каре. Иногда ему случалось проходить мимо нее. Глядя на зарешеченные окна, он с удивлением спрашивал себя, чем могут люди заниматься в та-ком большом здании? А ведь они чем-то там занимались конкретно. И этот факт всегда его поражал: это же надо, сколько в стране еще ненадежных граждан, что приходится государству содержать целую армию надсмотрщиков за ними. Но это была только види-мая часть айсберга…
У дежурного на центральном входе почему-то не оказалось на имя Нетудыхина пропуска. Прокол. Пришлось тому, которому Тимофей Сергеевич грозился откусить нос, бежать наверх.
В большом полукруглом вестибюле с бюстом Дзержинского и дежурным, читав-шим газету, они остались с Рамоном наедине.
Молчали. Отчаяние волнами накатывало на Тимофея Сергеевича. Почему-то вспомнился заяц в утреннем лесу. "Если эта скотина, – думал Нетудыхин о Сатане, – исхитрилась все же как-то разузнать, где находятся рукописи, мне хана".
– Может, ты все-таки объяснишь, почему меня забрали? – спросил Нетудыхин своего бывшего приятеля.
– Да я толком и сам не знаю, – ответил тихо Рамон. – Мне показали твою фо-тографию. "Знаешь этого человека?" – "3наю, конечно". – "Поедешь с Карповым встречать его на автовокзале." Кстати, на фотографии ты снят голым.
– Как голым?! Да ты что? – удивился Нетудыхин.
– По пояс.
– А на каком фоне?
– Фон убран. Но есть одна деталь: ты в темных очках. По-моему, снимок сделан где-то на пляже… А вообще, ты мне извини, конечно, за такую встречу, Тим. Служба, понимаешь…
– Пошел ты на хрен, Стас! – со злостью сказал Нетудыхин. – Я был о тебе дру-гого мнения. Твоего отца преследовал Франко. Теперь ты сам превратился в преследова-теля: ты служишь тому же Злу, только в другой упаковке. Памятуя опыт отца, мог бы во-обще не лезть в эту позорную организацию.
– Да, конечно, когда-то мог бы. Но не сегодня. Однажды запущенную машину остановить трудно… – Помолчали. Потом Рамон все также тихо произнес: – Я тебе вот что скажу, пока нет Карпова: вокруг тебя происходят странные вещи.
– В каком смысле странные?
– В прямом. Алогичные совершенно. Управление стоит на ушах…
На лестничном марше показался именуемый Карповым. Он вручил дежурному пропуск и пригласил жестом Нетудыхина последовать наверх.
Стали подниматься: впереди – Карпов, постоянно оглядывавшийся; за ним – Нетудыхин со своими манатками; заключающий – Рамон.
На третьем этаже свернули налево. Узкий малоосвещенный коридор показался Нетудыхину нереально длинным. По обеим сторонам его размещались кабинеты. Тимо-фей Сергеевич бросил на пол рюкзак и оперся на удочки.
– Перекур, – сказал он.
– Не останавливаться! – потребовал Карпов.
– Тогда тащи рюкзак сам, – сказал Нетудыхин.
– Не разговаривать! – приказал Карпов.
– И не дышать! – дополнил Нетудыхин.
– Да ладно, – сказал Рамон, беря рюкзак, – пошли.
Двинулись дальше. Наконец, у одного из кабинетов, остановились. Но тут и я по-ставлю точку. Потому что там, на той стороне двери, сидя за просмотром материалов по Нетудыхину, их ждал человек, в обществе которого Тимофею Сергеевичу предстояло провести немало мучительный часов. А мне, начиная рассказ о допросе, надо быть объ-ективным, чтобы не погрешить против Дике.1. Звали этого человека Иваном Ивановичем Зуевым.
Рамон не преувеличивал: вокруг Нетудыхина действительно происходили вещи совершенно невероятные. Но невероятные с точки зрения здравого смысла. А жизнь, как известно, зиждется не только на здравом смысле.
Зуев, которому поручили вести "Портретное дело", – так в управлении окрестили на ходу эту скандальную историю – чувствовал себя в крайней растерянности. Прора-ботавший в органах более двух десятков лет, Иван Иванович ни с чем подобным в своей практике не сталкивался. Нет, не то чтобы этого типа Нетудыхина посадить было не за что. Для посадки материала поднакопилось вполне достаточно. Однако последний фор-тель Нетудыхина не вписывался ни в какие уголовные кодексы и вместе с тем являлся фактом вопиющего попрания достоинства всеми уважаемого государственного человека.
В поле зрения КГБ Нетудыхин попал около двух лет тому назад. Неизвестный информатор сообщал, что учитель Нетудыхин Тимофей Сергеевич провоцирует в школе разговоры о свободе слова в СССР. Он открыто защищает отщепенцев Синявского и Да-ниэля – как раз тогда в Москве вершился над ними суд, – называя их дословно "нашей совестью".
Разумеется, подобный тип интеллигенции был хорошо знаком Зуеву. Технология допросов этих защитников и ворчунов была у Ивана Ивановича доскональна обкатана. Обычно, если их хорошо попристращаешь, они поджимают хвост, а иные без особого труда соглашаются на осведомительство.
1Дике – богиня справедливости у древних греков.
Далее информатор докладывал, что в кругу своих товарищей и коллег Нетудыхин распространяет откровенно скабрезные анекдоты о вождях и выдающихся деятелях на-шей страны. Приводился пересказ анекдотов. Есть вообще подозрение, что Нетудыхин не только популяризует анекдоты, но и сам же их сочиняет.
Заканчивалась бумага патетическим возмущением по поводу того, как это наша печать может издавать таких, с позволения сказать, горе-поэтов как Нетудыхин.
Следующая информация была более существенной. Тут явно обнаруживался кри-минал. Этой весной, когда она стала известна в управлении, Иван Иванович предлагал возбудить по ней уголовное дело. Однако руководство его не поддержало по двум при-чинам: во-первых, антисоветский рассказ Нетудыхина, прочитанный осведомителю пря-мо с листа, находился еще в необработанном виде; во-вторых, управлению, видимо, не хотелось рисковать своим ценным окололитературным осведомителем, по чьей инфор-мации был уже оприходован в КГБ не один инакомыслящий. Ждали, что опус вот-вот пойдет по рукам в читку… "И вот дождались, долбодолбы! А надо было брать этого "портретиста", не менжуясь, еще тогда", – злился Иван Иванович. Зуев с огорчением подумал о том, что он не проявил должной принципиальности и не настоял на своем. Но кто знал, кто знал, что все это обернется так ошарашивающе.
Дальше шли копия автобиографии из личного дела Тимофея Сергеевича, справка о судимостях Нетудыхина. Непонятно было Зуеву, как этот бывший уголовник умудрил-ся получить высшее образование. Хотя, памятуя собственное детдомовское прошлое, Иван Иванович мог бы и не удивляться. Но он считал себя исключением, исключением из тысяч людей. А то, что Тимофей Сергеевич пропагандировал и разделял взгляды дис-сидентов, представлялось Зуеву хамской неблагодарностью Нетудыхина по отношению к советской власти. Ведь ни в какой другой стране этому бывшему беспризорнику ничего подобного не светило. И тут Иван Иванович был, конечно, абсолютно прав. Факт суди-мостей однако в автобиографии упомянут не был.
"Надо бы запросить копии его приговоров, – подумал Зуев, читая номера статей УК, по которым ранее был осужден Нетудыхин. – Очень важно знать, за что конкретно он сидел. Подробности преступления всегда несут на себе отпечаток личности преступ-ника. А он, по-видимому, гусь свободолюбивый и дерзкий, раз бежал из таких дальних мест".
В конце был приобщен к делу тощенький сборник стихотворений Нетудыхина "Ветры перепутья". Зуев не любил ни перепутий, ни ветров. Всякая неопределенность ему претила. Он чувствовал себя путником прямой дороги. А эти расплывчатые поэтиче-ские метафоры, по его мнению, только затуманивали перспективу и усложняли человеку жизнь. Но нельзя сказать, чтобы Иван Иванович был уж совсем глух к поэзии. Ему, к примеру, нравились стихи Маяковского. Особенно этот… как его?.. Марш, где "Левой! Левой! Левой!" И когда ему как-то один из подследственных прочитал Маяковкого ран-него, Зуев не поверил своим ушам. Даже пошел в библиотеку управления и навел справ-ки. Оказалось, ранний Маяковский – поэт богоборческого самоутверждения себя как творческой личности и… любви. Это до такой степени шокировало Зуева, что он вообще стал относиться ко всяким поэтическим писакам с подозрением. Раз уж сам Маяковский опустился до любовной истерики, то что говорить о других?
Книжку Нетудыхина Зуев медленно перелистал. Некоторые стихи прочел. Были они все какие-то грустные, мрачноватые, и общая тональность их Зуеву не понравилась. Самокопание, одним словом. Русский человек любит выставить свою душу напоказ и поплакаться перед другими. К сожалению, в суждении Зуева была доля истины. Однако "плаканье" вообще есть свойство определенного вида поэзии. И не только русской.
Эти стихи можно было печатать. Но можно было и не печатать. В них ничего не было ни советского, ни антисоветского. А такое творчество интереса для Зуева не пред-ставляло.
Некоторые строчки в стихах были подчеркнуты красным карандашом. Кое-где на полях сборника стояли вопросительные знаки.
Красным карандашом в управлении пользовался Федор Васильевич Зарудный. Первый зам. Но что этот старый чекист криминального унюхал в строчках Нетудыхина, против которых поставил вопросы, Зуев при всем своем усердии так и не уловил.
Материалы дела, кстати, Иван Иванович просматривал уже не первый раз. Нутром он чувствовал, что между сегоднешним портретным инцидентом и остальными фактами существует внутренняя связь. И там и здесь речь шла о Ленине. Во всех случаях отноше-ние Нетудыхина к вождю было, по меньшей мере, эпатирующим, если не сказать точнее. Но отношение ведь к делу не подошьешь. Нужны были конкретные факты. Текст же рас-сказа в деле отсутствовал. С портретом получалась вообще какая-то чертовщина. И Зуев нервничал. "Сволочь! Сволочь неблагодарная в этом бляденыше сидит!" – ругался он, не зная еще твердо, с какого конца к Нетудыхину подступиться.
Дверь вдруг без стука отворилась и в кабинет ввели виновника зуевских терзаний.
Иван Иванович убрал бумаги в стол.
Глава 20
У Фантомаса
Рамон бросил рюкзак в угол возле дверей. Нетудыхин поставил рядом удочки и без приглашения сел на один из стульев. Такое нахальство несколько удивило Ивана Ивановича.
Кабинет Зуева представлял собой типовое помещение для подобных учреждений. Два письменных стола располагались в нем, сейф, ряд стульев для посетителей.
За спиной Зуева висел портрет Дзержинского, на противоположной стороне – репродуктор. На столе Ивана Ивановича, справа от него, лежала стопка книг.
Из-за вытертой на полах краски комната производила впечатление некоторой за-шарпанности и казенной неухоженности.
Доставив Нетудыхина Зуеву, Карпов и Рамон ушли. В кабинете зависла неопреде-ленная тишина. Оба молчали, поглядывая друг на друга. Зуева удивила поразительная схожесть Нетудыхина со своим портретом. А перед Тимофеем Сергеевичем сидел здоро-венный мужик, на правой руке которого, от кисти к локтю, было выколото крупными ла-тинскими буквами: Фантомас. Клетчатая рубашка с короткими рукавами плотно облега-ла его крепкую грудь. Татуировка, по всему видимому, наносилась еще в детстве. С го-дами, разрастаясь, буквы ее перекосились и расползлись. Теперь она смотрелась, как ко-рявая надпись на старом дереве.







