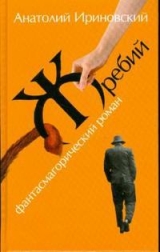
Текст книги "Жребий"
Автор книги: Анатолий Ириновский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 26 страниц)
– Не 48, а 60, – обидчиво сказал мужик.
– Бери удочки и поехали. Время дорого. – Низко нагнувшись, Нетудыхин подставил ему спину. – Ну! – Тому ничего не оставалось, как повиноваться.
Мужик оказался каким-то неудобным. Он сползал у Нетудыхина всю дорогу на правую сторону, и всякий раз, когда Тимофей Сергеевич его вскидывал, орал:
– Тихо ты! Это ж тебе не дрова!
– Дрова! – отвечал Тимофей Сергеевич. – Где ты взялся на мою голову?
– Это я взялся?! – Взъерепенился мужик. – Это ты мое место занял! Я бы там не упал. Я там сотни раз лазил. Даже с нашей деревни его никто не занимает, потому как знают – это мое место, Зайцево.
– А что на нем, написано, чье это место?
– Не написано. Но место мое. И мною вчера закрышенное.
– Ты сейчас договоришься! – угрожающе сказал Нетудыхин. – Сброшу на хрен и ползи сам. Добирайся хоть по-пластунски.
– Не сбросишь, – заявил нахально мужик. – Раз уж взялся, доводи дело до конца. Я заплачу.
– В каком смысле? – удивился Нетудыхин.
– Ну, налью стакан. Да и бутылки не жаль за такие труды, чего там.
– Ты что?! – возмутился Нетудыхин и резко спустил мужика. Тот заорал. – Да я же тебя пожалел! А ты мне бутылку предлагаешь. Ты не христианин.
– Христианин! Вот те крест, христианин! Иначе бы и бутылку не предлагал.
– Ползи дальше сам, – сказал Нетудыхин. – Я погляжу, как это у тебя получится.
Он достал сигарету и закурил.
– И-и-и… Тебя как зовут? – спросил мужик.
– Тимофей.
– А по отцу?
– Сергеевич.
– А меня Василий Акимович. Вот, видишь, познакомились. Ну кури, кури, не нервничай. Доберемся как-то. Слушай, елки-палки, а ты мотоцикл не водишь?
– Вообще ничего не вожу.
– Жаль. Во дворе у меня стоит мотоцикл с коляской. Сейчас бы сюда приехал и через пару минут – мы дома.
– Давай поднимайся, – сказал недовольный Нетудыхин, несколько успокоившись и поняв, что он действительно не может бросить человека вот так, в беде. – Склон придется брать в два приема. Ты как будто и не тяжелый, а на-гора тебя нести будет трудно.
Двинулись. Тимофей Сергеевич шел ритмично, глубоко дыша, и уже на середине склона сообразил, что останавливаться ему не стоит, сил, пожалуй, хватит до верха. Василий Акимович на этот раз притих и не раздражал его своими репликами. По опыту крестьянина он знал: если лошадь потянула груз внатяжку, мешать ей не надо.
Преодолев склон, Нетудыхин спустил мужика и опять закурил.
– А что у вас здесь водится в пруду? – спросил он свою ношу.
– Все водится, – отвечал Василий Акимович. – Карась, тарань, красноперка, судак. Карп должен днями начать клевать. Рыбы – море. Ловить некогда.
– Это почему же?
– Работа заедает. Сейчас вот все на сенокос выехали.
– А ты что же?
– Федька заболел.
– Какой Федька?
– Трактор мой.
– Так ты тракторист?
– Механизатор.
– Ну и как тут житуха у вас, в колхозе?
– Да как тебе сказать? Не украдешь – не проживешь. Если бы не домашнее хозяйство, то и с сумой можно по миру пуститься. Правда, механизаторы живут лучше других. Потому что, опять же, у них есть просто большая возможность украсть. И земля будто неплохая, и люди не лодыри, а толку что-то нет. Нет хозяина хорошего. Председатели меняются через два-три года. Все городских привозят. Но что они смыслят в крестьянском деле?.. Так и живем.
Представление о жизни в деревне было у Тимофея Сергеевича весьма приблизительное. Человек города, он знал ее в общем, и не мог себе объяснить, почему это в России жизнь крестьян всегда была неблагополучной.
– Ладно, – сказал Тимофей Сергеевич, – поехали. Расслабляться сильно нельзя. – И, погрузив пострадавшего механизатора на себя, двинулся дальше.
Через две передышки вошли в деревню. Василий Акимович оживился.
– Вон дом с кокошниками на окнах – это моя хижина. Сейчас крик начнется – не дай Бог!
На подворье, у колодезного сруба, женщина переливала воду из бадьи в ведро.
– Запомни на всякий случай: четвертый справа. Может, когда в гости пожалуешь – милости прошу. Приму – не обижу.
Тимофей Сергеевич толкнул коленом калитку и внес Василия Акимовича во двор. Женщина обернулась и замерла в изумлении.
– О, Боже! Что случилось? – всплеснула она руками. – Что с тобой, Васинька?
– Ногу поломал, – сердито ответил Василий Акимович.
– Ну, конечно, после такой пьянки, какую вы вчера с кумом учинили, разве земля под ногами будет держаться? О, Господи! Что ж это такое?
– Куда его? – спросил Нетудыхин.
– Сюда, сюда, пожалуйста. Клади на лавку. О, Боже!
Нетудыхин опустил мужика на скамейку.
– Хватит причитать, – сказал Василий Акимович. – Что случилось – то уже случилось. Ты сходи и налей там человеку бутылку. Если бы не он, я вообще не знаю, как бы с пруда добрался.
– Ты что, не понял меня? – спросил Нетудыхин.
– Ты не пьешь?
– Случается, выпиваю.
– Так почему же ты отказываешься? Не уважаешь крестьянина?
– Ты знаешь что, ты меня не зли! Давай разувайся, посмотрим, что с ногой. Помогите ему, – обратился он к хозяйке. – Ложись.
С трудом и причитаниями сняли правый ботинок и подвернули штанину. Голеностопный сустав оказался распухшим и воспаленным.
– Надо бинт, – сказал Нетудыхин. – И кусок жесткого картона. Или дощечку небольшую.
– Картон, кажется, есть. А бинт – где ж его взять?
– Ну, старая простынь, полотно длинное, чтобы можно было перевязать сустав.
Хозяйка побежала в дом.
– Вот что я тебе скажу, Василий Акимович, пока нет жены. Тебе нужно срочно показаться травматологу, желательно сегодня.
– Что, совсем хреновое дело?
– Я не врач. Может, вывих, может, трещина. А может, перелом. Надо, чтобы посмотрел специалист. Иначе ты со своим Федькой можешь расстаться. Понял?
– Да ты что! – сказал Василий Акимович. – Это так серьезно?
– Очень серьезно, – подтвердил Нетудыхин.
– Ну, блядь!..
Принесли старую простынь и переплетную крышку от какой-то книги.
– Пойдет? – спросила хозяйка.
– Пожалуй, – ответил Нетудыхин.
Любопытно, к кому так варварски относятся в этом доме? Он взглянул на темно-вишневый переплет: И. В. Сталин "Краткая биография". Да, не думал Иосиф Виссарионович, что его жизнеописание будет использовано для такой нужды народной.
Нетудыхин оторвал от простыни полосу и скатал ее в рулончик. Потом он согнул переплет в полуцилиндр и, приспособив его к ноге, стал обматывать. Василий Акимович заойкал.
– Терпи-терпи, – говорил Тимофей Сергеевич, – Повязка должна быть тугой.
Когда бинтовать закончили, оказалось, что нога в ботинок не входит. Пришлось одеть ее в носок.
– Слышь, Нюр, – сказал Василий Акимович, – человек говорит, надо срочно к врачу. Сбегай, наверное, к Илье, если он еще не сильно опохмелился, пусть отвезет меня мотоциклом в Покровское. Мотай.
И она помотала, оставив все свои дворовые дела, моля Бога только о том, чтобы кум Илья не оказался с утра сильно пьяным.
– Ну, я тоже пошел, – сказал Тимофей Сергеевич. – А то еще кто-нибудь на пруду уведет мой рюкзак.
– Давай, – сказал Василий Акимович. – Спасибо тебе. Ты меня здорово выручил. Будешь как-то, может, у нас – заскакивай. Мы люди простые, чего там. Удачи тебе.
Они пожали друг другу руки.
Нетудыхин вышел со двора и припустил к пруду. Но оказалось, волновался он зря: все было на месте. И самое удивительное, что рыбалка у него в тот день получилась на редкость удачная. Вечером, добираясь домой, он тащил рюкзак рыбы.
Недели через три, в субботу, Нетудыхин вновь заявился на пруду. После рыбалки заглянул к Василию Акимовичу. Тот уже шкандыбал по двору с палочкой и был искренно обрадован появлению Тимофея Сергеевича.
Отнеслись к нему, конечно, как к дорогому гостю. Соответственно накрыли стол. Оказалось, что с Василием Акимовичем в доме живет еще мать жены, глухая бабка Авдотья. В армии служат два сына-близнеца. Василий Акимович показывал Тимофею Сергеевичу их фотографии и, прихлопывая по ним ладонью, пьяненький, гордо произносил: "Орлы"! "Орлы". Между прочим, служили в стройбате…
Засиделись допоздна. Пришлось Нетудыхину заночевать у Василия Акимовича.
С того вечера всякий раз, как Тимофей Сергеевич появлялся на пруду в Победоносном, он забегал на минутку к Василию Акимовичу. Привозил ему из города то крючки дефицитных размеров, то тонкую цветную леску, – словом, они, несмотря на всю разницу в возрасте, закорешевали.
Глава 17
На отдыхе
В тот отпускной приезд Нетудыхина жизнь семьи колхозного механизатора стала открываться Тимофею Сергеевичу во всех своих заботах и тяготах. И по мере того, как он с ней знакомился, его собственная представлялась ему жизнью сибарита.
Поднимались они, Василий Акимович и Анна Петровна, в половине пятого утра. Двор, наполненный живностью, уже поджидал их появления. Вся эта свора, завидев хозяйку или хозяина, начинала хрюкать, крякать, кудахтать и требовала жрать.
Нетудыхин не понимал, зачем нужно было держать столь хлопотное хозяйство. Оказалось, надо. На колхозные заработки не проживешь. А в деревне всего один захудалый магазинишка, в котором практически, кроме папирос, водки и разной хозяйственной дребедени, ничего нет. Хлеб, правда, три раза в неделю завозили из Покровского. За всем остальным ездили в город. Накануне же праздников обычно деревня снаряжала гонцов в Москву. Оттуда привозили колбасу, сыр, элементарную сельдь, другой дефицит. Так что, если ты хотел быть сытым, всю эту многоголосую свору нужно было держать.
Дворовая живность, однако, составляла лишь одушевленную часть хозяйства. Вторую его половину занимали яблоневый сад и огород. Они тоже требовали затраты сил и времени. И выходило, что вся жизнь расходовалась на добычу пищи насущной. Именно она, эта добыча, становилась основным смыслообразующим фактором жизни. Жить, чтобы есть. И есть, чтобы жить. Человек замыкался в каком-то производяще-пожирательном цикле. Постепенно он духовно скудел и оскотинивался. Никакой там культуры не виделось и не просматривалось. Культура здесь исчерпывалась игрой на баяне безногого Кости Федосова, молодежными сходками в зимние вечера у кого-нибудь на дому да редкими свадьбами, на которых всем известная Нинка Ушлакова, захмелев, танцевала и пела под Мордасову своим пронзительным сопрано: "И жить будем, и гулять будем! А смерть придет, помирать будем!" Словом, это было обыкновенное крепостное рабство, прикрытое лозунгами о необходимости жертвы для лучшей жизни будущих поколений – коммунистический вариант христианской аскезы, – упакованное в единство интересов партии и народа, и тем не менее – рабство, в котором положение барина заняло государство. Впрочем, идеологическому обоснованию такого образа жизни никто не верил. Его просто не принимали всерьез. Но магически на всех действовало одно слово: "Надо!" Надо вовремя посеять и вовремя собрать урожай. Надо выполнить поставки государству. Надо думать об урожае следующего года… В правлении колхоза, в Покровском, круглогодично висел плакат, призывающий крестьян отдать все силы для выполнения задач, поставленных перед колхозниками партией. Время от времени менялся только порядковый номер съезда.
Самым же удручающим было то, что крестьяне давно свыклись со своей участью. Их совсем не возмущал такой каторжный удел. Рабы потому и остаются рабами, что их участь представляется им естественной. Как только они начинают задумываться над вопросом, почему это все же так ведется, они становятся на стезю человека бунтующего.
Подрастающее поколение перенимало опыт предков в виде окостеневших традиций. Впрочем, многие из молодых, особенно возвратившиеся из армии, бежали в города. И это можно было рассматривать как пассивный протест против такой жизни. Деревня постепенно старилась и деградировала.
Нетудыхин поинтересовался у Василия Акимовича, везде ли так живут крестьяне?
– Чуть хуже, чуть лучше, а в целом живут так, как и мы, – отвечал Василий Акимович. – Если здоров и вертишься, жить можно. Некоторые живут даже хорошо. – И стал приводить конкретные примеры зажиточных односельчан, которые, однако, по его собственным словам, все же оказывались ворюгами или состояли в колхозной верхушке.
Разговор был исчерпан.
Меж тем жил Нетудыхин у Василия Акимовича своей независимой жизнью. В его распоряжение предоставили самую большую комнату в доме – светлицу. Никто ему не мешал. И завтра не надо было спешить в школу.
Баба Авдотья днями толклась по двору и на огороде. Когда наступал полуденный зной, она шла часа на полтора-два в дом отдыхать. Наблюдая за ней, Нетудыхин пришел к неожиданному выводу: она живет по инерции, живет в силу привычки. И поддерживает ее в этом то убеждение, что так исконно жили и живут другие.
Стояла адская жара. Клев на пруду прекратился. В полдень воздух нагревался до того состояния, что листья яблонь начинали сворачиваться. Нетудыхин забросил рыбалку и стал бродить по лесам.
Поднимался Тимофей Сергеевич как дома, где-то в половине седьмого-в семь. Хозяева к этому времени были уже на работе. Нетудыхин завтракал, брал старое рядно, папку с запасом бумаги и уходил в лес.
Дурманяще кружило голову разнотравье. Утро полнилось многоголосием птичьей братии. Казалось, лучших условий для творческого труда нельзя было и пожелать. А почему-то не писалось. Не шли ни стихи, ни проза. О чем бы он ни начинал думать, в конечном счете он сворачивал к событиям последних месяцев своей жизни. Сатана мешал ему творчески сосредоточиться.
И вдруг что-то разверзлось в Нетудыхине. Прорвалось, лопнуло, потекло… "Жребий" – вот как должна быть названа его Большая книга. Не "Судьба", не "Удел", а именно "Жребий" – единственный и неповторимый. От судьбы и удела при известном уровне интеллекта можно еще как-то извернуться, от жребия – никогда. Он есть результат высшей игры случайностей и не подвластен человеку. Когда-то, в силу стечения различных обстоятельств, Нетудыхину выпал жребий родиться на свет. Но с такой же вероятностью он мог и не выпасть. Нет никакой закономерности в том, что 11 февраля 1937 года Нетудыхина Анна Ивановна родила Нетудыхина Тимофея Сергеевича. Соитие двух влюбленных существ могло бы по каким-то причинам и не состояться. И даже их знакомство. Но появившись на свет однажды, человек становится замкнутым в жесткую структуру бытия. Он изначально предопределен: планетой, местом рождения на ней, нацией, языком, текущим состоянием мира, наконец, собственными генетическими задатками. Да, у него есть некоторая свобода. Он волен выбирать. Но только, исходя из тех возможностей, которые ему предоставляет эта структура.
В социальном же плане родившись, он невольно становится соучастником драмы, разыгрывающейся на планете неизвестно какое тысячелетие. Содержание ее приблизительно знакомо всем – борьба за существование. Тут ему необходимо сделать выбор между Добром и Злом. Хотя результат, что бы он ни выбрал, заведомо известен – персональная смерть каждого из участников. Спектакль продолжается, несмотря ни на что. И на всех уровнях жизни. Для полноценного участия в нем человек должен освоить технику игры и выбрать себе подходящую роль. Но с выбором роли дело обстоит тоже не так просто. Некоторые роли разобраны еще до его появления. Поэтому за роль нужно бороться. Мало знать текст. Его надо еще пропустить через плоть и кровь свою и подать так, чтобы произносимые тобой слова звучали убедительно. Иначе тебе не поверят, что ты именно тот, за кого ты себя выдаешь. Проигнорируют. Засмеют. Затопчут. Или, как это было с Иисусом, распнут на кресте. Но опять же – все это возможно лишь при определенных генетических задатках и наличии известной установки в человеке. Поэтому надо идти и играть. Иди и играй. Уверенней, смелее. Если можешь, – дерзее. Таков общечеловеческий жребий. Иного пока не дано.
А что собственно было дано тем, кто родился в России в конце 30-х и потерял своих родителей на войне? Распределители, детдома, колонии? И голод, им был дан постоянный голод, который заставлял их идти на преступления, а затем, по достижении в колониях совершеннолетия, по этапу дальше, – туда, на досидку, в переполненные тюрьмы и лагеря, где уже отбывали срока их отцы и старшие братья. По неприкаянности своей судьбы это поколение уравнялось с поколением 20-х годов, хотя и не было, за исключением единиц, участником войны. Но оно своими детскими глазами заглянуло в морду разлютовавшемуся Злу и, быть может, острее других почувствовало весь ужас того состояния рода человеческого, которое люди именуют безличным словом "война".
В детдомах и детколониях господствовал произвол: старшие притесняли меньших, боговали. Своенравных учили кулаком. Причем били остервенело, так, как это умеют делать только упивающиеся своей физической властью подростки. Покорись общему порядку или шестери старшему, тогда тебе будет некоторое послабление. Отсюда начала свое гнусное шествие будущая дедовщина. Герой войны постепенно отходил. Его место занял приблатненный тип, наглый и сильный, с золотой фиксой, ставший для дворовых мальчишек образцом для подражания. Но насилие было противно духу Нетудыхина. И как только наступала весна, он бежал на волю. Правда, там тоже было несладко. Воля ставила перед ним свои проблемы. Он вынужден был сам творить Зло. Его отлавливали и водворяли вновь. Круг замыкался.
Наконец, он решил больше не бегать. Довольно, надоела ему беспризорная жизнь. Пора переходить со своей участью на другой язык. Надо как-то увертываться, пока не пройдет черная полоса.
Детский дом, в котором он на этот раз приземлился, был старым, основанным еще в 20-х годах. Порядки в нем оказались относительно терпимыми. Была при детдоме школа. Был отдельно спальный корпус, мастерские, небольшой самодельный стадион. Располагался детдом в бывшем монастыре. Веяло от него средневековьем и тюрьмой. Впрочем, в те времена Нетудыхин быстро приспосабливался ко всяким обстоятельствам.
Через месяц пребывания в детдоме он уже был в нем своим пацаном. Даже завел себе в классе подругу – Нелку Блейз, по прозвищу Кока, которую он опекал от двусмысленных притязаний своих же товарищей. Пацаны подкалывали его: в жидовку втюрился. Нетудыхин свирепел и, резко притягивая к себе обидчика за грудь, люто грозился: "Еще раз тявкнешь, падла, я из твоего сучьего рыла мочалку сделаю! Усек?"
А чего там было не усекать? Нетудыхин был достаточно крепок, и решительное выражение, появлявшееся на его лице в такие моменты, убеждало: может, псих, сделать, запросто. Пацаны под столь озверелым натиском отступали.
В одном они были несомненно правы: Кока, конечно, легла ему на душу полностью. С заметной грудью, с пышными, чуть курчавыми темными волосами, лобастая и слегка веснушчатая, она в облике своем уже проклевывалась как женщина и притягивала к себе подростков. Нетудыхин, после первых свиданий с ней, решительно ей заявил: ''Дружишь только со мной. Никаких шашлей с другими." Она промолчала. С такой категоричностью она еще не встречалась.
Кока была детдомовским старожилом. Она ввела Нетудыхина в курс потаенной жизни детдома и сориентировала Нетудыхина в его дальнейшем поведении.
Постепенно, из разговоров с ней, он узнал ее историю. Родилась она в Таллине. Отец ее был эстонский еврей, мать – прусская немка. В год оккупации Прибалтики родителей ее репрессировали. Маленькую Нелу забрала к себе во Владимир родная тетка, сестра отца. В
47-м тетка неожиданно умерла от инфаркта. Куда деваться? Был еще брат у отца, дядя Боря. Он проживал где-то в Москве. Но адрес она его точно не знала. Решилась все же попробовать его отыскать. И самостоятельно отправилась поездом в Москву. Никакого дядю она, конечно, не нашла. В конце концов оказалась здесь, в детдоме. В ее душе надолго сохранилась эта горечь от несостоявшейся встречи с дядей, которого нерасторопная московская милиция почему-то так и не смогла отыскать. Зато дядя, много позже, разыскал Нелу сам. Она узнала, что в момент, когда она колесила в его поисках, он уже находился в Мельбурне, хорошо осведомленный о судьбе своих близких…
Нетудыхин, разумеется, о своей мужицкой биографии не стал распространяться. Сказал ей просто: отец погиб в войну, мать умерла. Теперь он босячничает.
– Как-как? – переспросила она. – Босячничаешь? А что, есть такое слово?
– Ну, босякую, – неуверенно ответил он.
Она была очень чувствительна к языкам. Немного говорила на идише – тетка научила, – и ей легко давался немецкий.
После первых исповедальных вечеров, проведенных с нею, Нетудыхин понял: он действительно втюрился по уши. Еще такого с ним не было, чтобы он не мог заснуть до утра…
А страна решительно поднималась из руин. Люди с превеликим трудом восстанавливали порушенное войной. Жизнь обретала новый смысл. Везде нужны были руки.
У Нетудыхина появилась идея: по окончанию учебного года просить, чтобы дали путевку в ФЗУ или РУ. Тогда такие направления практиковались. Детдомовцев принимали без всяких экзаменов. Однако Нетудыхин несколько поторапливал судьбу.
Был в детском доме воспитатель. Майтала его звали. То ли это фамилия его была, то ли кликуха, данная пацанами, Нетудыхин точно не знал. Толстый такой, с заплывшими от жира глазенками, с ватными руками и ласковой, льстивой улыбочкой. И вечно неряшливый, засалено-блестящий какой-то.
Вот этот маразматик и положил вдруг глаз на Коку-Нелу. Пацаны это дело унюхали сразу и донесли Нетудыхину. Он спросил у нее:
– Это правда?
– Что ты, Тима?! – заверила она его. – Он просто ко мне по-отцовски благожелателен.
Нетудыхин не поверил, но дальше расспрашивать не стал.
Накануне майских праздников Майтале выпало ночное дежурство в спальном корпусе. Дело обычное. Отбой в общежитии производился по звонку в 22.00. А кружок художественной самодеятельности детдома готовил в тот вечер праздничный концерт, в котором Кока была ведущей программу. Мама Фрося, руководитель кружка, сильно задержала детей на генеральном смотре. Группа пришла в общежитие около одиннадцати вечера. Под видом выяснения причин такого нарушения режима Майтала зазвал Коку к себе в дежурку, и при закрытых дверях состоялся у них жаркий разговор. Что там у них произошло, толком никто не знал. Только через некоторое время малыши, занимавшие комнаты против дежурки, услышали вскрики и какую-то подозрительную возню. Немедленно сообщили старшим…
Через минуту дверь дежурки пацанами была высажена, и Майтале устроили темную. Били его безжалостно: ногами, шваброй, табуретами, вымещая на нем всю накопившуюся злость. Когда включили свет и опомнились в ярости своей, Нетудыхин, глядя на потерявшего сознание Майталу, вдруг понял: теперь ему опять придется бежать. Тут же подстегнулся напарник – Коля Рынков. Уходить решили немедля, пока не прибыла милиция.
Нетудыхин поднялся на девичий этаж и объявил Коке о своем решении.
– Другого выхода нет. Иначе меня зашпаклюют в колонию. – Она была совершенно растеряна, виновато молчала.
Двое рослых пацанов вызвались помочь им перелезть через монастырскую стену. Кока принесла ему невесть откуда добытые новые мальчиковые ботинки его размера. Он переобулся на дорожку. Потом, в бегах, глядя на них и вспоминая о ней, он так и не мог разгадать, откуда же она их взяла.
Из общежития вылезли через окно первого этажа и стали пробираться вдоль спального корпуса, подальше от проходной и въездных ворот. Пацаны с Рынковым шли впереди, сзади – Нетудыхин с Кокой.
Молчали. Нетудыхин держал ее за руку. Дойдя до бывших монастырских погребов, он сказал ей, остановившись:
– Прости. Я не хотел этого. Так получилось.
– Господи! – сказала она, почти как взрослая. – Ну что же это такое?! – Через минуту молчания добавила: – Определишься, напиши маме Фросе. Мы спишемся. Я буду ждать. Сколько бы времени ни прошло.
– Я напишу, – пообещал он. – Я обязательно напишу маме Фросе. Даже из тюрьмы…
Первым пошел Коля. Подсаженный пацанами, он глухо шугнул на той стороне и замолк, словно его там и не было. Нетудыхин с тревогой подумал: "Целый ли?" И пошел к стене сам, крепко стиснув Коку за плечи.
Уже находясь на верхотуре, он на несколько секунд задержался и сказал пацанам:
– Будут допрашивать – валите все на нас. – И ей: – А ты держись! Я найду тебя! Я обязательно к тебе вернусь! – Прыгнул вниз.
Кока не выдержала – разрыдалась…
… У Тимофея Сергеевича тоже подкотил комок к горлу при этих воспоминаниях. Но он был сегодня доволен собой: прорыв, кажется, произошел.
Вряд ли стоит здесь в подробностях рассказывать о дальнейших похождениях Нетудыхина, которые в конечном счете привели его в "места не столь отдаленные". Но чтобы читателю был понятен последующий ход событий, кое-какие коррективы внести надо.
Письмо Нетудыхин все-таки маме Фросе написал. Ошибся, правда, обратным адресом: не из тюрьмы написал, а из лагеря. И, к своему удивлению, получил ответ.
Мама Фрося сообщала ему, что та давняя история с Майталой закончилась практически ничем. Майтала долго лежал в больнице. Много раз допрашивали Нелу и таскали пацанов. После выхода из больницы Майтала проработал месяца два или три и умер. Дело прекратили. А Нела сейчас учится в медицинском училище. Вот ее адрес. Дальше сообщалось место проживание Коки.
Началась переписка. Боже, какие он письма писал ей! Петрарка бы позавидовал, наверное. Поэтому я, со своими скромными возможностями, не берусь пересказать их. Это было бы равносильно, как высокую лирику поэта излагать прозой. Кока никак не ожидала, что в нем, мальчишке, – а она представляла его все еще мальчишкой, – обнаружится столько неподдельной страсти.
Несколько слов, наверное, надо сказать здесь и о маме Фросе, тем более что в жизни Нетудыхину не часто приходилось встречать таких людей.
Мама Фрося – Ефросиния Романовна Бородина – относилась к тому типу людей, при встрече с которыми у человека появляется желание быть лучшим. Это редкий дар – излучать из себя доброту, заражая ею других. Ей было уже за пятьдесят, и в детдоме она преподавала русский язык и литературу. Дворянка по происхождению, в революцию она пришла экзальтированной девушкой, уверовав в идеалы новых преобразователей жизни. Но как человек честный, она очень скоро убедилась в том, что совершила роковую ошибку. Однако отступать назад уже было невозможно, да и опасно. После гражданской войны ее, бывшую курсистку, командировали на воспитание столь численно разросшегося за годы разора беспризорного племени. И она отдавалась делу сполна. Она верила в людей. Верила в то, что они могут быть лучшими, чем они есть. А теорию Ломброзо считала расистской. "Люди преступниками не рождаются, – любила она повторять. – Таковыми их делают обстоятельства". Даже в самых отъявленных и педагогически запущенных детдомовских сорванцах ей удавалось открывать таланты и очеловечивать их искалеченные души. Не имея детей собственных, она вела большую переписку с бывшими воспитанниками детдома и, в отличие от других работников, очень гордилась своим прозвищем. В известном смысле она была символом детдома. И именно ей детдомовцы были обязаны тем, что, теряя время от времени друг друга на жизненном пространстве, они всякий раз восстанавливали свою связь через маму Фросю.
Весть о том, что Кока учится в медучилище, заставила Нетудыхина задуматься о собственном образовании. На Воркуте, куда его тогда занесла судьба, завершился пересмотр дел политзэков. Зоны опустели. Постепенно их стали заполнять косяками уголовников, прибывавших со всего Союза. Шел контингент принципиально иного качества.
Меж тем бунты прошлых лет вынудили власти смягчить режим. Установили девятичасовый рабочий день. Сняли с заключенных номера, с барачных окон – решетки. В больших зонах начали открывать школы. Преподавали в них бывшие политзэки, которые под амнистию-то попали, но с ограничением права местопроживания.
Нетудыхин пошел учиться. Наконец, у него появилась цель: получить среднее образование, пока тянется отсидка.
Коке он ничего не написал. Зачем ей об этом знать? Стиль его писем несколько поблек в сравнение с тем эмоциональным накалом, каким они горели в начале их переписки.
Ко дню своего досрочного и столь неожиданного освобождения у Нетудыхина лежал в личном деле аттестат зрелости. Казалось бы, все складывалось как нельзя лучше. Но к Коке-Нели, которая к тому времени училась уже в мединституте, Нетудыхин решил не заявляться. С чем заявляться? Со своим позорным прошлым и аттестатом зрелости? Нет, к ней нужно явиться, если не победителем, то хотя бы ровней. Пусть потерпит.
Очередное письмо Коки возвратилось к ней с пометкой: "Адресат выбыл". Она стала терпеливо ждать вестей, полагая, что его перебросили нановое место. Прошло месяца два – писем от него не поступало. Кока забеспокоилась и написала в спецчасть тюрьмы. Оттуда ответили: освобожден по амнистии. Кока не поверила. Так где же он? Остался во Владимире? Сбросили с поезда по дороге к ней? Убили?.. Кока перебрала десятки вариантов, – и ни в один из них она не могла поверить.
Потянулись тягостные месяцы молчания. Она чувствовала сердцем, что он жив. Он не тот человек, с которым можно расправиться без особых усилий. Он все равно должен к ней явиться. Должен. Перечитывала его письма. А время шло, он не обнаруживался, и она уже начинала подумывать, что, может быть, с ним случилась какая-то беда.
Но он все-таки заявился. Когда уже сам поступил на вечернее отделение пединститута. Возник, как видение, и исчез, разбередив ей всю душу.
В деканате педиатрического факультета он узнал, где она проживает. В общежитии поднимался на третий этаж с замирающим сердцем и боялся, что при встрече с ней, он, как мальчишка, может пустить слезу. Внутренне пытался себя зажать. Господи, сейчас он увидит ее – ее, кого он лелеял все эти годы в себе с глубочайшей нежностью!..
Дверь комнаты была приоткрыта. Слышался оттуда разговор. Нетудыхин потянул дверь на себя и вошел без стука.
В комнате, заставленной четырьмя койками, рослый парень пытался притянуть к себе темноволосую девушку и поцеловать ее. Она повернулась на шум открывшейся двери и замерла.
– Вы к кому? – спросил у Нетудыхина парень, совсем не обескуражившись тем, что Нетудыхин застал их в столь пикантной ситуации. Нетудыхин ничего не ответил.
Они, разумеется, узнали друг друга. Ах, какая она показалась ему расцветшая и красивая! Преступно красивая! Сцена тонула в свинцовом молчании. Лицо ее залилось румянцем.
– Вам кто нужен? – уже нагловато и даже с некоторым раздражением переспросил парень.
Не обращая никакого внимания на заданный вопрос, Нетудыхин сказал:
– Я же тебе говорил, я обязательно вернусь!
И вышел из комнаты.
– Ти-и-има! – закричала она ему вслед. – Подожди! Я все объясню!
Он стремительно побежал вниз по ступенькам лестницы…
Через день она получила от него письмо с одним словом: "Сука!"
В диком отчаянии прожила несколько дней. Потом написала большущее письмо маме Фросе и поведала ей откровенно всю приключившуюся историю. Та прислала ответ. "Все уладится, Неля, – писала она. – Все станет на свои места. И хоть он тебя оскорбил, а любит, наверное, страстно. Любовь всегда соседствует с безумием ревности. Ведь ты же должна понять, как ему больно думать о том, что ты вдруг можешь принадлежать не ему, а кому-то другому. Поэтому прости и полюби его еще больше. А он услышит. Он это сердцем почувствует. Вот тебе его последний адрес. Мне его прислал Вадик Косой. Помнишь такого? Они живут в одном городе. Тимке же я обязательно напишу сама…"







