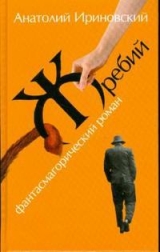
Текст книги "Жребий"
Автор книги: Анатолий Ириновский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 26 страниц)
Но как ей было объяснить Нетудыхину этот глупый инцидент? Нет, писать она так и не решилась. И он молчал…
При выпуске из института, узнав, что ее направляют в его родной город, она все-таки послала ему телеграмму. Пусть знает, где ее искать. Надежда еще теплилась в ней…
На следующий день, утром, без всякой видимой связи с воспоминаниями о Коке, вдруг написалось стихотворение. Выплеснулось на бумагу почти набело, вернув его в мучительный круг вечных вопросов…
А вечерами, переписывая и правя тексты, Нетудыхин все глубже погружался в свое прошлое. "Жребий" – теперь он так называл свою Большую книгу – затягивал его. Писалось легко, вдохновенно, и в эти дни он, может быть, был счастлив, как никогда.
Василий Акимович, уже осведомленный о том, что Нетудыхин пишет книгу, старался его не беспокоить своими разговорами. В конце недели, правда, поинтересовался у Тимофея Сергеевича:
– Что там на пруду деется? Клев есть?
– Мертво, – ответил Нетудыхин.
– Да, плохо, – сказал Василий Акимович. – Но ничего. Завтра у меня свободный день. Между прочим, если хочешь, мы с тобой кое-что сморокуем. С этого берега, от деревни, у меня есть одно местечко. Я там каждый год вырезаю камыш – получается такое маленькое озерцо. В тени. И, ты знаешь, как закрышишь на ночь, даже в жару, утром – хороший клев. Плохо ей сейчас, рыбе. Вареная она в этом году.
Вечером, в сапогах, с закрыхой и ножами, пошли они вдвоем на пруд. Возились часа полтора. А утром, на зорьке, уже сидели оба на своем искусственном озерце, с нетерпением ожидая клева.
Глава 18
Охота на зайцев
– Вот ты все пишешь и пишешь, – говорил Василий Акимович Нетудыхину. – А о чем, любопытно спросить, если не секрет?
– О себе, – отвечал Тимофей Сергеевич.
– А ты бы про нас написал, про нашу колхозную жизнь. Чтобы знали люди, как мы тут мыкаемся и тянем лямку.
– Так я же не знаю вашей жизни. Как же я могу писать о том, чего сам не знаю?
– А я расскажу – ты запомни. Или про мою, например, жизнь. Особенно, как я воевал. Это, я тебе скажу, целый роман получился бы. А может, и два: один про то, как партизанил, другой про то, как сидел.
– Тут тоже нужны знания. Войну с кондачка не возьмешь.
– Хочешь, расскажу, как я воевал? Может, где-то пригодится тебе.
– Вполне возможно, – согласился Нетудыхин.
И Василий Акимович поведал.
– Я войну, Тима, встретил двадцатидвухлетним. Пацаном, можно сказать. На срочной службе, рядом с Брестом. Но не на самой границе, а полк наш располагался километрах в двадцати от нее. Свалилась она на нас, как снег на голову. Заключили же мирный договор перед этим с Германией, вроде друзья-товарищи, и тут – на тебе: нападение.
Подняли нас по тревоге. А уже самолеты немецкие гудят в небе, бомбежка началась. В полку паника настоящая. Стали экстренно отступать. Наша рота прикрывала отход полка. Но какое там прикрытие! Я только успел два раза выстрелить – и больше ничего.
Идем. Кругом леса, болота. Танки, слышно, немецкие где-то ревут. Немцы рывком пошли вперед. Значит, мы уже в окружении находимся. Представляешь? Идем гамузом, как бараны. Куда дышло показало, по той дороге мы и пошли.
К вечеру догоняем наш обоз разбомбленный. Стоят подводы, куча подвод. Лошадей нет. Постромки пообрубаны – лошадей увели с собой. Только телеги стоят – полные, груженые. И никого уже нет из обозных – ушли. Сахар! Сахар прямо мешками валяется. Лежит концентрат в подводах. Местные крестьяне подъехали на своих бричках и перегружают себе наш провиант.
Я подошел, противогаз выкинул, – на хрена он мне теперь сдался! – полную сумку сахара набил. Даже в гимнастерку, в карманчик, и то грудку всунул. Понял? Шинель со мной была. В шинель я набил полные карманы концентратов: гороховый, гречневый… Мне б, дураку, надо было вот сюда, за пазуху, блядь, напхать этих концентратов! А я только по карманам рассовал – и все. Смотрю, консервы мясные крестьяне тащат в ящиках. Я взял у них пару банок. Одну – сахар не выбрасываю – кое-как пристроил сверху в сумке от противогаза, а вторую прихватил так. Крестьяне говорят: вон, мол, берите еще, ящики открыты. Все равно пропадет. А куда брать-то, во что?
Ну, штыком, значит, открыл банку, иду и ем. А хлеба-то нет. И консерва жирная, свиная. Точно, меня пронесет. Вижу, один боец сухари наяривает. Я говорю: "Там пару сухарей подкинь". Он мне дает пару сухарей. Я иду и эту банку наворачиваю. Целый же день ничего не жрал. Я эту банку килограммовую упер. Уложил всю. Здоровый же был, молодой. Не то, что сейчас. Да-а. Отступаем дальше. Кое-где вдоль дороги попадаются наши солдатики мертвые, что под бомбежку попали. Один, рядом со мной шел, заметил лейтенанта убитого – наган у того на боку был, – побежал захватил наган. В карман – и пошел. А у меня десятка была. Сначала у меня была простая винтовка. Но при отходе я себе раздобыл десяточку. Она, зараза, стреляла хорошо, но капризная очень: песку боялась. Так, чуть-чуть, где-то попал – все, пиздец, заела. Уже ты с ней стрелять не будешь, надо чистить. А прицельная была. Штык на ней был, как кинжал. Не граненый, а плоский такой.
Выходим из леса: слева болото, справа болото. Дорога между ними – ну, так метров пять-шесть. А может, и уже местами. Если две подводы встретятся, то какой-то из них надо будет одним колесом по склону катиться. Видно, что кто-то недавно прошел по дороге. Пошли и мы, что ж делать. Перешли болото, вошли в лес – хутор стоит. Меньше десятка хат. Пить хочется – зашли на хутор. Дали попить. Да и хлеба бы не мешало. Нет хлеба. Никому даже кусочка не дали, паразиты! Попрятали хлеб. Первый же день войны, и никто не знает, что будет завтра. Понял?
Пошли дальше. Опять заходим в лес. То мы шли по сосняку, а это уже начался лиственный лес: береза, граб, дубки молодые… Где-то в стороне, слышим, бой идет. Уже темнеть начало. Идем осторожно. И натыкаемся на свой собственный полк. Что такое? Что за костер дурацкий? Оказывается, наша полковая рация горит. А рация тогда ж была на лошадях, вроде как наподобие тачанки. Бумаги палят особисты, свои бумаги.
Ищем командира полка. А тут и он навстречу. Он знал меня. Я у него весной с другими бойцами крышу на доме перекрывал. Увидел – говорит: "Вовремя вы подоспели, сержант. Берите четырех ребят, будете раненых принимать". Все. Что я должен делать? Командир полка приказал. Приказ обсуждению не подлежит. Его надо выполнять. Да, а там бой идет все это время.
Начал я принимать раненых. Правда, таких чтоб сильно тяжело раненые не было. Один, это уже как тяжело раненый, попался: за гашетку пулемета держался боец, ему пуля и прошила обе руки.
Собралось их человек сорок. У того то простреляно, у того то. А жрать-то ничего нет. Жрать-то люди хотят. Они ж не знают, что там обоз с продуктами разбомбили, а остаток крестьяне растянули. Им же никто не говорил. А те, что с нами пришли, знают, но молчат. Ну, я свою сумку сахару отдал, банку консервов отдал. Там еще ребята поделились, у кого что было. Скинулись, в общем, покормили раненых.
Вдруг приказ командира полка: расходиться по ротам. Будем выходить из окружения через болото. Впереди нас, доложила разведка, большое болото. Раненые идут последними. Ну, меня не назначили их сопровождать. Назначили кого-то другого.
Бросаем технику, лошадей. А лошади у нас в полку были, Тима, я тебе скажу! Красавцы! Мощные тяжеловозы. Любое орудие пара лошадей вытаскивала. Выпрягли – отпустили в лес. Жалко.
Да-а. Подошли до болота. А ему конца не видно. Тут не то, что лошадьми не пройти, а хотя бы пеше как-то пробраться. Но другой-то дороги у нас нет. Кругом немцы. Надо идти.
Мы пробирались целую ночь. Целую ночь, как по подушке шли. Такое болото, травой заросло, корчи, блядь… Я эти Припятские болота запомнил на всю жизнь. Когда ступаешь, оно прогрузает. Для следующего шага ногу надо закидывать высоко очень. Потому что впереди бугор. Понял? Как по покрывалу шли. Если бы так пух внизу был, а покрывало сверху, – вот оно похоже. К рассвету, наконец, перешли. Там еще канава, помню, была. Я в эту канаву вскочил. А она, знаешь, все равно как мазут… Ну, ладно. Продвигаемся дальше. Наткнулись на провод немецкого телефона. Э, ребята, значит, мы еще в окружении. И здесь немец.
Выходим на село – немцы! Мотоциклы во дворах стоят, машины. Но у нас такое ощущение, что это последний немецкий рубеж. Дальше немца нет. И какой-то дурень возьми и закричи: "Ура!" Солдаты побежали вперед. Они нам как дали "Ура!", как дали! С пулеметов, с минометов! Я вижу, дурная курятина, давай правее брать, ближе к лесу. А он, падлюка, чешет по нас почем зря, – ну что ты ему сделаешь! Нас большинство там полегло, большинство! За это дурацкое "Ура!" Если бы мы подошли потихоньку до села, неожиданно ворвались, мы бы их накрыли. А то мы, почти на открытой территории, – там сосна, там сосна – закричали "Ура!" Но пуля-дура учит на бегу: левый край тоже прижался к лесу. Стали мы обходить село с двух сторон. Как сейчас помню, младший лейтенант кричит "Вперед!" Куда вперед, дуралей? Сначала надо соображать. Это мы уже в село вскочили. От одной хаты до другой перебегаем. А немец шурует, гад! И все чего-то пули ложатся впереди нас. Глаза песком забивает.
Заскочили в дом. Я глядь во двор – вижу, он из слухового окна соседнего дома строчит. Вот почему, он так плохо стреляет: ему там, видно, неудобно. Ну, я так прикинул, где он сам должен находиться, прицелился – бац! Вижу, ствол пулемета задрался к небу. И тишина. Готов фриц! Это был первый мой убитый немец, хотя я его в лицо и не видел.
Осмотрелись в хате – никого нет. Под кроватью стоит целое ведро табака. Притом старый табак, крышеный. Все честь честью. И папиросы пачек с полсотни тут же. "Дели". В маленьких пачечках, десять штук в пачке. Ну, мы это все быстро расфасовали по карманам, полбуханки хлеба нашли и оприходовали кувшин молока. Все это на ходу, бегом. И давай, значит, отходить – уже на ту сторону деревни.
Собрались в лесу – ну, чтобы тебе не соврать, если человек сто двадцать – сто тридцать от полка осталось, – так это хорошо. А может, меньше. Черт его знает, я же их не считал. Пошли дальше.
Часа полтора прошли – опять хутор какой-то попался. Но без немцев. Сделали привал. Мужики жрать хотят. Я – вроде ничего. Я ж-то вчера консерву килограммовую улопал. Потом я пару ложек еще баланды с ранеными съел. Молоком сегодня и хлебом подкрепился. А большинство-то уже вторые сутки ничего во рту не держало.
Ну, командир полка посылает, чтобы пошли раздобыли еду хоть какую. Пошли трое бойцов с лейтенантом во главе. Приносят килограммов пять пшена, вещевую сумку картошки. Это на сто с лишним человек. Давай варить. Поделили – получилось каска на 10–12 человек. Каска! Обыкновенная каска, что надевают на голову. Этого варева. А хлеба ж нет. Заморили червяка и опять снялись.
Так мы, петляя, отступали трое суток подряд. И немцы нас выстреливали, как зайцев. Знаешь, заяц, когда попадает в силки, начинает беспорядочно метаться и кричит, как человек. Оно хоть и фамилия у меня Зайцев, а сказать надо правду: вот такое состояние, наверно, было и у нас. Только что не кричали, люди все ж. Куда не ткнемся – везде немцы. Словно мы к ним пришли, а не они к нам.
На четвертые сутки решили привал сделать. Народ охлял: нужен отдых. Командир полка приказывает окопаться. Каждому бойцу вырыть себе окоп. Если немцы нападут, будем сражаться до последнего. Глубина окопа где-то метр тридцать – метр сорок. Я, как окоп вырыл, ввалился в него, ногу вот так на затвор, и как заснул, что мертвый. Клянусь, я ничего не слышал. Потому что у меня документы из заднего кармана выпали и там, в окопе, и остались. Понял?
Утром, где-то так часов около четырех, пролупался – светает! А мне только что снилось, что вроде мы попали под бомбежку. Высунулся из окопа – все дымит кругом, гарью воняет. Смотрю, там человек копошится, там вылазит. Слышу, где-то далеко самолеты гудят. Но все тише и тише. Значит, отбомбились, улетают. Оказывается, что получилось? Видно, немецкая разведка ночью наткнулась на наше расположение и донесла своим. А те выслали бомбардировщики.
Ну, собрались оставшиеся в живых – кучка нас! Командир полка живой, целый. Вижу, белым весь стал, поседел за ночь. "Вот что, – говорит, – мужики. Я не приказываю – полка уже нет, и я не командир. Но выход у нас только один: разойтись по два-три человека и пробиваться к своим. Дальше группой двигаться нам нельзя. Это заметно. Немцы нас так всех перещелкают. Все. Я свое мнение высказал".
Погутарили. Решили расходиться. Пошел со мной на пару Вадим Веденеев, с нашей роты парень. Из городских сам, орловский. Может быть, где-то еще и жив сейчас. А может, погиб. Да, идем-то мы уже по Украине, и везде немцы. Мы же не знали тогда, что они так глубоко прорвались. Решили пробираться ночью, днем спать. Так надежней. А там – сама обстановка себя покажет.
У него – винтовка, у меня – десяточка моя. Главная проблема, конечно, жратва. Косули попадались, кабанов встречали. Шлепнуть можно, но ни хлеба ни соли нет. Жуем землянику, она уже стала подспевать.
В тот день мы подошли к Припяти. Речка по ширине так себе: хорошему верблюду переплюнуть можно. В тех местах она только начинается. Но страшновато днем переплывать. Может, он, немец, где-то на том берегу в засаде сидит и наблюдает.
Отлежались до темноты. Разделись наголо, привязали к винтовкам робу и вперед. Переплыли, слава Богу, благополучно. Пошли дальше.
Заходим на какой-то хутор. Немцев вроде нет. Собаки, сволочи, такой лай подняли – на весь лес слышно. Хозяин впускать не хочет. Кто такие? Мы ответили. Молчит. Вадим давай опять стучать – открыл. Зашли в хату – пахнет жареной картошкой и салом. Ну, покормил нас мужик, даже дал на дорогу кусок сала и буханку хлеба. Драгоценный дар!
Через сутки забились мы с Вадимом в копну сена и спим. Слышу, на рассвете, кто-то вроде подъезжает к нам. Разговаривают. Я шепчу Вадиму: "Крестьяне за сеном, наверно, приехали. Вылазим. А то нас сейчас еще на вилы посадят".
Вывалились – все в сене. Смотрим: действительно, мужик с пацаном приехал за сеном. Стоят смотрят на нас с удивлением. А мы же заросли, пооборвались за эти дни отступления. Не людьми, а чертями, наверное, им какими-то кажемся.
Мужик говорит по-украински. Но говорит на таком наречии, что его трудно понять даже мне, который вырос на Украине. Кругом немцы, говорит. Положение наше безнадежное. Но одного из нас он мог бы взять к себе в хозяйство: ему нужен работник. "Что он лопочет?" – спрашивает Вадим. Я объясняю. "А двоих?" Нет, двоих ему не надо. Второго он может снабдить одеждой, и ему можно будет передвигаться дальше под видом крестьянина. Мы переглянулись с Вадимом. Такого поворота дела мы не ожидали. Тут нам как будто сам Господь Бог вышел навстречу. Что же делать? Подобного случая нам уже больше не представится. Вадим говорит: "Привезет в село и сдаст немцам к чертям собачим! Где гарантия?" Мужик даже распсиховался. Другой вопрос: кому из нас оставаться, а кому ехать? Но он сам выбрал меня. Не знаю, может, он унюхал во мне сельского парня или то, что Вадим его обидел, а только выбрал он меня. Теперь еще вопрос: как быть с оружием? Я свою десяточку бросать не хочу ни в коем случае. Кто ж я без нее?
Ну, загрузились. Попрощался я с Вадимом, прикидали меня сеном, и мы поехали. Договорились, что одежду они привезут Вадиму, когда приедут за второй ходкой.
Около часа, наверное, ехали. Прислушиваюсь по дороге, не говорят ли что меж собой. Но они молчали. Пошатывало телегу на ухабах да мерно шли кони. Знаешь, за этот час я столько передумал, что хватило бы на целый роман. Едешь же, неизвестно куда. Что тебя ждет, тоже не знаешь. А вдруг Вадим окажется прав?..
Наконец, приехали. Слышу, как будто ворота открывают. Оказывается, открывали не ворота, а клуню. Хозяин говорит: "Стрыбай!" Прыгай значит.
Я вылез из-под сена, смотрю – мы в здоровенном амбаре. У них – клуня это называется.
Ну, прыгаю. Сдали они лошадей назад и давай по току сено на просушку разбрасывать. А клуню опять прикрыли. Сижу я, как заяц, осматриваюсь.
Разбросали сено – пошли в дом. Долго там они что-то мороковали. А я жду, что сейчас меня тут накроют. На всякий случай патрон в патронник загнал. Нет, выходят из дома с двумя узлами и идут сюда. Один узел, покрупнее, бросают в телегу. А со вторым, вижу, хозяин идет ко мне. На, говорит, поешь. Отдыхай тут до вечера. Вечером, говорит, будем тебя приводить в человеческий вид. Прикрыл ворота плотно, и они поехали. Опять по сено. Вдвоем с пацаном.
Посмотрел я, что он мне есть принес: картошка молодая в казанке, сало, хлеб крестьянский. Я это все мигом навернул. Лег в амбаре на сено и думаю: "Что же мне со своей винтовкой делать? Куда ее припрятать?" И придумал-таки. Клуня – хозяйственная постройка без потолка. Укрыта она толстым накатом рогозы. Рогоза увязывается между собой отдельными снопами. Я развязал аккуратно один из снопов, всунул вовнутрь его свою десятку и снова завязал. Снизу, если не знаешь, совсем ничего незаметно.
Вернувшись из леса, хозяин даже не поинтересовался, куда я припрятал винтовку. Он, наверно, думал, что где-то в сено засунул.
Вечером меня перевели в дом. Я побрился, помылся, и меня облачили в холстовое рубище местного жителя. Познакомились. Хозяина звали Богданом, дядька Богдан. Придумали мне историю. Я – его племянник Василь. Приехал на лето до дядьки в гости. И тут меня застала война. Никаких документов я с собой не взял.
Я спрашиваю: "А как село ваше называется?" – "Грабово", – отвечают. Ну, мне, что Грабово, что Дубово – один хрен. Мне надо знать, где я нахожусь? Есть ли поблизости какой-нибудь город? Есть. Ковель. Ну вот, это уже что-то для меня значит. Ковель – важный железнодорожный узел.
Началось мое батрачество. Да, надо тебе сказать, что у них колхозов тогда не было. Это мы им потом, после войны, навязали их. А тогда, в войну, были у них индивидуальные хозяйства. У моего хозяина был надел земли, гектаров шесть-семь, наверное. Четверо лошадей, три коровы, десятка два овечек. В общем, жили люди справно. Трудились, конечно. Они большие труженики.
Ну, проработал я у дядьки Богдана до октября. Все убрали, последней выкопали свеклу. Вижу, я ему больше не нужен в хозяйстве. А война-то идет. Немцы уже на юг докатились, и у Москвы, говорят, стоят. Хозяин поговаривает, что в лесах начали действовать партизаны. Но как мне на них выйти? Не отсиживаться же мне здесь всю войну.
Хозяин заявляет мне: в воскресенье мы едем подводой в Ковель на базар. Он меня отпускает на все четыре стороны. Одел, правда, меня по сезону, обул и наложил сумку харчей.
Ковель – городок небольшой. Центральная улица замощена брусчаткой. Базар находился у двух церквей, точнее – костела и православной церкви. Была даже синагога, тоже недалеко от рынка, но уже поврежденная от бомбежек.
Хожу по базару, толкаюсь среди народа, а у самого мысль не выходит из головы: как же все-таки связаться с партизанами? Ну, не закричишь же на весь базар: "Эй, кто знает, где партизаны находятся, подскажите!"
Так я протолкался целый день. Ночь прокоротал в бывшей синагоге. Утром поднялся от холода и понял, что мне здесь, в городе, нечего делать. Немцы меня рано иди поздно подгребут. И ехать мне нельзя, потому что никаких документов у меня нет. Какой выход? А выход простой: пробираться к своим, за линию фронта. А где эта линия фронта проходит, хрен его знает. В общем, жуть, как подумаешь. Но не сидеть же мне здесь, в Ковеле, руки сложа.
Почапал я в киевском направлении. Иду параллельно железной дороге. Но не так чтобы рядом, а где-то в километре от нее. Дойду ли я до своих?..
Но не дали мне сильно разогнаться. По дороге на Маневичи меня заловили. И кто бы ты думал? Партизаны. Там речушка небольшая протекает. Стоход называется. Ну, я как в нее уперся, стал искать место, где бы можно переправиться, и наткнулся на засаду.
Привели в отряд. Кто таков, документы, откуда? Я рассказал все, как на духу: и где служил, и как наш полк отступал, как я к дядьке Богдану попал, откуда сам. Даже нарисовал, где в клуне моя десяточка запрятанная осталась. "А как фамилия дядьки?" – спрашивают. А хрен его знает, какая у него фамилия, меня она сильно не интересовала. Указать, где его дом в деревне находится, я могу точно. И рассказал, кого как в семье зовут, и все прочее. Ладно, говорят, пойдешь в хозотделение. Будешь там помогать, пока твои данные проверят. "Чего в хозотделение? – завозмущался я. – Я боец, а не пацан на побегушках". – Мне говорят: "Сначала иди дрова поколи, потом посмотрим, на что ты способен".
Ну, в общем, об этом долго рассказывать. Через некоторое время стали меня на задание брать с собой. Оружие, правда, не дают. Да его и не было тогда лишнего в отряде. Это уже потом мы нахватались у немцев. А месяц спустя приносят мне и десяточку мою. Представляешь? Нашли-таки: и дядьку Богдана, и проверили все, что я им рассказывал о себе, – короче, признали своим. Началась моя партизанская страда. Из работника жизнь меня сама перевела в партизана. А война-то идет, идет, проклятая, и немца уже под Москвой притормозили. Хотя была она тогда, как оказалось, практически еще вся впереди.
Определили меня в отряд к подрывникам. Нет, не сразу, – потом, когда хорошо изучили. Я ж, Тима, знаешь, какой был? Не хуже того севастопольского матроса Кошки. На ходу подметки отрывал. И идущий не слышал. Ну, меня наш командир, "дядя Петя", и определил в подрывники. Попервах, конечно, трудно нам было: ничего ж нет, а поезда взрывать надо. Вот и химичили. Правда, толовые шашки со взрывателями нам доставляли. Но одной или двумя шашками много не сделаешь. В лучшем случае, рельсу перебьешь, да и все. А надо взрыв такой силы, чтобы паровоз свалить. Понятно?
Между Ковелем и Сарны есть село – Озерное. Недалеко от этого Озерного – хороший лес, густой. И там у наших до войны находился склад артиллерийских снарядов. Немцы, видимо, не знали про него. Ну, вот. Мы ходили туда добывать тол.
Из отряда на эту работу снаряжали человек 20–25. Каждый из нас – командир-некомандир – берет снаряд на плечи, и несем мы этот смертоносный груз в самую глушь леса. Где-то так километров семь несем. Там у нас бочки металлические и деревянная тара заготовлена. Да, забыл. В отряде командир назначает двух человек головки откручивать снарядные. Это смертельно опасная работа. Чуть-чуть стукнул – все, хана: снаряд взорвался. Работа должна выполняться аккуратно и крайне осторожно.
– А были случаи взрыва?
– Нет, Бог миловал. Я сам несколько раз раскручивал… Ну, приносим снаряды. Отворачиваем головки. Подвешиваем снаряды на крючках в бочках и зажигаем костры. Выплавляем тол. Бочки от огня становятся красными. Тол по лотку стекает в ящики. Когда начинает застывать, туда толовую шашку втыкаем. Без запала. Чтобы она там с основным толом спаялась. Получаются толовые брикеты. Для одного такого брикета надо выплавить тол, примерно, из двух снарядов. Чуть, может, меньше.
Заготовленные брикеты доставляем в отряд. Пока разведка не донесет нам, что ожидается, скажем, прохождение поездов с бронетехникой или живой силой, мы бездействуем. Занимаемся чем-то другим. Железная дорога у нас находилась под постоянным наблюдением. Наши люди сообщали нам постоянно о характере грузов и графике поездов.
Ну, как это делалось зимой в том же сорок первом? Обыкновенно, мы подрывали ночью. Идем на задание отделением. Берем в деревне сани, хозяина с собой берем, но правим мы. Приезжаем в лес, к железной дороге. У нас шнур с собой метров пятьдесят, брикет тола с запалом, все прочее. Нас семь человек. Один остается с хозяином, около лошадей. Два человека идут на закладку мины. Два на стреме, в случае немцы будут идти. И двое на шнуре. Идет состав. Двое берут шнур и бегут в сторону леса. Чтобы выдернуть чеку при приближении паровоза. Взрыв! Мы на сани и хода!
Очень примитивной системой, надо сказать, мы пользовались попервах. Потом мы это дело усовершенствовали. Был у нас майор в отряде. Фамилию его я сейчас уже не помню. То ли грузин, то ли осетин по национальности, не знаю. Но точно помню, что он был с Кавказа. В общем, придумал он устройство, которое работало автоматически, без шнура. Машинка его действовала на электрической батарейке. Контакт выставляли на толщину спички. Мину устанавливали под рельсами и засыпали, чтобы не было видно. Еще раз проверяли контакт и только тогда соединяли концы. Тонкая работа. Под тяжестью паровоза образуется замыкание цепи, получается взрыв. Немцы догадывались об устройстве нашего изобретения. Стали пускать впереди паровоза три-четыре вагона с песком. Ни хрена: вагоны проходят – на паровозе происходит взрыв. Так что, мы эту дорогу, Ковель-Сарны, останавливали не раз. Потом они уже стали пускать впереди поезда солдат, где лесная местность, а за ними шел поезд. Мы начали утыкивать железнодорожное полотно противопехотными трехрожковыми минами. На всякую ихнию хитрость мы отвечали своей хитростью. Притом, я тебе скажу, Тима, люди наши оказывались на голову придумковатей немцев.
– Но как же вы жили зимой? Все-таки лес, и каждый день что-то надо есть.
– Как? Так и жили. Что такое землянка, знаешь? Посередине столб, сволок на нем лежит добротный. Сверху – три наката кругляка, укрытого толстым слоем земли и дерна. Нары послатые… С одной стороны нары, с другой – железная бочка с трубой. Чтобы трошки можно было протопить. Посередине – стол. Но там всегда было тепло, потому что всегда были люди. Если ты не в селе, в лесу зимой ты никуда не денешься, кроме землянки. А подступиться к отряду не так просто. Мы находились от села где-то километрах в двенадцати. Это была местность болотистая и труднопроходимая, с одной только дорогой. Между отрядом и селом была застава, другая – в самом селе. Село имело полосу в пять километров, за которую воспрещено выходить кому бы то ни было. Даже полицейским, если, конечно, те не работали на нас… Ну, а еду мы попервах собирали у крестьян, помогал староста: картошку, крупы, хлеб, сало… Потом мы организовали кухню у себя на базе. И погреба порыли, и соления даже запасали. Партизаны – народ хозяйственный. По крайней мере, голодных не было.
Да-а. Так я провоевал до мая 44-го. За эти два с лишним года мной было пущено под откос восемь эшелонов. Это когда мину ставишь лично ты, взорванный эшелон считается за тобой. И плюс еще девять совместно с отделением. Ты обрати внимание на эту цифру: восемь!
– Это много или мало? – спросил простодушно Нетудыхин.
– Дело не в этом. Дело в том, что за каждый эшелон потом была расплата… Занимались мы, конечно, не только железной дорогой. Подрывали склады, мосты, уничтожали немцев на грунтовых дорогах – в общем, делали все, что могло немцам навредить. Район наших действий охватывал треугольник Камень-Каширский – Ковель – Маневичи. Под Сарными там уже другой отряд орудовал.
Пришли, наконец, наши. Я попытался примкнуть к Армии – не получилось. 25-го мая наша 1-я партизанская бригада – за войну мы разрослись до бригады – под началом подполковника Антона Петровича Брильского была расформирована. А я – отнаряжен в распоряжение отдела кадров УНКВД Волынской области. Отлавливать бандеровцев.
Тут тебе надо кое-что объяснить, потому что в этом деле много темного и путанного. Как я узнал уже потом, в июне 41-го, когда немцы напали на Союз, Степан Бандера провозгласил создание самостийной Украины. Немцы его за это вместе с дружками упекли в концлагерь. Бандеровцы сражались за Украину, хотя для Гитлера они ведь тоже были партизаны. Но в начале войны они пошли служить к немцам – в полицию. И наделали себе беды еще больше: с помощью Зла Добра не делают, как мне говорил на Севере один умный человек. Потом они стали против немцев воевать. Временами случалось, что они помогали и нам. В Мациеве они дважды расколошматили до основания немецкий гарнизон. Громили фрицев в Головинском районе. Но мы никогда не были союзниками в этой борьбе. Наоборот, после прихода наших войск был получен приказ об уничтожении бандеровцев. Началось их отлавливание. И вот я, ни хрена не разбираясь тогда в сути дела, попал в эту катавасию.
Из Луцка меня направили в Ковель – места знакомые и не раз исхоженные в партизанских рейдах. Сейчас вспоминаю и думаю: как я подписался на эту службу? А ведь подписался, куда денешься. Было, да. Бегал с автоматом по волынским лесам и выстреливал бандеровцев так, как немцы выстреливали нас в начале войны. Там же, в Ковеле, встретил свою Анютку. Женился, получил квартиру. И, наверное, еще дальше бы продолжал шастать, если бы не случилось непредвиденное.
Дежурил я на посту во дворе нашего Ковельского отдела. Дело шло к ночи. Привезли из лесу убитых бандеровцев. Обычно, их сгружали во дворе, под стеной здания. Укрывали брезентом. На следующий день тщательно шмонали, фотографировали и увозили на захоронение. Куда именно, я не знаю. У нас была специальная группа, которая этим занималась.
Ночью трупы находились под присмотром часового. Никакого журнала регистрации их или акта приема заведено в этом деле не было. Так: привозят, сбрасывают, как бревна, и точка. Иногда привозят двух-трех. Иногда – целую группу. В основном мужики. Баб я что-то не помню, чтоб попадали.
В то мое злополучное дежурство их нащелкали больше десятка. Выкинули во дворе уже потемну, укрыли от глаз людских, и машина укатила в гараж.
Ночью, часа в два, вижу, под брезентом, с краю, какой-то зашевелился. Неужели жив? Я подошел, приподнял брезент – дядька Богдан смотрел на меня безумными глазами из-под зеленой дерюги. Я остолбенел. Ты представляешь? Правда, за это время, что я его не видел, он сильно постарел. Но это был все же он, мой бывший хозяин.
Что мне делать? Поднимать шум? Вызывать врача? Или пристрелить самому? Но этому человеку я был обязан жизнью и тем, что сейчас вот тут, дубина, живой и невредимый, стоял на посту.
Грудь у него оказалась залита кровью.
Да, задачку мне подкинул Господь.
Дядька Богдан пытался приподняться и сесть. Я помог ему. Мы оба долго молчали. Потом он осмотрелся и тихо сказал как-то по-домашнему: "Видпусты мэнэ, Васыль! У мэнэ тут, за школою, сэстра живэ. Я якось туды дорачкую".
Что я должен был ему ответить? Рачкуйтэ? Отдел находился почти в центре города. Недалеко почта, кинотеатр, по ту сторону забора – школьный двор. Я не был уверен, что он вообще поднимется и сможет как-то передвигаться. Да и сумеет ли он перелезть через забор? Забор, увитый плющом, хоть и был невысокий, – мы размещались в бывшем доме какого-то богатея, – но для раненого – это преграда. А что будет со мной завтра, если досчитаются, что одного бандеровца не хватает? Меня самого поставят к стенке.







