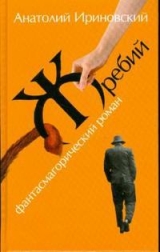
Текст книги "Жребий"
Автор книги: Анатолий Ириновский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 26 страниц)
"Вот это типаж, – невольно подумал Тимофей Сергеевич. – Напиши – не пове-рят, скажут, утрирует. Надо же, попасть в руки к самому Фантомасу!"
Меж тем, на самом деле, крестьянское лицо Зуева было свободно скроенным и без всякой злобы. Только излишняя бледность выдавала в нем кабинетного работника.
Иван Иванович уловил ухмылку Нетудыхина, когда тот заметил татуировку. Это Зуева несколько задело. На такую ухмылку он натыкался не раз, и всегда она его раздра-жала. Но что они знали о его жизни? Что они могли ей противопоставитъ? Сумбур своих взбаламученных душ?..
Зуев представился, назвав свое полное имя, должность и звание. Так он всегда на-чинал.
Нетудыхин молчал. Тимофей Сергеевич еще не вполне освоился со своим новым положением и потому решил придерживаться старого и проверенного правила: отвечать на вопросы следователя как можно короче и по существу.
Заметно было, что и Зуев нервничал. Он достал из письменного стола нераспеча-танную пачку "Беломора" и закурил.
– Ну что, рыбачок? – сказал Зуев. – Поскольку ты, как мне известно, человек бывалый, то должен знать, что так просто мы людей не арестовываем. – Пролетарское "ты" покоробило Тимофея Сергеевича, но он воздержался. – У нас имеются достовер-ные сведенья о том, что ты ведешь тихую, но тем не менее явную антисоветскую пропа-ганду. Поэтому будет для тебя лучше, если в своих грехах ты сознаешься сам. Это упро-стит допрос и учтется при определении тебе срока судом. Замыкаться я не советую. – И замолчал, выжидая, что ответит Нетудыхин.
– О каком вообще допросе может идти речь? – сказал Тимофей Сергеевич. – Сейчас, в данную минуту, я не могу быть допрошен.
– Это почему же?! – удивился Зуев.
– Я пьян, нахожусь под допингом. Прошу вызвать врача для освидетельствова-ния моего состояния.
– Куда там пьян! На стуле не держишься, – сказал Зуев. – Скока ты выпил?
– Стакан самогона и две кружки пива.
– Ну.
– Что ну? Этого достаточно, чтобы на завтра я не помнил своих сегодняшних по-казаний.
– Не начинай варить воду, Нетудыхин, – предупредил Зуев. – Стакан самогона и две кружки пива – для русского человека только разминка. Ты ж думай, кому гово-ришь. Это как раз то состояние, когда мир начинает розоветь.
– Для меня он сегодня начал чернеть.
– Ну, ты сам виноват.
– Потом, – сказал Нетудыхин, – я хочу видеть ордер на мой арест. И услышать конкретные антисоветские факты, в которых вы меня обвиняете.
– Будет тебе ордер, будет, – сказал Зуев. – За этим дело не станет. Не торопись. А то ты еще потребуешь и обвинительное заключение сразу положить перед тобой.
– Это было бы лучшим вариантом.
– Нет, Тимофей Сергеевич, ты сам все расскажешь, сам покаешься. А мы это де-ло соответственно учтем.
– Мне не в чем каяться. Я живу, работаю, учу детей русскому языку и литерату-ре.
– Ах, если бы это было так, если бы так! Ты бы не сидел здесь сейчас передо мной. Не надо, Тимофей Сергеевич, не строй из себя невинность. Анекдоты травишь?
– Какие анекдоты?
– Антисоветские.
Нетудыхин вдруг обнаружил, что Зуев уже втянул его в допрос.
– Пока вы не предъявите мне ордер, я отвечать не буду. Ваша должность и зва-ние еще не дают вам права меня здесь допрашивать. Без ордера наш разговор превраща-ется в частную беседу, – категорически заявил Нетудыхин и замолчал.
– Ты смотри, какой ты прыткий! – сказал Зуев, закуривая. – А анекдотики ты все-таки травишь. Про Ленина. Про Чапаева. Про Брежнева. Это нами точно установле-но. И придется тебе, голубчик, отвечать за подрыв авторитета наших выдающихся деяте-лей. Статья 70. Антисоветская агитация и пропаганда. Срок до семи лет. Плюс ссылка от двух до пяти. Итого – двенадцать. Может, ознакомишься подробней с законом? На, по-смотри, – предложил Зуев, беря со стола томик УК и протягивая его Нетудыхину.
– Нет такой необходимости, – сказал Тимофей Сергеевич.
– Зря упорствуешь, – отвечал Зуев. – Я же тебе говорю: невинных людей мы не беспокоим. Те времена прошли, когда сюда попадали невинные. Потому предлагаю строить отношения на добровольном признании. Ты рассказываешь – я записываю. Со-гласовываем текст протокола вместе.
– Я пьян и хочу есть! – сказал Нетудыхин. – Позовите сюда Рамона. Пусть сходит в магазин и принесет мне что-нибудь пожрать. У меня болит желудок. Ни на ка-кие вопросы я больше отвечать не буду!
Зуев задумался. Думал долго. Потом поднял трубку и позвонил Рамону.
– Кореш твой тут умирает… От чего, от чего – от голода. Зайди ко мне.
Явился Рамон.
– Вы что там с ним на вокзале, самогон глушили, что ли? – спросил его Зуев.
– Какой самогон? – ответил слегка оторопевший Стас. – Выпили по паребока-лов пива.
– Значит, он с этим партизаном на дорогу расхилял бутылку, – сказал Зуев. Он говорил это так, словно Нетудыхин отсутствовал в кабинете. – Плохо человеку: сильно болит желудок. И есть хочется. Сходи купи ему что-нибудь перекусить.
Нетудыхина поразила осведомленность о Василии Акимовиче. Тимофей Сергее-вич заказал Рамону граммов триста колбасы, если будет, бутылку молока и пресную бул-ку.
– Не будет булки – половинку хлеба.
Когда Рамон ушел, Иван Иванович, глядя Нетудыхину в лицо, сказал:
– Желудок у тебя не болит, Тимофей Сергеевич. Обманываешь. Нехорошо.
– Зачем мне обманывать? – сказал Нетудыхин. – Болит. Я перед отпуском поч-ти месяц лежал с язвой желудка в больнице.
– Болит на второй день после выпивки. Я сам страдаю этим делом. Не понимаю, зачем ты волынишь? Все равно ведь придется раскалываться. Анекдоты ты травишь.
– Можно подумать, что вы их не травите, – сказал Нетудыхин.
– Травим, бывает. Особенно за рюмкой. Но не антисоветские.
– Так в определенном смысле всякий анекдот можно объявить антисоветским. Даже из постельной серии: их герои тоже советские граждане. Получается навет. По ана-логичному поводу Гоголь говорил, что в России вообще нельзя смеяться, так как каждый принимает смех на свой счет.
– Ну, Тимофей Сергеевич, Ленин – не каждый. Ленин – человек исключитель-ный. Помнишь, у Маяковского: "Мы говорим Ленин…"
– Не надо! – запротестовал Нетудыхин. – Это поэтическое видение лично Маяковского.
– Вот-вот, видишь, какой душок из тебя попер. А ты утверждаешь, что не расска-зываешь анекдоты.
– Я не люблю заезженных цитат. Процитируйте еще "Стихи о советском паспор-те".
– А чего – настоящие стихи. Высокогражданские. Если бы ты написал такие, я бы гордился знакомством с тобой. А у тебя они все какие-то мутные, как пивная брага.
– Ну, какие есть. У меня другое мировосприятие. Я далек от Маяковского, – от-вечал Нетудыхин.
– Да, это верно. Поэтому в твоих анекдотах Ленин и выглядит онанистом.
– Не знаю такого анекдота.
– Знаешь, Тимофей Сергеевич. И не раз рассказывал его. Ночь. Смольный. Со-вершается революция. С одной стороны коридора идет Ленин, с другой – Дзержинский. Уже почти разминулись. "Феликс Эдмундович! – окликает Дзержинского Ленин. – Вы на каторге онанизмом не занимались?" – "Ну, что вы, Владимир Ильич?" – "Напрасно, батенька! Увлекательнейшая, я вам скажу, вещь!" И разошлись… Это твой анекдот, Ти-мофей Сергеевич. За такой анекдот семи лет мало, катушку всю надо давать.
– А что вы находите в нем криминального?
– Как что? Это же самый грязный пасквиль, который только можно возвести на вождя.
– Если вы онанизм считаете величайшим грехом человека, то слава Богу, что это еще пока так. Но ведь мне думается, что анекдот можно трактовать и по-другому.
– Каким образом? – спросил Зуев.
– Как обладание юмором в самой критической ситуации. Происходит револю-ция, творится величайшее в мире событие – ну и что? Общество без юмора, подобно отдельному человеку, обречено на смерть. Развеселить сподвижника и товарища в столь серьезную минуту – это сверхзадача. Таков Ленин, гениальный и одновременно не те-ряющий чувство юмора в любой ситуации. Нельзя быть столь категоричным, как вы.
– Нет, ты послушай этого толкователя, – говорил Зуев, обращаясь к вернувше-муся Рамону. – Лукавство все это, Тимофей Сергеевич. Народ понимает анекдот напря-мую. Не будет он в нем выискивать какого-то там глубокого смысла. А напрямую – ле-жит глумление и кощунство над личностью вождя.
– Плохого вы мнения о народе. Раз он сам создает такие анекдоты, то, стало быть, и способен понимать их. Я могу вам рассказать аналогичный анекдот о Ленине.
– Давай, врежь, – сказал Зуев, довольный тем, что Нетудыхин наконец-то, ка-жется, раскачивается.
– Ленин и Горький на досуге.
– Ага.
– Оба погружены в чтение.
– Ага.
– Горький говорит: "Владимир Ильич, завтра воскресенье. Не съездить ли нам на рыбалку? Возьмем водочки, пару проституточек и махнем за город". – "Рыбалка – это прекрасно! – отвечает Ленин. – Водочка – это тоже хорошо, но в меру. А вот прости-тутку Троцкого – терпеть не могу. Увольте, батенька, от такого общества…"
Смеялись – Зуев раскатисто и добродушно, Рамон сдержано и плутовато.
– Ну, так это же совсем другой коленкор! – говорил Иван Иванович. – Здесь Ленин чист, как ангел.
– Э, нет, Иван Иванович! Согласно вашей логике, его можно здесь обвинить в педерастии или, по крайней мере, в супружеской неверности. На самом же деле – это пример абсолютно политизированного сознания. Есть такой феномен в психологии: каж-дый воспринимает мир в силу своей установки. У вас установка – отыскать во всем не-пременно криминал. Под этим углом вы и рассматриваете анекдот.
– Виляешь, Тимофей Сергеевич, виляешь. Умно, но виляешь. Ну да ладно, с анекдотами. К ним мы еще вернемся. Давай ешь да пойдем дальше. У нас с тобой много еще невыясненных вопросов, – сказал многозначительно Зуев. И Рамону: – Ты смотал-ся так быстро.
– Я в буфет наш сбегал, – отвечал Стас.
– А.
Нетудыхин достал из кармана рюкзака свой рыбацкий нож, прошел к письменно-му столу, на котором лежали вместе со сдачей продукты, и, усевшись самоправно за стол, стал разделывать колбасу.
Делал он все это преднамеренно неторопливо, пытаясь разгадать, о чем же у них с Зуевым пойдет речь дальше. Но в голове его роилось столько вопросов, что он толком ни на один из них не мог дать себе ответ.
Пока он расправлялся с колбасой, Рамон стоял к нему спиной, склонясь над сто-лом Зуева. Они о чем-то тихо меж собой перешептывались. Тимофея Сергеевича удивила беспечность их: у него в руках солидный нож, а они ведут себя так, как будто находятся в полной безопасности. Попади он в милицию, его в первую очередь бы обшмонали и занесли бы нож в протокол при описи изъятых вещей.
Рамон ушел. Нетудыхин допил молоко. Половину колбасы и часть булки он оста-вил на потом, не зная еще, как закончится его сегодняшний день. Затем он собрал остат-ки пищи со стола и вместе с ножом разместил их в рюкзаке.
По тому, как Тимофей Сергеевич аккуратно все уложил в рюкзак, Зуев заключил, что человек этот привык к порядку и ему, Зуеву, нелегко будет его расколоть. Люди с твердо установившимися привычками консервативны и с трудом поддаются нажиму.
– Ну что, легче стало? – спросил Зуев, когда Нетудыхин уселся против него.
– Легче – не легче, но я подкрепился.
– Хреновое твое дело, Тимофей Сергеевич, – как бы даже с сочувствием сказал Зуев. – Ладно, пошли дальше… Анекдоты – это ж только начало. Хотя и докладывают нам, что ты, мол, сочиняешь их сам, но я сомневаюсь в этом. Для анекдотов нужно иметь особый дар, который у тебя, судя по твоим стихам, отсутствует. Это, правда, только мое мнение. А вот рассказы антисоветские ты пописываешь. Зачем, спрашивается? Хочешь их издать там, за бугром, как это сделали Даниэль и Синявский? Но ты же прекрасно знаешь, чем это у них кончилось.
– Никаких антисоветских рассказов я не пишу. Я пишу стихи. Ну, иногда не-большие заметки или статейки для нашей областной сплетницы. Рассказами это назвать никак нельзя.
– Нет, Тимофей Сергеевич, я имею в виду конкретную вещь и с конкретным за-головком – "Сюрприз пятидесятилетию". Написан тобой такой рассказ?
Это был совершенно ошарашивающий вопрос. В предверии надвигающегося пя-тидесятилетия Октября, весной прошлого года, как я уже упоминал, он написал такой рассказ. Прочел он его только одному человеку. И вот теперь о существовании рассказа вдруг стало известно в КГБ.
Зуев ждал ответа. И Нетудыхин сказал:
– Такой рассказ мной был написан. Но я его потом уничтожил. Я вообще не счи-таю себя прозаиком.
– А зачем же писал?
– Ну, видите ли, садясь за стол, не всегда знаешь, что у тебя получится. И даже если ты и написал какой-то текст, то надо дать ему время отлежаться, чтобы ты мог от-страниться и оценить его объективно.
– А если я тебе предъявлю рассказ сохранившимся, что ты на это тогда скажешь?
"Неужели откопали бутыль?" – подумал Нетудыхин с ужасом. (Тут, в скобках, я замечу, что в то время, когда Зуев допрашивал Тимофея Сергеевича, на квартире у Заха-ровны производился обыск.)
– Рассказ сожжен, – твердо глядя в глаза Зуеву, заявил Нетудыхин.
– Но ты же, твою мать, противопоставил в нем Ленина и нас, чекистов! Ты по-нимаешь, на кого ты поднял руку?!
– Ничего подобного! – сказал Нетудыхин. – Акцент в рассказе сделан на ко-мичности ситуации актера, попытавшегося с помощью искусства повлиять на жизнь. Это современный Дон Кихот.
– Нетудыхин, не верю я тебе, не верю! – заявил Зуев. – Изворотливый ты очень. Не станешь ты потехи ради писать такой рассказ. Не любишь ты советскую власть. А она ж тебя, сорванца, в люди вывела, не забывай. Не пойму я, откуда в тебе все это? Вроде свой парень, а гадости пишешь! – Зуев сильно хлопнул пачкой "Беломора" по столу. – Ну напиши ты что-нибудь веселое, жизнеутверждающее. Чтобы люди по-смеялись от души. Нет, ты ковыряешься, лезешь куда-то – хер его знает, куда.
– Да ведь и веселое можно написать по-разному, – сказал Нетудыхин. – Мож-но, как ранний Чехов, с грустью. А можно и с раблезианским хохотом. Кому что дано.
– Каким-каким?
– Раблезианским. Рабле, Франсуа Рабле.
– Это кто таков?
– Французский писатель.
– Ну, французы – народ несерьезный. Им все шуры да муры. А мы люди идей-ные. Он когда жил, твой Рабле? Или еще живет?
– 16-й век.
– Ну вот, видишь, совсем старый. Нехрен ему в ХХ-м веке околачиваться среди нас.
Нетудыхин с улыбкой подумал, что могли бы сказать французы, слушая о себе этот разговор двух русских.
Зазвонил телефон. Зуев снял трубку и долго слушал кого-то, ничего не отвечая сам. Лицо его казалось бесстрастным. Трубку телефона он плотно прижимал к уху и не-возможно было понять, что он с таким вниманием и так долго выслушивает. Наконец, Зуев трубку положил.
– Да, Тимофей Сергеевич, французы нам не чета, – произнес он в неопределен-ности и задумчивости. – Я тебя сейчас переведу в другой кабинет, а сам ненадолго от-лучусь. Вот бумага и ручка, возьми. Изложи мне сюжет своего рассказа более-менее подробно. И вспомни, кому ты давал его читать? Когда, где? Кто еще при этом присутст-вовал? Если сжег рассказ, – если, конечно, сжег, – то тоже, когда и где? Может быть, свидетели были при этом…
– На рыбалке сжег, – сказал Нетудыхин. – Ночью. Спалил, разжигая костер.
– Ну, в общем, ты меня понял. Вверху оставь место для заголовка. Я вернусь – напишешь под мою диктовку. Пошли. – И они вышли из кабинета Зуева.
"Что его так всполошило? – думал Тимофей Сергеевич, шагая впереди Зуева. – Куда он так неотложно торопится?"
А ответ был прост: привезли бумаги Нетудыхина.
Не было у них текста рассказа, не было. Если бы он у них имелся, Зуев бы разго-варивал с ним по-другому – не выпытывая, а обвиняя. Но Коля – как же так? – такой, казалось, умный и стоящий в негласной оппозиции к властям человек, на деле вдруг обернулся элементарным стукачем. Прочти Нетудыхин "Сюрприз" еще кому-нибудь, может быть, он и засомневался бы в своем выводе. А тут же двух мнений быть не могло, содержание рассказа было известно только одному человеку – Шорохову.
Николай Дмитриевич Шорохов работал в областной газете фельетонистом. По-знакомился с ним Нетудыхин в позапрошлом году в больнице, где они оба лежали на об-следовании. Узнав, что фельетоны, которые Нетудыхин не раз читал, принадлежат Шо-рохову, Тимофей Сергеевич был приятно удивлен. Ну и конечно, Нетудыхин – христи-анская душа – не удержался и во время совместный прогулок вокруг больницы прочел тому с десяток своих стихотворений.
После выписки познакомились поосновательней. Не знал Нетудыхин, что на мес-тах, где проходила критическая информация о советской власти, КГБ держал, как прави-ло, людей своих. Вот и получилось, что он сдуру-спьяну прочел как-то Шорохову только что испеченный рассказ. Потом даже ругнул себя за столь безалаберную доверчивость. И все же такой оборот он предположить не мог. Значит, они его пасли уже давно.
"Ах, ты Коля, Коля-Николай! И зачем же ты это сделал, скотина безмозглая? – думал Нетудыхин. – Шорохов! Надо же: чуть не Шолохов. Слова, этимологически вос-ходящие к одной основе". Впрочем, правду сказать, кое-какой шорох в городе этот газет-ный шут своими публикациями производил и прикрывал таким образом свое истинное лицо.
… Тимофей Сергеевич закончил осмотр кабинета, в котором его закрыл на ключ Зуев. Закурил. Нет, писать он ничего не будет. Он должен стоять на одном: рассказ был, но он его сжег. А что там в рассказе написано, кто знает лучше автора? Автор волен ис-толковывать его так, как он это понимает сам. "Пусть волокут, суки, Шорохова на очную ставку, если они, конечно, захотят его вскрыть".
В молчавшем репродукторе, который висел на стене, как и в кабинете Зуева, что-то неожиданно щелкнуло. С чего бы это? Нетудыхин подозрительно на него покосился и тихо прошел к окну.
Улица, на которую выходило здание КГБ, жила своей жизнью. Торопились куда-то по своим делам прохожие. Проезжали мимо, сбавив скорость на знаке "40", машины. На противоположной стороне, у входа в гастроном, разговаривали две женщины.
Отныне всего этого он будет лишен. Он – социально опасный элемент. Не же-лающий, чтобы люди вот так ходили по улицам своих городов, беседовали, трудились и славили коммунистическую партию за то, что она предоставляла им такую возможность. Он – еретик, и должен быть посажен в тюрьму – там ему место.
Нетудыхин с горечью подумал о том, что он ничего не успел сделать стоящего. Книга неокончена, выпущенный сборник – простодушно наивен, – жизнь его, в общем, канет в бездну забвения. Вместе с ней – и его попытка свидетельствовать о своем поко-лении.
Это осознавалось страшней тюрьмы. Как личный крах, как полная безысходность. Однако Тимофей Сергеевич помнил, что всякое состояние в конечном счете временно. "Не конец же это света!" – успокаивал он себя.
Сев за стол, он написал небольшое стихотворение.
О душа, успокойся
и уймись, наконец!
Все пройдет,
все уладится,
все рассудит Творец.
Был же день,
было солнце
и был вечер вчера.
А сейчас – просто ночь.
Просто ночь,
До утра…
Проставил дату. Такие стихи он условно называл стихами, написанными по жи-вому состоянию души. Обычно они ложились на бумагу сразу. И их почти не приходи-лось править.
Он сложил лист бумаги, перегнув его несколько раз, и спрятал в карман. "Как же из этой ситуации выпутаться? спрашивал он себя. И опять, в который уже раз, стал об-думывать свое положение.
Так, в раздумье, он просидел более часа. Наконец, в дверях кабинета загремели ключами.
– Написал? – спрашивал Иван Иванович, входя в кабинет вместе с Карповым.
– Нет, не получается почему-то, – отвечал Тимофей Сергеевич. – Пересказы-вать рассказ – это все равно что сочинять его заново. И то он будет уже другой, а не тот, что был написан раньше.
– Ну, Тимофей Сергеевич, это уже совсем несерьезно. Так мы не договаривались. Ты же на своих уроках пересказываешь ученикам произведения писателей, которые изу-чаются?
– Да, приходится. Они, балбесы, не хотят читать.
– Вот. А сам не можешь свой же рассказ пересказать. Так дело не пойдет.
– Видите ли, при пересказе ускользает, если можно так сказать, вся аура. Весь тот дух произведения, который в момент оценки его как раз и важен. Потому один и тот же сюжет может быть реализован по-разному, – сказал Нетудыхин, совершенно невин-но глядя в лицо Зуеву.
– Ну и блудливый же ты, Тимофей Сергеевич, – сказал Зуев. – Оттырить мне тебя хочется. По-мужицки. Бери бумагу. Пошли ко мне в кабинет.
Перебрались к Зуеву. Он сказал, усаживаясь за стол:
– И сколько ты будешь меня мурыжить? Ты что думаешь, у меня терпение бес-конечное?
– Да он же пропитан ненавистью к советской власти! – ни с того ни с сего ляп-нул Карпов.
– Ненависть, – ответил корректно Нетудыхин, – необходимо еще доказать. – И тут же не выдержал: – А если меня здесь будут оскорблять посторонние, я вообще откажусь от всяких показаний.
Карпов и Зуев переглянулись.
– Доказать ее можно на раз, – сказал веско Зуев. – Но мне все же хочется, что-бы ты сам покаялся.
– Как это – на раз? – удивился Нетудыхин. – Я такое заявление считаю абсо-лютно голословным. Только факты.
– А портрет, что появился на доме быта, – это что, не факт?
– Что за портрет? – не понял Нетудыхин.
– Твой портрет, – сказал Зуев. – Вместо портрета Ленина.
– Чей??? – переспросил Нетудыхин.
– Портрет Тимофея Сергеевича Нетудыхина.
Нетудыхин оцепенел. Он смотрел на Зуева широко раскрытыми глазами и не ве-рил тому, что слышал.
– Это какая-то чушь! – сказал наконец Нетудыхин. – Что вы выдумываете? Откуда ему там взяться?
– Нет, не чушь, Тимофей Сергеевич. К сожалению, совсем не чушь. И это уже не анекдотики-рассказики, которые, кто знает, то ли есть, то ли нет. Портрет висит как не-прложный факт. Ты сможешь его сам увидеть. И постарайся объяснить нам, в силу каких причин и по какому такому праву ты там появился?
– Я абсолютно не понимаю, в чем вы меня обвиняете, – заявил Нетудыхин.
– Дом быта знаешь, где находится?
– Конечно.
– Там, на торцевой стене его, висел портрет Ленина.
– Что-то висело, помню.
– Теперь он исчез.
– Сняли, наверное, на реставрацию. Скоро повесят снова.
– Нет, его никто не снимал. Он так и остался висеть. Но вместо Ленина теперь там твоя морда красуется собственной персоной.
– Что?
– То, что ты слышал.
– Этого не может быть! – категорически заявил Нетудыхин.
– Так бы и я подумал, да не могу: факт есть факт, – сказал Зуев.
– Когда, когда это случилось?
– Вчера утром.
– Почему же вы его не сняли до сих пор?
– Сняли, как же, сразу же и сняли.
– Ну и что?
– А ты за ночь опять прямо на стене объявился. И даже еще красочней, чем был.
– Это какая-то фантасмагория! – сказал Нетудыхин. – Я здесь ни при чем.
– Нет, Тимофей Сергеевич, при чем. Мы живем в причинном мире, так просто ничего не появляется и не исчезает. Мне, например, кажется, что ты очень возжаждал славы и уважения. И даже в мыслях своих посягнул на славу нашего вождя. Притязания твои были настолько сильны, что наконец реализовались. Но это же катастрофа для об-щества! Завтра ты можешь страстно возжелать еще чего-нибудь. Где гарантия, что твои желания не обернутся реальностью?
– Мистика! Никакой жажды славы я никогда не испытывал.
– Зачем же пишешь?
– Пишу потому, что живу. И по-другому не могу.
– Это твое признание очень важно. Хочешь быть замеченным в жизни. Размеч-тался о великой славе земной. Спокусился даже на Ильича. Вот тебе и результат в виде портрета.
– Послушайте, – сказал Тимофей Сергеевич, – то, что вы пытаетесь сейчас до-казать, – совершеннейший абсурд. Причем здесь Ленин? Он политический деятель. Я не имею к политике никаких притязаний, тем более – лично к Ленину. Даже как идеал, ес-ли уж на то пошло, он не может мне служить образцом. Другое дело, если бы это был кто-нибудь из русских классиков. А здесь нет никакой логики.
– Не скажи, Тимофей Сергеевич, не скажи. Я тоже сначала не мог понять этой связи. А оказывается, еще какая логика просматривается. Целая система: ты популяризу-ешь анекдоты о Ленине, написал о нем гнусный рассказ, наконец, искушаешься его ме-стом в сознании нашего народа – разве это не ряд однородных преступных деяний? И все они вращаются вокруг личности Ильича. Как ты смеешь претендовать у народа на уважение, равное уважению вождя? Что значит твой нахальный самозахват?
Нетудыхин оказывался в тупике. Что он мог ответить на все эти дикие вопросы? Тимофей Сергеевич, конечно, уже догадался, чья это проделка с портретом. Но разве можно было говорить об этом Зуеву?
И он повторил свой прежний довод:
– Я здесь ни при чем.
– Кто же тогда при чем?
– Не знаю. У вас больше информации, должна быть своя версия. Для меня же то, что вы мне сообщили, вообще представляется абсурдом. Откровенно говоря, я сомнева-юсь во всей этой чертовщине. Висел портрет Ленина – неожиданно исчез. Вдруг на сте-не появилось мое изображение. Белиберда какая-то… Я отказываюсь отвечать на ваши вопросы, пока сам не увижу портрет воочию.
Помолчали. Потом Зуев сказал:
– Иди, Юра, организуй машину. Повезем его на место преступления.
Когда Карпов вышел, Зуев, потирая лоб, грубо сказал:
– Голова, блядь, раскалывается от твоего чудотворства! – И мрачно посмотрел на Тимофея Сергеевича.
Дом быта находился в десяти минутах езды от управления КГБ. Если ехать по центральной улице, – и того меньше. Но шофер, сидевший за рулем "Волги", поехал второстепенными улицами. Нетудыхин даже засомневался, туда ли его везут. И только когда подъехали к Дому быта, Тимофей Сергеевич понял, почему водитель поехал именно так: отсюда открывалась позиция, с которой обзор портрета оказывался макси-мальным.
Рядом с шофером расположился Зуев. На заднем сидении, восседая у Нетудыхина по сторонам, разместились Карпов и Рамон. Теперь они уже не держали его за руки. Стас блудливо всю дорогу ухмылялся. Карпов был сосредоточен и сурово строг.
Развернувшись метрах в пятидесяти от портрета, они стали на обочине.
– Ну и что я на таком расстоянии увижу? – сказал Нетудыхин.
– Увидишь, не спеши, – сказал Зуев и протянул ему полевой бинокль. – На, держи.
Нетудыхин приложил бинокль к глазам и стал рассматривать. В машине зависла тишина. Все повернулись к нему и ждали, что он скажет.
На площадке, вымощенной тротуарными плитами, толпились перед портретом зе-ваки. Они задирали головы и с любопытством его рассматривали. Портрет был исполнен в той безликой манере, в которой малевали тогда художники своих незабвенных вождей и членов Политбюро. Действительно, он изображал Нетудыхина. Но Нетудыхина какого-то прихорошенного, приглаженного.
– А нос-то, нос – совсем не мой, – сказал Тимофей Сергеевич, некоторое время спустя.
– Как не твой? Чей же еще?
– Не знаю. Может быть, Николая Васильевича, но не мой.
– Какого Николая Васильевича?
– Гоголя Николая Васильевича.
Стас, не выдержав, хохотнул.
– Чего ты ржешь? – сказал грубо Зуев. – А ну давай бинокль, я посмотрю сам.
И стал долго и внимательно изучать портрет. Потом сказал:
– Не бузи, Тимофей Сергеевич, нос твой. Он просто кажется большим потому, что слишком большой портрет.
– А шрам на лбу? Где шрам? Почему его нет?
– Ну, тебя малость облагородили. Куда ж тебя, с твоим шрамом, людям показы-вать.
– Не надо меня облагораживать. Я должен быть таким, каким я есть. Тем более, что речь-то идет о точной копии. А это уже вариация какая-то на мою внешность. Сход-ство, конечно, есть в общих чертах. Но утверждать на его основании, что этот портрет именно мой, – это слишком. В городе можно отыскать еще пару-тройку людей, которые будут иметь сходство с этим портретом не в меньшей степени, чем я. Значит, и их надо подцепить по делу заодно.
– Не загибай, Тимофей Сергеевич, не загибай. Давай осмотрим подетально. Смотрим лоб. С чем ты тут не согласен? – Зуев заметил на площадке своих гэбистов.
– Я уже сказал, нет шрама.
– Шрама нет, действительно. Но форма, рисунок лба, твои легкие залысины – здесь стопроцентовая схожесть!
– Какая же стопроцентная без шрама? Нет, позвольте не согласиться. За точно-стью – стоит криминал, за приблизительностью – случайное совпадение. Теперь этот шрам, – Нетудыхин постучал себе по лбу, – мне, может быть, дороже всего на свете.
– Ладно, успокойся. Пошли дальше. Глаза. Возьми бинокль и посмотри. Твои глаза, копия твои.
– Где мои глаза?! Что вы говорите! У меня нет такого надменного и снисходи-тельного прищура. Если вы человек наблюдательный, вы могли заметить, что я смотрю на других людей совершенно открытым взглядом. И никогда не смотрю на них снисхо-дительно. Во мне самом такой взгляд вызывает раздражение. Вам надо двойку по физи-огномике ставить.
– Ну-ну. Ты не в школе, не забывай.
– Я не забываю. Но на портрете изображены не мои глаза. И вообще, что это за метод доказательства, когда живого человека членят на куски и сравнивают их с частями какой-то мазни? Бес-смысленно требовать от меня подтверждения схожести. Самая на-стоящая халтура. Это кто-то из герасимовских подражателей постарался.
– Меня не интересует художник, – сказал Зуев. – Меня интересует модель.
– Почему же? А исполнитель? Ведь кто-то же написал этот бездарный портрет?
– Что ты хочешь этим сказать?
– Что соучастников было трое: заказчик, исполнитель и модель.
– А если заказчик и модель это одно и то же лицо?
– Возможно. Тогда их двое – все равно групповая. Но в момент появления портрета меня в городе не было. Учтите. И я, таким образом, исключен из этой пары. По-том, это ведь портрет. Всего лишь погрудный портрет. А у портрета есть свои жанровые законы, он не может быть приравнен к фотографии.
– Да-а, – сказал Зуев, открывая дверь машины и закуривая, – фигня получает-ся. Вот, блядь, закрутили – не раскрутишь. Затянули, как храповик. Модели, исполните-ли, заказчики… Ты тут один во всем виноват – и точка! Твоя это морда! Что, не видно?!
– Не знаю. Морда, может, частично и моя, но идентичность ее со мной еще нуж-но доказать.
– Докажем – запросто. Сделаем ряд фотографий с тебя, пригласим экспертов, сопоставим…
– Ну и что?
– Как что? Это же безобразие – занимать место, положенное людям государст-венного значения.
– Это еще неизвестно, кому там положено висеть. Перед лицом закона мы все равны. Но где закон, которым руководствуются, когда выставляют на общее обозрение чей-то портрет?
– Нет, вы посмотрите на него, а! Ну кто ты такой, кто? Учите-лишка. Ноль без палочки!
– Мне уже один говорил эти слова.
– Кто говорил?
– Один знакомый.
– Правильно говорил. Умный человек.
– Да, не глупый.
– Ты посмотри, сколько народа собралось, чтобы тебя лицезреть! – злился Зуев. – Такого еще никогда не было! Это же черт знает что!
– Конечно! Массы жаждут вождя. Они горят желанием вверить ему свои души. А тут – новый соискатель. Свежая морда – людям интересно. Тем более, что они не знают точно, кто это перед ними. Ребус. Раньше были лица примелькавшиеся, всем из-вестные и, может быть, даже поднадоевшие. Вполне понятная ситуация.







