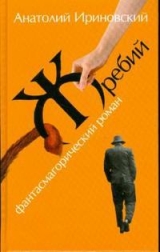
Текст книги "Жребий"
Автор книги: Анатолий Ириновский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 26 страниц)
– Так это можно сделать и здесь. Зачем идти в участок?
– Я тоже такого мнения, – согласился Олег.
– Вы кто такой? – зло спросил Нетудыхина Калиберда.
– Гражданин, – сказал Нетудыхин.
– В каком смысле?
– В прямом. В каком же еще?
– Друг он мне, – сказал Олег, – друг детства. Приехал сюда в гости.
– Предъявите документы.
Нетудыхин достал паспорт и вручил его участковому. Тот, тщательно осмотрев документ, положил его в свой планшет.
Нетудыхин спокойно сказал:
– Паспорт не изымается, а предъявляется для удостоверения личности владельца.
– Вот пройдете со мной в отделение, и там я выясню вашу личность, – сказал Калиберда, сузив глаза.
– Ты чего до него прискипываешься? – сказала Мария Васильевна. – Он-то здесь при чем?
– Разберемся-разберемся, – отвечал участковый. – И ты, Раскачай, возьми пас-порт.
– Я тебе не Раскачай! – вспылил Олег. – А если Раскачай, то ты – Турок, а не Калиберда! Зачем паспорт? Ты что меня, не знаешь?
– Знаю. Но так положено.
– Паспорта нет. Паспорта я сдала на выписку, – сказала Мария Васильевна.
– Как на выписку?! – удивился Калиберда.
– Я же тебе говорю: Олег уезжает. Ты что, не понял?
– Значит, придется изымать его из паспортного стола.
– Ну, это твое дело, – отвечала Мария Васильевна, хотя еще два дня тому назад она получила паспорта, уже выписанными.
Олег допил чай.
– Теперь можно идти, – сказал он. – А то ведь неизвестно, сколько там придет-ся быть. Покажу тебе, Тим, наше родное районное отделение милиции – тоже в извест-ном смысле историческое место. Вперед, Калиберда! Мы как законопослушные граждане будем сопровождать тебя по бокам. Чтобы тебя кто-нибудь ненароком не пристукнул. У тебя ведь здесь много недоброжелателей.
– Да, боялся я их! – отвечал Калиберда.
По дороге в участок Нетудыхин просчитал ситуацию. Дурной оборот получался. Если начнется следствие, его обязательно привлекут как свидетеля. Но какие показания дал Тюня? Почему Олег скрывает, что в попойке участвовал и он, Нетудыхин? По сооб-ражениям не замешивать сюда третьего? Или из желания оградить друга от ненужных неприятностей? Хорошо, что об этом ничего не знает Кока. "Какая нелепость, вторые су-тки, как в Рощинске, а уже буду оприходован в ментовке! Неплохое начало для рассказа о посещении родных пенатов."
Вошли в отделение. Дежурный старшина, увидев Олега, заулыбался:
– Раскачаев! Давненько, давненько ты у нас не был.
– Привет, дядя Митя!
– Привет-привет! Что случилось?
– Да тут… Одна шамка утверждает, что я поколотил ее ни за что ни про что.
– А ты ее и пальцем не трогал.
– Ну да.
– Понятно. Народ нынче пошел беспамятный. Наверно, она тебя с кем-то пере-путала.
– Да это не она, а он.
– Все равно… Куда ты его, Калиберда?
– К Лукину.
– Ну, веди… А этот что? – спросил дежурный, кивая на Нетудыхина.
– Друг Раскачаева. Приезжий. Пусть посидит пока здесь.
– Понял. Присаживайтесь, – сказал старшина, указуя Нетудыхину на отшлифо-ванную скамейку.
Нетудыхин сел. Калиберда повел Олега дальше.
Зазвонил телефон.
– Дежурный старшина Воробей слушает! – сказал старшина. – Понятно… Ну… Да пошли ты его, знаешь куда? Мест нет, мест нет… Надо найти место. На одного чело-века всегда можно найти… Понял… Не понял… А-а, понял… Давай… Давай.
И разговор окончился.
Старшина Воробей почесал затылок и сказал мужику, сидевшему тут же, в дежур-ке, за выгородкой:
– Так… Паспортные данные мы переписали с тобой. Теперь перепишем, что там у тебя есть.
– Да шо у меня есть? Шо на мне, то и есть.
– Я ж и говорю, что на тебе.
Утреннее состояние Нетудыхина куда-то улетучилось. Он с профессиональным любопытством наблюдал за происходящей сценой.
– Так, начнем с брюк, – продолжал старшина. – Брю-ки. Какие?
– Простые, х/б.
– Значит, так и запишем: хэ-бэ. Одни?
– Ну а скока ж?
– Од-ни. Что дальше? – Посмотрел на мужика. – Куртка. Запишем куртку. Кур-тка, черная. Тоже хэбэ?
– Да.
– Хэ-бэ. Что под курткой?
– Рубаха.
– Растягайся, растягайся. Так, ру-ба-ха. В клетку. Клеточная… Или клетчатая?.. А как надо писать, а?.. Не, клетчатая, хэбэ. Одна, да?
– Ага.
– Майка есть?
– Есть.
– Май-ка, од-на.
– Трусы?
– Кальсоны пиши, нет трусов.
– Каль-со-ны. Тоже одни. Обувь?
– Ботинки.
– Какие?
– Ну, какие, – обыкновенные.
– А ну покажи. Надо ж их как-то записать. – Мужик задрал правую ногу. – А-а, да это ж рабочие!
– Бо-тин-ки, ра-бо-чие. Од-на па-ра. Носки?
– Не носки – чулки.
– Как чулки, погоди?!
– А так: чулки себе, и все.
– Да как же мы их будем записывать?
– Так и пиши: чулки бабские, обрезанные под носки мужские.
– Да не, не пойдет. Оформим носками.
– Ну, пиши носками – какая разница!
Дежурный ухмыльнулся и сказал:
– Что ж она тебе, курва, и на носки жалась?
Мужик ничего не ответил.
– Все?
– Все.
– Расписывайся.
Мужик взял у Воробья авторучку и узловатой набрякшей рукой вывел свою фа-милию.
– Но ниче, – сказал сочувствующе старшина Воробей, – ты сильно не рас-страивайся. Пятнадцать суток – это чепуха. – Вдруг заорал в раскрытую дверь, веду-щую вглубь помещения: – Лахонин!
– Ну! – послышалось оттуда.
– Тебе пополнение прибыло. Иди забери человека.
Да, такова жизнь: каждому свое. Бесстрастны были римские правоведы.
Около часа просидел Нетудыхин, наблюдая за причудливым течением милицей-ской жизни. И при всех ее изворотах старшина Воробей оказывался на высоте. В этой узкой горловине, которая именовалась дежуркой, он чувствовал себя как опытный лоц-ман.
Наконец, появился улыбающийся Олег, за ним – Калиберда.
– Выпусти их, – сказал он недовольно дежурному.
– Обоих?
– Да.
– Ну, идите, сукины дети, – сказал старшина, – да больше не попадайтесь. Особенно ты, Олег.
– А паспорт мой? – напомнил Нетудыхин Калиберде.
– Олегу я отдал, – сказал тот разочарованно. И добавил: – Нетудыхины здесь действительно жили. На Мира.
– Тогда она называлась улицей Сталина, – учтиво поправил его Нетудыхин.
– Может быть.
– Будь здоров, дядя Митя! – сказал Олег. – Мои найлучшие пожелания вашей Наташке!
– Иди, иди, нехристь, отсюда! И пошибче, – как-то нехорошо сказал старшина.
Они вышли из отделения.
– Ну, организация! Ну, мусора поганые! – возмущенно говорил Олег. – Не до-казав моей вины, они предлагают мне заключить мировую с Тюней. Дурака нашли! Вот этот же Турок, участковый, – это ж такая тварь – от и до! Я ему морду когда-то набил. Он тут с одной медичкой путался. И я к ней подхаживал. Так он меня, троглодит, на пят-надцать суток посадил. Испортил мне прическу, шамка! Надо сматываться. А то, гляди, и в самом деле оприходуют на трешку.
– За что собственно ты Тюню отколотил? – спросил Нетудыхин.
– Да не колотил я его. Раз всего-то и ударил.
– За что?
– Сказать – не поверишь. У меня в сарае лежит однотомник Пушкина. Так Тюня Александра Сергеевича говнюком обозвал. Ты представляешь? Какая-то мразь, мокрица, которая и имени-то человека не достойна, вдруг обзывает лучшего поэта России говню-ком! Я потребовал, чтобы он забрал свои слова назад, – по-хорошему. Тюня заартачил-ся. Ну, я ему и врезал – раз! Он взвыл и унесся. Как он очутился в больнице, не знаю.
– А я где был?
– Пошел перед этим как будто бы отлить. И слинял. Я понял: отправился, навер-ное, к Нелке.
Помолчали. Как-то это не совсем укладывалось в голове Нетудыхина: такая беза-лаберная жизнь Олега и защита им чести Пушкина. Но Олег трепетно относился к Пуш-кину еще в школе, и Нетудыхин поверил ему. Сказал:
– Правильно сделал. Судья нашелся, срань человеческая!
Впрочем, все, что происходило с Нетудыхиным здесь, в Рощинске, тоже не совсем укладывалось в рамки здравомыслия.
Когда они вернулись домой, Мария Васильевна спросила:
– Ну, что там?
– Да что? – ответил Олег. – Выпустили пока. До выяснения полных обстоя-тельств.
– Кто допрашивал?
– Николай Васильевич. В присутствии Турка.
– Скажи спасибо Николаю Васильевичу.
– За что ему спасибо?
– Что выпустил.
– Ага. А доказательства у них есть? Пьяные показания пострадавшего Тюни?
– Меня он пожалел, а не тебя.
– Ну да, тебя – может быть. Все-таки бывший любовник…
– Олег, когда это было? Сто лет назад.
– Но было же!
– Да ничего там серьезного не было.
– Так я тебе и поверил…
– Бессовестный! – сказала Мария Васильевна.
– Это почему же? – спросил Олег.
– Вот посадят – узнаешь.
– Не посадят.
– И ни одной посылки не пришлю!
– И не надо, обойдемся без посылок. В картишки начну шпилиться.
– Вот так, Тима. Как видишь. И это – постоянно. Душу вымотал!
– Начинается!
– Молчи, идиот несчастный, када мать говорит!
– Чего ты гудишь? Чего ты крылья растопыриваешь?
– А того, что ты хотя бы друга постеснялся концерты устраивать!
– Ладно.
– Не ладно – досадно. Балбес! За тридцать уже. Папа! А его в милицию тягают, как пацана какого-то.
– Вот уеду – не будут тягать.
– Езжай скорее с моих глаз, езжай! Отдохну хоть.
– И уеду!
– От людей меньше срама будет… Сходи хлеба принеси!
– Давай деньги.
– У, ирод! – вдруг злобно сказала она и толкнула Олега.
– Ты меня не выводи из себя! – закричал он. – Я… – он хотел обо что-нибудь стукнуть кулаком, но ничего поблизости не оказалось.
– Давай! Давай! – распекала его Мария Васильевна. – Пусть люди посмотрят, как ты можешь. А то ты на людях все мать винишь. Мать тебе хахлями своими жить ме-шает, а ты – паинька. – И бросила ему рубль.
– Замолчи! – заскрипел зубами Олег. – Замолчи сейчас же!
Осторожно выглянула из спальни бабуля.
– Что за крик? – поинтересовалась она.
Она была в ночной рубашке, и лицо ее светилось восковой бледностью.
– Ничего, мама. Олежка белены вчера объелся. Пройдет. Все будет в порядке. Не волнуйся. – Олегу: – Иди за хлебом!
Тот со злобой хлопнул дверью и ушел.
– Выродок! – крикнула Мария Васильевна ему вслед. – Псих ненормальный! – Бабуля тихо закрыла дверь в спальню. – Кинулся бы на мать – руки короткие!
На некоторое время установилась тишина. Нетудыхин подумал: "Надо бы запом-нить ее… В каком-то неопределенного цвета жилете. Тощая. Ноги тонкие, в простых темных чулках…"
– Ой, Тима, вот так я с ним все время воюю. ("Плоскогрудая…") Если бы сейчас не ты, он бы себя не сдержал. Никакого уважения к матери. Как расходится – ужас! И послать может куда-нибудь подальше. Чтоб не дожить мне до захода солнца! ("Руки за-копчнены…) И друзья у него такие, я тебе скажу. ("Голос с хрипотцей, прокуренный…") Вот тут же, через дорогу, жил напарник по работе и подельник его. Этот хороший, а тот еще лучше. Правду говорят: вылупила и форму закинула. Чтоб другой такой не рождал-ся. Этот только на словах, а тот, как что, – сразу кулаки в ход пускал. Жену бил, матери доставалось под горячую руку – никому в доме покоя не было. Без предела совсем че-ловек. Они и слыгались вдвоем – водой не разольешь. А чем эта дружба кончилась? Устроили на танцплощадке драку. Разогнали всю танцплощадку, стервецы! Оба были выпившие, конечно! Спрашивается, чего туда было идти пьяными? Выпили себе – ну и сидите дома. Какого еще рожна надо? И дали – обоим по пятерке. Суд был показатель-ным. А в лагере тот заработал еще десяточку. И тоже за драку. Убил кого-то, что ли. Си-дит до сих пор. Этот вернулся после второго посада – думала, человеком станет. Так нет, куда там: этаким фертом ходил по городу. Я, дура, опять устроила его в гараж. Бега-ла, унижалась – еле воткнула. Сначала ничего – работает. Женился скоро – тоже как будто бы ничего. Вадик родился… Лет пять так держался. И зарабатывал неплохо, и ка-лым был. Потом – на тебе, как вожжа ему под хвост попала: закрыл Петрушкин, наряд-чик ихний, путевки ему неправильно. Так он что? Подследил того во дворе гаража и да-вай за ним гоняться на машине. Отдавил человеку ногу. Ну не дурак, а? Результат: вы-гнали. За дурость. За бесшабашность свою. – В этот момент что-то на плите вскипело. Сняла крышку с кастрюли – обожглась, лизнула пальцы: – А-а! – Вернулась к столу месить тесто. – А матери опять позор от людей. Натерпелась я от него, Тима, вдосталь. Теперь он с другим корешем слыгался, с Раздайбедой. Хохол. Такой спокойный с виду вроде, прям, мажь ты его на хлеб, как масло. Но пьет, боров! И этого с пантылыку сбива-ет. Он тут, у нас, шоферовал, потом завербовался в Ачинск. Зовет нынче Олега к себе. Ну, скатертью им дорога, пусть едут. Дня через два-три вернется Татьяна – пусть улету-чиваются. Пусть попробуют самостоятельной вольной жизни. А то они мной недоволь-ны. Мама им наготовь, постирай, убери за ними – мама плохая. А сами – ни за холод-ную воду. Что-нибудь починить во дворе – не допросишься. Я им говорила: не хотите жить вместе? Плохая я для вас? – Убирайтесь! Изыдите от меня. Без вас проживу. Жила и проживу. И не клятая была, и не мятая. Так она ж его все время подшкиливает: чего ты пойдешь на квартиру, у тебя свой дом. Люди на тебя будут пальцем показывать… Но я-то им не враг. Я-то хочу им добра. Они молодые, у них еще все впереди. Что надо, я все им отдам. Пусть только мне дадут дожить спокойно и оставят за мной Вадика. Все равно ведь они ребенку не в состоянии дать нормального воспитания. Их самих еще надо вос-питывать. А мне, на старость, будет чем заниматься. Ой, Тима, если тебе рассказать обо всем, что тут происходит, повеситься можно. Хотя бы ты на него как-то подействовал.
На эту благую просьбу Нетудыхин ничего не ответил. Мария Васильевна продол-жала дальше разрисовывать похождения сына, пока тот не вернулся из магазина.
Олег положил буханку хлеба на стол и рядом – демонстративно сдачу с рубля.
Мария Васильевна пересчитала сдачу и убрала хлеб.
Олег сказал Тиму:
– Пошли ко мне, что ли. Перекурим хотя бы свободно…
На самом деле Олег принес бутылку белого вина и жаждал похмелиться.
Нетудыхин от похмелья отказался.
– Не могу даже смотреть на эту гадость! – сказал он и вздрогнул, видя как Олег опрокидывает стакан с вином. – Б-р-р, отрава!
– Лекарство! – кряхтя, возразил Олег.
– Да. Для притупления мозгов.
– Может быть, человеку иногда и надо, чтобы мозги у него попритупились. А то душа начинает болеть: гневлю Бога, не так живу, не тем занимаюсь. Побудешь тварью ничтожной – через некоторое время острее чувствуешь себя человеком.
– Чушь несешь собачую, – сказал Нетудыхин. – Боишься себе признаться в том, что мы вчера и сравнялись с настоящими тварями.
Олег припрятал бутылку. Оба закурили.
– Наоборот, я уже давно себе в этом признался, – сказал Раскачаев. – И все жду, когда жизнь опровергнет мое мнение. Или Творец. Но Он почему-то молчит. Зна-чит, я отсутствую у Него. А если я отсутствую у Него, то почему Он должен присутство-вать во мне? Тогда – воля моя, кем мне себя осознавать, тварью ничтожной или Ему по-добным. Все надело, Тим. Господи, как надоело! Сплошной беспросвет!
Что-то грустно жить мне стало,
Белый свет мне опостыл, -
То ли я утратил что-то,
То ль в себе что-то сгубил…
Замолчал. Нетудыхин спросил:
– Кто это? Есениным попахивает.
– Какой там Есенин! Я это.
– А дальше, дальше?
Раскачаев продолжил:
Небосвод затянут
Тусклой пеленой,
И подернут дымкой
Горизонт земной.
Что же делать мне?
Как мне дальше жить?
В чем себя обресть?
В чем себя забыть?
Думал я, что Муза
Грусть мою излечит,
Но непостоянством
Нрав её отмечен.
Я пытался в крайностях
Отыскать отраду —
Разочарование
Было мне наградой.
Брошу к черту все,
Стану водку пить,
Чтоб себя обресть,
Чтоб других забыть.
Пил я водку, пил,
Пил крепчайшую, -
Так и не избыл я
Грусть горчайшую.
Ах, как тщетен мир,
Мелочны дела!
Лишь одна любовь
Мне б помочь смогла.
Отыскать ее,
Изначальную, -
Я б развеял грусть,
Распечальную.
Молчали. И хотя Тиму прочитанное стихотворение, от которого веяло традицион-ной русской кручиной, показалось неоригинальным, по тому, как читал его Олег, Нету-дыхин почувствовал: в Раскачаеве человек творящий еще дышит. Но человек этот над-рывно болен.
Спросил:
– Когда ты его написал?
– Давно. Точно дату не помню. Во всяком случае – до женитьбы.
– Работать тебе надо над собой, Олег, – сказал Нетудыхин так, как это он гово-рил своим студийцам в школе.
– При таком троглодитном окружении?
– А ты думаешь, сколько-нибудь значимые русские писатели жили в лучших ус-ловиях? У них у всех была своя каторга жизни. Кого не возьми, начиная с Пушкина…
– Может быть. Но у них все же была хоть какая-то аудитория. А ради кого рабо-тать сегодня? Ради этих дебилов? Я тут пытался как-то, лет пять назад, напечататься. Со-брал свои стихи, даже лагерные прихватил, и, окрыленный надеждами, двинул в область. Так на меня смотрели там, как на провинциального придурка. Упадочниство, пессимизм, учиться надо – ничего не взяли. Ну и в гробу я их видел в белых тапочках!
Эта ситуация была до нюансов и интонаций знакома Нетудыхину. Олег продол-жал: – Можно, конечно, сказать еще раз людям пару крепких слов, что ты о них дума-ешь. Но разве не говорили им резкости до меня другие? Говорили. А все пребывает на своих прежних местах. Так стоит ли лишний раз разочаровываться?.. Сволота одна кру-гом. Человек мерзостен. Я не верю в его благоразумность. Разве можно забыть Воркуту и всю нашу гнусную лагерную систему?..
– Как же ты живешь?
– А так и живу. Живу потому, что не умираю. Потому, что есть еще Раздайбеда, который ради друга снимет с себя последнюю рубаху, есть чудик Воропаев, ты вот всплыл из небытия…
– Ты не прав, Олег. Сволочей на свете много, я согласен. Но перед лицом мерзо-сти человек должен отстаивать в себе человека. Иначе он сам превратится в мерзость. Ладно, оставим этот разговор. А то ты еще скажешь, что я читаю тебе мораль.
Опять помолчали.
– Я хочу сходить на могилу к матери, – сказал Нетудыхин. – На кладбище есть какая-нибудь сторожка, где бы я мог взять инструмент?
– Хрен его знает, – отвечал Олег. – Я там сто лет не был. Есть же там кто-то, наверное. Но ты подожди: сейчас похаваем – и пойдешь.
– Я завтракал. У меня осталось мало времени. После двух я должен быть у Нел-ки.
Олег улыбнулся.
– Я и забыл тебя спросить, – сказал он, – как ты там провел свою первую ночь?
– Сурком мертвым.
– Что ж ты так?
– Пить надо меньше…
Олег провел его до калитки.
Дуська уже не лаяла на Нетудыхина. Она почему-то признала его своим.
От этого посещения Раскачаевых у Нетудыхина в душе остался щемящий и горе-стный осадок. Тяжело ему было видеть дух озлобленного неприятия между Олегом и ма-терью. А ведь воображалось и думалось о поездке в Рощинск совсем по-другому. Но жестокий реализм жизни безжалостно рушил его наивные представления. Все измени-лось, все высветилось в неожиданном ракурсе. К сожалению, Олег, которого он чтил и помнил, не соответствовал Олегу реальному. А то, чем одарил Творец Раскачаева-мальчишку, у взрослого Раскачаева было загублено. И этот процесс утраты заложенного свыше воспринимался Нетудыхиным как обреченно губительный.
Однако до кладбища Тимофей Сергеевич в этот день так и не добрался. По дороге его настигла машина "Скорой помощи". Резко затормозив, она остановилась.
– Тима! – услышал он. – Куда ты идешь?
Сердце его от неожиданности екнуло. Это была Кока.
– На кладбище, – оторопело ответил он.
– Садись. До кладбища еще далеко. – Она шустро пересела от водителя в салон. – Поехали! – Потом сказала Тиму: – Знаешь, давай сделаем так. Я взяла на завтра от-гул за ночное дежурство. Мы утром сходим туда вместе. А сейчас – ты едешь со мной, в Андреевку. Это недолго. Там у меня малыш один температурит, надо на него взглянуть. На обратном пути Петр Васильевич завезет нас прямо домой. Согласен?
Она это так выкладывала, заглядывая ему в глаза и держа за руки, как будто нака-нуне не было его позорного явления.
Он притянул ее к себе и стал целовать.
– Тима! Ну что ты! Петр Васильевич увидит! Ты и так меня ночью всю исцело-вал.
– Это за все годы разлуки! – отвечал он, продолжая ее обцеловывать.
Через некоторое время машина перешла на грунтовую дорогу.
Глава 27
Гордиев узел
Они вошли в дом.
– Боже мой, – сказала она, – уже сутки, как ты известил меня о своем приезде, а я все еще не верю, что это ты. Может быть, это просто какое-то наваждение. Но я так счастлива, что даже согласна на наваждение, – и резко дернула Нетудыхина за ухо.
– Ну, больно же! – сказал он.
– Не "ну" – покажи мне свою левую руку! Чтобы я убедилась наверняка, что ты – это действительно ты, а не какая-то подделка. Я ночью не догадалась посмотреть.
– Ты чего выдумываешь? – сказал он и протянул ей левую руку.
На запястьи еле заметно виднелся небольшой шрам. Она натянула кожу – шрам обозначился четче.
– Верю: ты – Тимка Нетудыхин.
– А у тебя? – потребовал он.
Она показала тоже самое место на своей левой руке.
– У тебя заметнее, – сказал он.
Эта идея собственно принадлежала ему. В один из дней, втайне от всех, под сво-дами заброшенной монастырской церкви, они поклялись на крови быть верными друг другу до конца жизни.
Я не берусь давать оценку этому факту. Уж слишком он для нашего прагматично-го времени наивен. Но уверяю, что для их травмированных душ он значим был больше, чем обручальное кольцо для современных молодоженов.
– Ну, дружочек, – сказала она, – теперь ты от меня не отвертишся. Довольно меня за нос водить. – И зависла у него на шее, потребовав: – Целуй! – Он поцеловал. – Я с тебя за эту метку семь шкур сниму. Ты где вчера так надрался?
– Кока, прости, виноват! Я сам не ожидал от себя такого финта. Как оно получи-лось, не знаю.
– Ай, Тима, Тима! Я его жду здесь, как Бога, накрыла стол, а он явился – ни ры-ба ни мясо, форшмак какой-то. Я была в шоке. Кошмар!
– Совершенно верно – кошмар! Я бы даже сказал еще резче, но не нахожу слов.
– Явление сраженного рыцаря!
– Да, очень точно подмечено.
– Ты мне не поддакивай. Ты честно скажи: ты пьешь, что ли?
– Нет. Выпиваю, но очень редко.
– Что-то не верится. Почему же ты вчера так скопытился?
– А вот потому и скопытился, что не пью и не расчитал своих сил. Но я признаю свою вину. Прости, Кока! И мне легче будет. А то на душе такое состояние, будто гнус-ность какую-то сотворил.
Она посмотрела на его по-детски обескураженную физиономию и вдруг не вы-держала, заплакала.
– Я уже простила. Вчера еще простила. Только это меня ужасно насторожило. Я вдруг подумала, глядя на тебя спящего: он в жизни столько переборол, а сломался на водке. Разве такое не случается?
– Ну, что ты, что ты! – говорил он, обнимая ее. – Это был простой перебор. Пили же все подряд, и пили лошадиными дозами. Я и выключился.
– Ты завтракал?
– Да.
– Что?
– Чай.
Опять она на него посмотрела с подозрением, но сказала:
– После такого сытного завтрака пора бы уже и пообедать, – и пригласила по-мочь ей.
Все собственно было приготовлено еще вчера. Оставалось только сервировать стол. И пока они переносили продукты из кухни в комнату, он украдкой подсматривал за ней. Красивая получилась. Прямо даже не верилось, что это Кока. В той, детдомовской памяти хранилась она у него стремительной и по-спортивному собранной девчонкой. Здесь, перед ним, двигалась уже женщина – с созревшей грудью, в меру при теле, очень напоминающая своим бабелевским лбом и губами его детдомовскую Коку.
Когда они закончили со столом, она попросила Нетудыхина выйти на кухню и там подождать. Через пару минут она его позвала.
Он открыл дверь и увидел ее в легком полупрозрачном платье.
– Прошу, синьор Нетудыхин, пожаловать к своей синьорите! – И сделала перед ним реверанс, приглашая его жестом к столу.
Платье было несколько маловато, но зато оно еще больше подчеркивало ее со-зревшие женские формы.
– Кока! – изумился Нетудыхин. – Ты великолепна! К черту жратву – пошли в постель!
– Ну и нахал! – сказала она, сверкнув глазами. И вдруг задумалась, глядя на стол: – Чего-то еще не хватает. Ах да, водка! Ты вообще пьешь импортную водку? Мне здесь один родитель удружил польскую. Говорит, классная. – Пошла на кухню, потом вернулась, поставила на стол рюмки и граненую бутылку польской водки. – Чего ты молчишь?
– Любуюсь тобой, – сказал откровенно он.
– Ну и как?
– Ты прекрасна, Кока!
– Нет, Тимочка, я нехорошая. Я тебя сегодня намерена бить долго и больно. И сегодня между нами будет выяснено окончательно все и до самого конца. Но прежде да-вай выпьем за нашу встречу.
Она стала раскладывать еду по тарелкам.
– Как-то мне не хочется, – сказал Нетудыхин.
– Вот видишь, какая ты кака! – сказала она. – Со своими друзьями ты вчера надрызгался, а со мной – хочешь показать себя трезвенником. Не надо так, Тима. Если ты алкоголик, я же это все равно пойму. Я, конечно, не нарколог, но я все-таки врач.
– Да брось ты свою навязчивую мысль! – ответил он на повышенном тоне. – Не алкоголик я! Я же работаю учителем в школе. Неужели ты не понимаешь, что учи-тельство и алкоголизм – вещи несовместимые. Я выпиваю. Иногда. Даже коньяк, быва-ет. Димка Прайс у меня есть, напарник по шахматам. Так тот, кроме коньяка, вообще ни-чего не признает. А вчера я надрался, да. Сегодня мне плохо. Вот и все.
– Чего ты кричишь, ты мне скажи? С синьоритой так не разговаривают. Сейчас хозяйка явится, она любопытна.
– Извини, завелся.
Он открыл бутылку и передал ей. Она наполнила рюмки. Помолчали.
– За нашу встречу, в которую я уже почти не верила! – сказала она. – И чтобы свершилось между нами все то, о чем мы когда-то вдвоем мечтали!
Они выпили. Нетудыхину действительно не пошло, он еле сдержался. Не будь он в обществе женщины, он бы точно сейчас отметил этот насильственный прием крепким словцом.
– Ты ешь, ешь, – сказала она, заметив его состояние. – Тебе надо основательно подкрепиться. И не нервничай. Это естественная реакция организма на перепой.
– Ты так говоришь, будто всю жизнь общалась с пьяндыгами.
– Ну, почему же? Это как раз, наоборот, проявление симптома здорового орга-низма на алкоголь.
На подоконнике открытого окна появился черный кот. Нетудыхин заметил его.
– Ты чего сюда лезешь, скотина? – сказал он. – Брысь!
Кот, испугавшись, спрыгнул в палисадник.
– Зачем ты так? – сказала она. – Это же Тимошка, мой кот. Тимоша, Тимоша, иди сюда! – позвала она кота через окно. Тот, жалостно замяукав, скрылся в зарослях крыжовника.
– Твой кот?! – удивился Нетудыхин. – А где ты его взяла?
– Мне его подарил наш бывший главный врач.
– Почему бывший?
– Потому что сейчас у нас уже другой. А тот уехал. Прекрасный был диагност. Определял заболевание безошибочно. Для врача – это бесценный дар.
– И ты назвала кота Тимошкой?
– Да.
– Зачем?
– Сказать правду?
– Только правду.
– Чтобы не забыть тебя.
– Хм!
Она не понимала, почему он проявляет такую дотошность к Тимошке. Подозрева-ет ее в связях с бывшим хозяином кота? И тут, в подтверждение ее догадки, он спросил:
– А как звали этого бывшего вашего врача?
– Тихон Кузьмич, – ответила она.
– Ахриманов Тихон Кузьмич? – уточнил он.
– Да. А откуда ты знаешь? Олег сказал?
– Нет, сам догадался.
Она как-то не придала его ответу должного значения. Страх быть опять обвинен-ной в измене заглушил в ней остроту восприятия.
– Но он пожилой, Тима, – продолжала она. – Ему под 50. Ты выстраиваешь фантастические предположения – какая ерунда! Твоя, глупая ревность уже раз оберну-лась для нас долгой разлукой. Тима, я чиста перед тобой.
– Да-да, конечно, – сказал он как-то рассеянно и добавил: – Если забыть Воро-неж.
– А что такое произошло в Воронеже? Ты даже не соизволил со мной объяснить-ся. Отелло! Коменданта общежития, ловеласа по натуре, он, видите ли, принял за моего любовника!
– Но он же был еврей!
– Ошибаешься – армянин. Ну а если бы был и еврей, то что из этого следует? Ты стал антисемитом?
– Не мели чушь. Я просто тогда подумал, что ты предпочла моей славянской крови свою кровь.
– Какая кровь, дурень! Мы же поклялись с тобой на нашей крови! Или ты дума-ешь, для меня это было детство?
– Прости! – сказал он вдруг, и они обнялись, и так, обнявшись, долго сидели молча. Потом она сказала:
– Я хочу знать, как ты прожил эти годы без меня. Где ты сейчас, что с тобой – я хочу все о тебе знать, Тима.
А его давил ужас. Получалось, что он был обложен еще задолго до того, как встретиться с Сатаной. Или обнаруженные факты надо было признать случайным совпа-дением, во что он не верил абсолютно. Но поймет ли все это Кока? И как объяснить ей, не выходя из пределов разума, его причудливый зигзаг судьбы?
– Когда он уехал из Рощинска, ваш главврач? – не отступал он.
– Прошлым летом, – отвечала она.
Ну вот, и здесь необъяснимое совпадение.
– Знаешь что? – сказал он. – Налей, наверное, еще. Иначе, тебе будет трудно понять мою жизнь, а мне – изложить ее убедительно. Я расскажу тебе… историю одной бродячей собаки. Только ты не пугайся, пожалуйста. Ладно? И попробуй меня понять, главное – поверить мне.
Они выпили. Он стал исповедываться. А она слушала его так, как слушают рас-сказ близкого человека, прошедшего через беспросветный ад. Однако я не стану здесь прокручивать всю вереницу событий и говорить о том, что уже известно читателю. Тем более, что лагерный период этой жутковатой его истории был ей знаком по письмам.
Жизнь беспризорника во все времена нелегка. А если он еще норовист и непоко-рен, как Нетудыхин, ему достается сполна. Что-то есть действительно в статусе неприка-янного человека схожее с участью бродячей собаки. Кока это знала по себе. Сама не раз сталкивавшаяся со Злом, она, конечно, не ждала услышать от Нетудыхина какого-то идиллического сказания о его житии-бытии. Но такого наворота черноты событий она никак не предполагала.
Вокзалы. Несчетные приводы в милицию. Скитания по детприемникам Союза. Ночевки по чердакам и подвалам. Попытка перебраться через Польшу на Запад. Детская колония в Буче. Воркута. Владимир. И при малейшей возможности – побеги, постоян-ные побеги, пока не пришла долгожданная воля.
После освобождения – полоса света: учеба в институте, работа в школе. Жизнь, кажется, стала налаживаться. И снова чернота, абсурд: встреча с Сатаной, КГБ…
Подозрительно глядя на него, она не верила тому, что слышала. Все это как-то одномоментно смешалось в ее сознании и произвело впечатление какой-то фантасмаго-рической киноленты. Но он говорил о тяжбе с Сатаной совершенно обыденно и очень логично увязал ее с сегодняшним кошачим происшествием.
– Ты шутишь, Тима, – сказала она. – Скажи, что ты шутишь.
– Я предполагал, что твоя реакция будет именно такой. К сожалению, не шучу. Это правда, – ответил он, несколько помолчав.
Она вдруг подумала, что он болен, и ужаснулась этой мысли. Долгие годы она с необъяснимым упорством ждала его. И вот, наконец, он вернулся – надломленный пси-хически.
Он сказал:
– Я знаю, о чем ты сейчас думаешь.
– О чем?
– Ты думаешь, что я псих. Но я не псих, Кока, честное детдомовское.
– Тимоша, – сказала она, заглядывая ему глубоко в глаза, – ты говоришь о та-ких неправдоподобных вещах… Я просто в растерянности.
– Значит, ты мне не поверила. Жаль. А ведь ты единственный человек в мире, кому я могу открыться до дна. Почему же ты думаешь как посторонняя?







