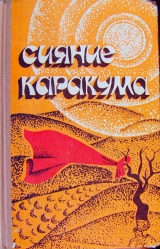
Текст книги "Сияние Каракума (сборник)"
Автор книги: Аллаберды Хаидов
Соавторы: Атагельды Караев,Агагельды Алланазаров,Араб Курбанов,Ходжанепес Меляев,Сейиднияз Атаев,Реджеп Алланазаров,Ата Дурдыев,Курбандурды Курбансахатов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 32 страниц)
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
На обратном пути из санроты, оказавшейся вовсе не так уж и близко, как предполагала Инна, Карабеков попал в бесконечную колонну машин. Досадуя на себя задним числом, он сделал несколько попыток вырваться, но кюветы были круты и глубоки, обочины дороги разбиты так, что сам ЧТЗ мог увязнуть, поэтому все попытки окончились неудачей, пришлось тащиться на второй скорости,
Это вызвало досаду, тем более что мотор «студебеккера» работал отменно, машина сама просилась вперёд. С другой стороны, Карабекова не могла не радовать вся эта нескончаемая масса техники и людей. Это рождало уверенность, поднимало настроение, это говорило о гом, что если война кончится и не завтра, то во всяком случае кончится скоро и победно. Посматривая то на колонну, то на приунывшего Ганса, Карабеков пытался представить себе, как они вместе с капитаном, то есть теперь уже попросту с Акмамедом, возвращаются домой все в почёте и в орденах. У капитана их, конечно, побольше, но на то он и капитан, а Карабеков тоже не обойдён наградами. Здорово их встречать будут!
Они оба были из одного села. Точнее, Комеков учился в ашхабадском вузе, в селе жила только его мать, но это в общем-то существенного значения не имело, когда они встретились на фронте. В статном и высоком старшем лейтенанте, который принимал батарею, бывший колхозный тракторист Карабеков сразу же признал туркмена. Это было настолько неожиданно и радостно, что он чуть было не кинулся с объятиями и расспросами.
Обниматься, естественно, не пришлось, но поговорить поговорили. И когда выяснилось, что оба родом из одних и тех же мест, знают одних и тех же людей, между ними установились почти братские отношения. Карабеков был немного старше по возрасту, Комеков – старше по званию, однако ни то, ни другое не мешало им одинаково чувствовать, мечтать о будущем, когда кончится война и они вернутся в Туркмению, в свой родной аул Кеши. Девушки там ждут их не дождутся!
Оба не женаты. И тот и другой были неравнодушны к Инне. Но тут мнения их несколько расходились.
Карабеков относился к ней со смешанным чувством уважения и фамильярности, причём фамильярность носила не фривольный, а чисто товарищеский, иногда покровительственный характер. Ему пришёлся по душе уравновешенный, приветливый характер девушки, её заботливость к людям, умение стойко переносить все тяготы военной страды, стремление выкладываться на деле с полной отдачей. Таких людей Карабеков искренне уважал. Нравилось ему и то, что Инна не строит из себя кисейную недотрогу, мамину дочку, не чурается солдатской компании и солёной солдатской шутки, но всё это – до определённого предела. Если же кто-то злонамеренно пытался преступить этот предел, она не бежала с жалобами к начальству, а сама так давала от ворот поворот, что предприимчивый ухажор надолго терял интерес к лирической теме.
Карабеков и сам вначале по-солдатски грубовато попытался поухаживать за пригожей санинструкторшей. Но, как человек обстоятельный, после короткого и серьёзного разговора сразу же прекратил двусмысленные вольности. Отношения остались дружескими – и только. Однако, когда один на один ему приходилось думать об Инне и комбате, он не одобрял поведения своего земляка. Пара, они, конечно, приметная, подходящая со всех сторон, рассуждал сам с собой Карабеков, но ведь не собирается же он всерьёз жениться на ней, это совсем чокнутым надо быть, чтобы поступить так, когда столько прекрасных сельских девушек ждут с войны героев! Нет, ничего дурного он про Инну не скажет и другим не позволит сказать, однако жизнь есть жизнь, война есть война. Капитан тоже хорош, словно забыл, что робость да осторожность девушку украшают, а не джигита. Ходит и ходит вокруг неё, как петух вокруг чувала с зерном. Чего, спрашивается, ходит? Клюнул раз, клюнул другой – пошёл себе прочь сытым, а зерна в чувале и вовсе не убавилось.
К чести Карабекова, он этими мыслями не делился ни с кем. А когда ловил себя на мысли как бы со стороны, испытывал вину и чувствовал какую-то неловкость, словно у товарища из «энзэ» сухарь вытащил, либо сам себя обворовал. И за Инну обидно становилось: ей, что ли, после войны не хочется иметь собственную семью и детей? Её-то за что счастьем обходить? Она ведь стольким бойцам жизнь спасла, столько километров на коленках своих девичьих по земле под вражеским огнём проползла, что теперь сто лет должна ходить с гордо поднятой головой!
Словом, в данном вопросе у Карабекова ясности полной не имелось, скорее полный сумбур был. Но всё же хотелось ему в любой ситуации видеть своего земляка не мямлей, а скорым на решения, деловым, отважным, каким тот был в боевой обстановке. А как совместить это с желанием не обидеть Инну, он не знал, честно говоря, и не задумывался особенно над такой проблемой.
Колонна, в которую вклинился «студебеккер» Карабекова, проползла мимо лесопарка. Холодов углядел между редкими деревьями бойцов своего расчёта и затарабанил в кабину.
– Наши здесь, Карабек! Сворачивай направо!
Водитель подогнал машину к краю лесопарка, где возле разбитой, когда-то выкрашенной в голубой цвет веялки расположились бойцы расчёта.
– Привет, братья славяне! – весело поздоровался Холодов, будто отсутствовал на батарее не какой-либо час с лишним, а полных трое суток.
– Салют юным пионерам, – немедленно отозвался балагур Ромашкин. – Хорошая у тебя забава, Холодов, никак не можешь расстаться со своим фрицем. Ты не забудь мамаше отписать с подробностями, как героически брал пленного, а чтобы она поверила, мы всем расчётом письмо подпишем.
Бойцы весело засмеялись. Шутка на войне – большое дело, и Ромашкина ценили за неё, хотя балагурил он иной раз довольно язвительно. Впрочем, было у него уязвимое место, каким не преминул воспользоваться обиженный Холодов.
– Ты лучше расскажи, как рыбку ловил, рыбак! – отпарировал он.
Бойцы снова засмеялись. Однако смутить Ромашкина было не так-то просто.
– Ты, Холодов, сперва снаряд научись как следует подавать, а потом шути над орденоносными артиллеристами. Из-за твоей неповоротливости сегодня расчёт Руса…
Но тут Ромашкин сам понял, что хватил лишку, и поспешил поправиться:
– Десяти дней нет, как на батарее, а уже суёшься во все дырки. Это право, брат, заслужить надо. Как говорит наш просвещённый лейтенант Рожковской, что положено Юпитеру, то не положено быку.
– Брось, Ромашкин, издеваться над маленькими, – одёрнул его Карабеков, жестом усадив пленного и присаживаясь рядом с наводчиком. – Смотри, как тихо кругом, хорошо, душа радуется. Иной раз, братцы, на зло войне хочется посидеть спокойно, помечтать, поку-рить… Отсыпьте кто-нибудь на завёрточку – отдам, как только получу у старшины.
– На, кури, мечтатель, – Ромашкин бросил ему на колени кисет с махоркой. – С твоей образцовой машиной в самый раз только мечтам предаваться. Очень соответствует. Ты кури да убирай её в лес, не демаскируй огневую, а то с тобой домечтаешься до холмика с фанерной табличкой, когда фриц из миномёта жахнет.
– Тебе это не угрожает, Ромашкин, – не полез за словом в карман Карабеков, с наслаждением затягиваясь махорочным дымом. – Ты не от мины, ты от зубной боли помрёшь во цвете лет и сил.
– Это с какой стати?
– А с такой самой. Санинструктор сегодня сказала. Вам, говорит, ребята, всегда выделю при необходимости по стопке чистого медицинского спирта, а что касается этого симулянта Ромашкина, то надоел он мне хуже горькой редьки и не получит он у меня больше ни глотка, пусть, мол, благополучно помирает.
– Врёшь ты всё, Карабек, не могла этого Инна сказать.
– Зачем врать? Вон Холодов свидетель – спроси у него.
– Ты ещё фрица пленного в свидетели призови!
– А что? – отозвался водитель – Фриц мне «студебеккер» наладил что надо, работает, как часы.
– А часы – как трактор? – не удержался вновь и съязвил Ромашкин.
– Трактор – машина серьёзная, не тебе, брат, чета, – Карабеков покрутил на месте каблуком, вминая окурок в землю. – И немец мой – тоже башковитый парень.
– Оно и видать! – Ромашкин покосился на пленного. – Полный рот себе железных зубов вставил! Надеялся, наверное, что так легче будет землю нашу русскую кусать, да ошибся в расчётах. Нас ни железными, ни стальными зубами не возьмёшь.
– Немец немцу рознь, – подал голос пожилой артиллерист, дядя Матвей, как его уважительно звали в батарее; он удобно устроился, полулёжа на досках от веялки, и с добродушной снисходительностью слушал перепалку молодёжи.
– Все они гады, дядя Матвей, – не согласился Ромашкин. – Чего натворили на нашей земле – подумать страшно. Всю жизнь от них только войны да разорение людям идут. Давно пора начисто уничтожить всё это проклятое племя!
– Так-то оно так, да не всем этак, – урезонил артиллерист. – В германскую, в первую мировую то есть, шли мы с трёхдюймовками – повидал я всяких. И после, когда в плену у них был, в Германии, на фольварке у одного бауэра работал. Были, парень, среди них и волкулаки, конечно, звероподобные, которым одно удовольствие человека к земле гнуть да хапать побольше в свой амбар – амбары у них, брат, каменные, высоченные, как двухэтажный дом, в три жжёных кирпича сложенные. Да-а… А видел и других – своего брата хлебороба, рабочую кость, пролетариев немецких, которым, как и нам с тобой, мирная жизнь дороже всего.
– Так то когда было, дядя Матвей!
– Давно было, верно. А что ж, по-твоему, нынче у них каждый немец – Гитлер? Фюрер их – это фукал-ка, стручок червивый или вроде как бы чирей под мышкой – «сучье вымя» в народе такой чирей называется. А народ он и есть народ – русский, немецкий, турецкий и всякий иной, народ завсегда к земле радеет, за мир свои головы кладёт.
– Нам политрук рассказывал, что в гитлеровских концлагерях ужасть сколько немецких антифашистов томится, – заступился Холодов. – И ты, Ромашкин, был на этой беседе, ещё вопросы задавал политруку.
– Верно, сынок, – дядя Матвей, покряхтывая, поднялся, сел на доске, – верно, и нынче есть у них инакомыслящие, есть борцы за рабочую идею, иначе и быть не может. Оно и наш пленный, как глянуть, мог в застенке томиться, могли ему там свои же гитлеры зубы повыбивать. Всех немцев на одну колодку тянуть – последнее дело.
– На кол их натянуть, а не на колодку! – буркнул непримиримый Ромашкин.
Дядя Матвей покачал головой. Обстоятельно, не просыпая ни крошки махорки, набил «козью ножку», зачиркал кресалом, прикуривая. Немец с любопытством наблюдал за этой процедурой. Потом зашарил по карманам, вытащил зажигалку и протянул пожилому артиллеристу.
– Фойер, раухен… Дизэ презент!
– Не нужен мне твой брезент, – отказался дядя Матвей, – у нас свой огонёк есть, российский.
– Дал бы я ему такого огоньку, чтоб искры из глаз посыпались, – вновь взъерошился Ромашкин. – Хочешь, Карабек, умный совет получить?
– Девать некуда, – улыбнулся Карабеков, – у меня от твоих советов вещмешок распух, не завязывается. Где капитан?
– Позиции пошёл выбирать для других расчётов.
– А сержант?
– Мамедов? Тоже ушёл, проклиная и твою машину и тебя вместе с ней. Болтать, говорит, Карабеков горазд, мельницы языком вращает, а с паршивой машиной сладить не может. Очень ругался.
– Ничего, – сказал Карабеков, которому надоело препираться с неутомимым иа язык Ромашкиным, – ничего, сержант имеет право и поругать, и побить, если понадобится, он нынче геройски немецкий танк подбил.
– Предположим, танк этот подбил не Мамедов, а я! – самолюбиво возразил Ромашкин. – Но ты-то чего хвастаешь? Ты же сачковал, пока мы воевали, загорал в холодке в обнимку со своей коломбиной припадочной.
Задетый за живое, Карабеков собирался рубануть язве Ромашкину с плеча, чтобы тот почесался, но заметил приближающуюся к огневой группу бойцов с лопатами и среди них – комсорга Пашина. Сообразив, откуда они идут, Карабеков обратился к Холодову:
– Забирай, Холод-джан, немца и топайте в хозвзвод. Пусть там за ним часовой пока присмотрит, до прихода капитана… А ты, Ромашкин, ты у меня дождёшься как-нибудь доброго «привета», – пригрозил он.
– Каков привет, таков и ответ, – фыркнул боен.
– Посмотрим.
– Кто посмотрит, а кто и поглядит.
– О ч-чем вы тут? – спросил Пашин, слегка заикаясь.
Бойцы сложили на землю шанцевый инструмент, расположились на отдых.
– Выясняем с Карабековым, у кого из нас больше шансов на доппаёк, – ответил на вопрос комсорга Ромашкин с совершенно серьёзным лицом.
– Ромашкин свой язык в качестве дополнительного пайка предлагает, – подал реплику и Карабеков. – По-моему, несъедобно, как вы полагаете, товарищ старший сержант?
– Остроумничают ребята, шутят, – кивнул дядя Матвей.
– Все а-астроумные стали с лёгкой руки Р-ромашкина, – ответил Пашин. – Прямо не расчёт, а ц-циркачи… ч-чарли-чаплины. – Присев, помолчал и добавил: – П-похоронили ребят… жалко.
Бойцы примолкли, только сизый махорочный дымок вился в воздухе.
– Хорошие были джигиты, – нарушил молчание Карабеков,
Его поддержали:
– Самый лучший расчёт!
– И все молодые были у них…
– Смерть не разбирает, кто молодой, а кто старый.
– Нелепо погибли…
– По-очему нелепо? – Пашин поднял голову. – За Родину свои жизни отдали – разве это н-нелепо?
– Понятно что – за Родину, а всё же нелепо.
– Думай, что говоришь, Ромашкин! – строго сказал Пашин. – Так может только п-политически безграмотный человек сказать! Мы сюда на курорт пришли или в прятки и-играть? Каждый из нас готов и-на смерть во имя Родины! Или ты д-другого мнения?
– Третью войну уже ломаю, – вздохнул дядя Матвей. – Помирать, конечно, кому охота, а только обязаны мы победу добыть. Тут уж не приходится считаться да за чужую спину прятаться. Россия она завсегда грудью за людей стояла – и татаров с монголами на себя принимала, и пса-рыцаря, и турка била на Шипке. Нынче опять же все народы на нас надежду возлагают, потому как с фашистом справится только русский солдат.
– Советский солдат! – поправил Пашин. – Слыхал, Ромашкин?
– Ну слыхал! Чего ты на меня уставился? Не хуже других воюю, побольше тебя пороху нюхал! И слова мои не переиначивай: к тому сказал, что жаль погибать, не достигнув цели!
– Какая же у тебя цель, Р-ромашкин?
– Общая у нас цель, Пашин, так я понимаю! Раздолбать фашиста в его берлинском логове – вот какая у меня цель! Ясно?
– А т-ты не кричи, Ромашкин, – миролюбиво остановил комсорг. – Криком не д-доказывают.
– Делом я доказываю, Пашин, а не криком! Понял?
– Ну, и хо-орошо, ну и молодец, – успокаивал, – и п-психовать не надо.
– Памятник хоть приличный поставили над могилкой? – спросил дядя Матвей.
– Звезду пока прибили, – ответил Пашин, – слов п-подходящих не нашлось.
– Искать их не надо! – буркнул успокоившийся Ромашкин. – Просто написать: «Солдаты Родины».
Подошёл повар, который собирал дрова для кухни, и некоторое время прислушивался к разговору батарейцев.
– Если бы мне разрешили, я по-другому бы написал. Чтобы звучало это как заповедь людям, которые придут сюда через десять, пятьдесят, через сто лет.
– Считай, что разрешили, – согласился Ромашкин. – Ну-ка?
Повар поднял глаза вверх, пошевелил губами.
– Я бы написал так: «Сын мой, дочь моя! За счастье ваше, за свободу Отчизны мы свои молодые жизни отдали. Помните нас и берегите Родину!»
– Всё? – осведомился Ромашкин.
– Всё. Разве плохо?
Ромашкин ехидно сощурился.
– У нас, братцы, оказывается, не повар! У нас при кухне настоящий живой поэт – целую надгробную поэму сочинил за одну минуту!
– Этим не шутят! – вспыхнул Карабеков. – Это… это святыня! Это – как знамя боевое!
– Да, – негромко, словно сам с собой, подтвердил комсорг – есть вещи, шутить которыми постыдно и грешно. Их не объясняют, их сердцем ч-чувствуют.
Ромашкин издал неопределённый звук, обвёл глазами товарищей, потупился и молча закурил. А в памяти Карабекова всплыли прекрасные строчки стихов Махтумкули о чести и доблести джигита, сложившего свою голову за отчий край. Они очень подошли бы на могилу русановцам. Шофёр уже хотел произнести вслух эти слова, но подумал, что по-туркменски их никто не поймёт, а перевести на русский язык он не мог – они тускнели, теряли свою звонкую силу и даже смысл. Поэтому Карабеков смолчал и лишь ещё раз повторил стихи мысленно…
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
Землянка, которую сноровистый ординарец Мирошниченко определил для командного пункта, была добротной, просторной и тёплой. Гитлеровцы, весьма заботящиеся о безопасности собственной персоны, соорудили над ней четыре наката толстенных брёвен, стены были аккуратно обшиты досками, вдоль стен – такие же аккуратные дощатые нары. Стоял здесь небольшой, с гнутыми ножками, под зелёным сукном ломберный столик, два венских стула и даже трюмо в полный рост. Всё это, видимо, было притащено сюда из красного уголка МТС.
В сторонке возились два связиста из взвода управления. Они стучали поочерёдно по штырю заземления, вгоняя его в плотно утрамбованный пол землянки, шумно продували микротелефонную трубку, скороговоркой бормотали в микрофон: «Роза! Роза, я Гвоздика… Как слышишь?»
– Связь с полком есть? – спросил Комеков.
– Сейчас будет, товарищ капитан! – отозвался старший из них и приказал напарнику: – Бегом по линии, Вано, – замыкание где-то!.. Сейчас наладим, товарищ капитан…
– Налаживайте побыстрее. Да дверь приоткройте, а то натопили как в бане, не продохнуть!
Обойдя пышущую жаром печку, сделанную из железной бочки от бензина, капитан остановился у трюмо. Он терпеть не мог расхлябанности, которую его помощник Рожковский, частенько не следящий за собой, пытался оправдывать ссылками на фронтовую обстановку. Капитан же считал аккуратность во внешности неотъемлемым качеством командира, в каких бы условиях тот ни находился, и лично показывал пример – всегда был подтянут, чисто выбрит, сапоги сияли чистым глянцем, подворотничок менялся каждое утро в обязательном порядке.
Капитан скептически оглядел своё изображение в трюмо. На него смотрел какой-то помятый тип с чёрной щетиной на щеках, кожанка на нём была в ржавых пятнах, две пуговицы болтались на честном слове и вдобавок из правого рукава углом торчал клок выдранной кожи. «Хорош! – с раздражением подумал капитан. – Прямо на выставку! Самый подходящий вид для представления майору Фокину!» Он подумал о том, что в таком же неприглядном облике видела его и Инна, вздохнул: милая девушка… красивая девушка… умная девушка… Когда она рядом, кажется, что ни войны нет, ни фашистов, легко на душе становится, радостно и тревожно замирает сердце. Ничего особенного между ними нет, но солдаты народ ушлый – догадываются, судачат по-своему. Даже Карабеков, на что казалось бы свой, земляк, односельчанин, должен понимать, а и тот, расхваливая Инну, иной раз нет-нет да и съязвит, что, мол, другие офицеры, скажем, комбат-два, полегче к жизни относятся, считают: день твой – и то хорошо. Глупый ты в этих делах, Карабеков – другим я не судья, пусть живут, как совесть им велит, но с Инной себе позволить лишнего я не могу. Не та девушка, с которыми в жмурки играют, да и вообще не могу я так поступать, друг мой Байрам! Кстати, о чём это Карабеков хотел со мной поговорить? – вспомнил капитан. – Обиделся, пожалуй, что я его оборвал? Ничего, Байрам-джан, мне за тебя тоже приходится терпеть обиды от майора Фокина. А машину твою мы, конечно, заменим, дай срок».
Он снял фуражку, взъерошил волосы, всё ещё стоя перед зеркалом, но уже не видя изображения в нём, думая о другом.
– Голову хотите вымыть? – догадливо предложил ординарец Мирошниченко. Он успел поставить на печку ведро с водой.
– Некогда, Мирошниченко, головомойки устраивать, – капитан глянул на часы. – Мне она в штабе предстоит… Сколько там на твоих?
– Без трёх минут шесть, товарищ капитан.
– Правильно. А я думал, что мои отстали… Давай-ка почисти мне всю эту амуницию, приведи её немножко в порядок.
Мирошниченко принял фуражку комбата, ремень с портупеей и пистолетом. Покачал головой, словно и не видел до этого порванный рукав тужурки.
– Солидная дыра, – посочувствовал и телефонист, уже успевший убедиться, что «Роза» слышит его хорошо, и теперь глазеющий на капитана.
Ординарец ловко бросил кожанку ему на руки.
– Подштопай!.. И пуговицы заодно подтяни,
– Мирошниченко! – строго сказал Комеков. – Сколько раз тебя предупреждать!
– Ничего, товарищ капитан, я по этому делу мастер, – выручил ординарца связист. – В лучшем ателье города работал на гражданке. Зашью – как новенькая будет, следа не заметите.
– Ну, зашивай, коли так, – подобрел капитан, – мастерство в любом деле необходимо.
Он поболтал пальцем в ведре, секунду-две поколебался, рывком стащил с себя гимнастёрку и нательную рубаху. На его поджаром скулистом теле чётко выделялись рёбра, чуть пониже синела отметина, шрама. Капитан почесал её ногтем мизинца – зудит, дьявол её побери, совсем маленький был осколок, плюнуть, как говорится, и растереть, а чуть концы из-за него не отдал в госпитале, еле выкарабкался благодаря своей живучести да искусству хирурга.
– Пойдём наружу, сольёшь, – попросил капитан ординарца, но тут взгляд упал на лежащие возле печки обломки голубых досок. – Это что такое?
– Дрова, товарищ капитан, – пояснил улыбающийся ординарец.
– Дрова?.. Ты чему улыбаешься?
– Худой вы больно, товарищ капитан, все рёбра пересчитать можно.
– Ты, Мирошниченко, не мои, а свои рёбра береги. Где дрова взял?
– У повара позаимствовал, где ж ещё! – счёл нужным обидеться ординарец. – Могу и назад отнести, если не нравятся!
Обязанности свои при капитане он исполнял не просто старательно, а любовно и прямо-таки талантливо. В любой, самой казалось бы безвыходной обстановке он ухитрялся разыскать удобное место для отдыха, всегда в вещмешке у него находился сухарь, а в фляге – глоток водки или спирта. Капитан посмеивался над ним, пророчил ему в будущем должность главного интенданта армии, однако ценил хозяйственную смётку ординарца, нередко хвалил его, интересовался домашними делами.
– Не дуйся, Мирошниченко, поливай давай, – сказал капитан, расставив ноги и нагибаясь, когда они выбрались наружу.
Ординарец, посапывая от усердия, лил капитану на спину прямо из ведра, а Комеков блаженно покряхтывал, отфыркивался, щедро расплёскивая вокруг воду. Мирошниченко подал ему полотенце. Вытираясь, он говорил:
– Ты пойми, умная твоя голова, что жгешь не простые дрова, а сеялку, с помощью которой люди для нас с тобой же хлеб сеять будут. Или вы с поваром считаете, что всю жизнь воевать вам придётся? Считаете, что война всё спишет?
– Так она же поломанная, сеялка эта! – удивился ординарец недогадливости капитана. – Неужто я бы целую ломать стал? Скажете тоже!
– Пусть поломанная. Новую, её когда ещё сделают на заводе, а эту всегда починить можно.
В землянке на каверзный вопрос ординарца разогревать обед или товарищ капитан подождёт, пока он новых дров насобирает, Комеков махнул рукой: дожигай уж эти, так и быть, что с тебя возьмёшь.
После обеда потянуло в сон: сказывалась усталость последних дней, сплошь заполненных боями и передислокациями. Но спать некогда, надо было садиться за стол и писать бумажки – дело в общем нужное, но скучное, обычно комбат спихивал его на Рожковского, который хоть и отнекивался, но строчил боевые донесения с явным удовольствием. На сей раз, помимо боевого донесения, требовалась и объяснительная записка. Оправдываться Комеков не любил, предпочитая иной раз терпеть незаслуженное наказание, но сейчас винили не только его, и поэтому он долго сидел над чистым листком бумаги, покусывая карандаш и досадливо морщась. Не успел написать несколько слов, в землянку ввалился краснолицый и громогласный здоровяк-старшина. Командирский белый полушубок его был распахнут, ушанка сбита на затылок.
– Разрешите обратиться, товарищ комбат?! – гаркнул он на всю землянку.
Телефонист в углу прыснул в кулак. Мнрошниченко неодобрительно посмотрел на бравого старшину, от которого ему частенько перепадало за некоторый беспорядок, а сейчас он и сам дал маху.
– Заправься сперва, а потом обращаться будешь, – сказал капитан. – Раненых всех подобрали?
– Так точно, товарищ капитан!
– Как с боепитанием, с продуктами?
– Всё получено, товарищ капитан!
– Список личного состава готов?
– Так точно. Пришёл, чтобы вы его подписали, и я в штаб отправлю.
– С этим попозже зайдёшь, некогда сейчас.
– Писарь звонил уже, товарищ капитан.
– Подождёт твой писарь, не умрёт. Тут вот какое дело, старшина: мой капэ придётся передвинуть вперёд, поближе к наблюдательному пункту. Батареи заняли новые рубежи, не проверял?
– Проверял. Всё в порядке, окапываются.
– За шофёрами пригляди, а то они укрытия для машин в две ладони копают, больше ветками сверху стараются, а от веток какая защита.
– Будет сделано.
– Да… вот ещё что, старшина, – капитан потёр лоб рукой. – Что я тебе ещё сказать хотел?.. Ага! Управленцев не гони на ночь глядя новый капэ оборудовать, пусть отдыхают, намаялись ребята здорово. С утра завтра возьмётесь, А сюда, в эту землянку, повара поселишь… и санинструктора. Я сейчас в штаб пойду, а они пусть перебираются.
– Слушаюсь, товарищ капитан, – невозмутимо прогудел старшина, – Сами-то где ночевать будете?
– С лейтенантами своими переночую.
– Тесновато у них. Может, ко мне?
– Могу и к тебе, коли не возражаешь, мы люди не привередливые, покладистые, верно, Мирошниченко?
Тот пробурчал что-то нечленораздельное и стал рыться в вещмешке, бряцая котелком и ещё какими-то металлическими предметами.
Капитан, кивнув в его сторону, подмигнул старшине:
– Сердится мой Мирошниченко… Да, чуть не запамятовал! Выкрои, старшина, завтра часок с теми, кто занят поменьше, и стащите в одно место сеялки, веялки и прочую сельскохозяйственную технику.
– Есть! Сам об этом подумывал, товарищ капитан.
– И Пашину передай. Берите это дело на себя. А после доложишь.
– Есть доложить!
Старшина ушёл, а капитан снова склонился над столом. Дело пошло на лад, и комбат исписывал своим некрупным каллиграфическим почерком страницу за страницей. Почерк был чёток и красив, даже майор Фокин, ко всему относящийся придирчиво и во всём усматривающий, по его выражению, «загогулину», даже он любовался комековскими донесениями и приговаривал: «Быть бы тебе, комбат, первоклассным писарем, если б не родился ты отличным артиллеристом».
Кончив писать, Комеков сложил листки, с удовлетворением прижал большим пальцем хрустнувшую кнопку планшета, посмотрел на стрелки часов: половина восьмого, в самую пору идти, чтобы не вызвать опозданием новое неудовольствие заместителя командира полка.
Было уже довольно темно, по-вечернему подмораживало. После жаркой землянки, пропитанной парами бензина от коптилки, капитан с особенным удовольствием вдыхал бодрящий холодок свежего воздуха. Ординарец плёлся сзади и всё пытался жидким лучом трофейного фонарика с подсевшей батарейкой высветить тропку перед ногами комбата, пока тот не приказал ему прекратить это бесполезное занятие. Мирошниченко стал светить под ноги себе, поминутно спотыкаясь и чертыхаясь вполголоса.
Где-то рядом коротко заржала лошадь. «Это что за новости?» – удивился капитан. Но тут их окликнули:
– Стой! Кто идёт?
«Ерунда какая-то!» – снова недоумённо передёрнул плечами Комеков и спросил, вглядываясь в смутно синеющий просвет между деревьями:
– Это ты, Инна?
– Я, товарищ капитан, – отозвалась девушка.
– Одна?
– Одна.
– Почему не отдыхаешь? Что здесь делаешь?
– На посту стою, товарищ капитан.
Вместе с радостью неожиданной встречи он почувствовал раздражение.
– Кто тебя на пост поставил?! Где повар и остальные бездельники? Где старшина? Я же приказал ему!..
– Раненые у меня, товарищ капитан, – Инна подошла ближе. – Спят. А я их охраняю. А вы в штаб гитчек, да?
У Комекова горячо и больно дрогнуло сердце от этого туркменского слова, произнесённого старательно, неумело и так прекрасно. И уже стояла перед ним не женщина, встречи с которой приносят радости, а нечто значительно более близкое и родное – сестра, мать, может быть, вся Туркмения, вся жизнь со своим прошлым и будущим.
Он непроизвольно сделал шаг вперёд, нежно опустил ладони на плечи девушки. Она высвободила руки, упёрлась ему в грудь, чтобы отстранить от себя. Но не оттолкнула. Помедлила, пробежала пальцами по кожанке.
– Так и не удосужилась я пришить вам пуговицы. Сами пришили? – Она потрогала рукав тужурки. – И здесь хорошо подштопали.
Сообразительный Мирошниченко отошёл подальше и в темноте разговаривал с лошадью. В голосе его звучали необычно тёплые, ласковые интонации, и слова были такими же ласковыми, добрыми, будто не с лошадью, а с хорошим человеком участливо беседовал дока-ординарец.
«Что делать?» – думал Комеков, держа Инну за плечи. Она стояла молча и тихо, как мышка, и ровно дышала в темноте. Он рад был простоять так бесконечно долго и одновременно было как-то неловко, хотелось отпустить девушку – и боязно было отпускать, и в штаб следовало торопиться. Что делать? Может быть, на пост поставить Мирошниченко? Однако одному комбату не положено по ночам ходить. Инну взять с собой вместо ординарца? Тоже вариант не из лучших, и без того штабисты в остроумии упражняются.
Он легко, словно одним дыханием, коснулся рукой мягких завитков волос, выбивающихся из-под шапки Инны, спросил, чтобы хоть как-то нарушить молчание:
– Откуда лошадь в хозвзводе взялась?
Девушка, ожидавшая иных слов, тихонько вздохнула, невидимо улыбнулась и отступила.
– Не знаю, товарищ капитан. Думаю, приблудилась. Это немецкий тяжеловоз, вроде першерона.
– Першерон – французская порода, – подал издали голос Мирошниченко, – а у немцев…
– Ладно, ты там помолчи пока, – посоветовал ему капитан, – тебя за твою сверхъестественную чуткость не в ординарцы, а в слухачи к зенитчикам надо определить было.
Инна негромко засмеялась.
– Зачем раненых при себе держишь? – спросил капитан, обретая привычную форму. – Почему в санроту их не отправишь?
– Отправила, – сказала Инна, – восемь человек отправила. А четверо из них назад сбежали – пока, говорят, разлёживаться будем, от батареи отстать можем. Двое, которые полегче, ушли в свои расчёты, а этих я не отпустила, при себе держу.
– Старшина приходил?
– Не видела,
– Значит, сейчас придёт. Передай, пусть немедленно снимет тебя с поста, или я с него самого шкуру сниму. Ясно?
– Ясно, товарищ капитан. Но раненые…
– Раненых заберёшь с собой и располагайтесь в моей землянке – там сухо, тепло. В общем, старшина знает. Телефонисты там – пусть переселит их куда-нибудь поблизости, чтоб не мешались.
– Они не помешают, – ответила Инна, – им, беднягам, тоже сегодня досталось. Как-нибудь потеснимся. Есть не хотите? У меня целый котелок лапши с тушонкой в телогрейку завёрнут.
– Неужели для меня приготовила? – пошутил Комеков.







