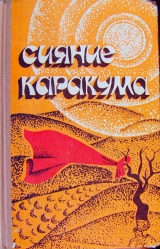
Текст книги "Сияние Каракума (сборник)"
Автор книги: Аллаберды Хаидов
Соавторы: Атагельды Караев,Агагельды Алланазаров,Араб Курбанов,Ходжанепес Меляев,Сейиднияз Атаев,Реджеп Алланазаров,Ата Дурдыев,Курбандурды Курбансахатов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 32 страниц)
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Перед началом собрания Кемал-ага позвал меня к себе. В кабинете сидели директор школы Тойли, – он же парторг, Пошчи-почтальон и дедушка Юсуп-ага – самый старый житель села, один из основателей нашего колхоза. Вроде бы все знакомые, но я отчего-то застеснялась и, сама не зная, как это вышло, прикрыла рот рукавом халата.
– Не робей, борец против шариата! – подмигнул Кемал-ага.
– Мы на тебя надеемся, – сообщил Пошчи-почтальон.
– Дайте стул, пусть сядет, – сказал дедушка Юсуп-ага. Он хоть и старый годами был, а в передовиках числился, в активистах, потому что всегда новое отстаивал, в гражданскую – саблей, в мирное время – словом, а то, при случае, и посохом своим суковатым. Крут был нравом, но – справедливый, уважали его.
Я присела на краешек табуретки.
Пошчи-почтальон спросил:
– Знаешь, по какому поводу собрание?
– Знаю, – ответила я, – о помощи фронту.
– А тебя зачем пригласили сюда, ведомо?
– Неведомо, – в тон ему ответила я.
Он назидательно поднял палец.
– Поэт Махтумкули утверждал: «Все человеческие слова – пища без соли, если среди них отсутствует упоминание о женщине или девушке».
Все засмеялись. Я отвернулась. Дедушка Юсуп-ага сказал:
– Не обижайся, молодая, что мы шутим. Иногда надо и посмеяться. Бедствие, имя которому «война», всем нам испортило настроение. Но давайте всё равно будем щедры душой, ибо смех разит врага сильнее, чем пуля.
– Не обижаюсь, – промолвила я. – Мне просто неловко.
– Ты в школе учишь добру детей, – строго сказал дедушка Юсуп-ага. – Ты работаешь в главной конторе колхоза! – Он поднял палец точно так же, как это минуту назад сделал Пошчи-почтальон. – Почему тебе неловко? Пусть бездельникам и врагам нашим неловко будет. Говори с ней, Кемал!
– Выступить тебе на собрании надо, – пояснил Кемал-ага. – От имени всех женщин и девушек села.
Я испугалась:
– Не смогу! Никогда на собраниях не выступала!
– А ты представь, что находишься в классе и перед тобой твои ученики, а не колхозники, – подсказал Тойли.
Я представила, и мне стало смешно.
– О чём же я говорить стану с этими «учениками»?
– Тойли тебе на бумажке напишет главные мысли, – сказал Кемал-ага. – Остальное сама сообразишь по ходу собрания.
– Ладно, – согласилась я, совершенно не представляя, как буду выступать.
Первым говорил дедушка Юсуп-ага.
– Люди, большая беда над Родиной нашей нависла. Чёрная беда. Тяжелее, чем при интервентах в год Лошади… – Он подумал и поправился: – В восемнадцатом году это было, когда у меня пятый сын родился, Бяшим… Так вот, товарищи, беда у нас в доме. Общая беда, общая забота. Наши родственники и близкие наши на фронте воюют, мы с вами на хлопковом поле за высокие урожаи воюем. Но мы в тепле спим, а они – под открытым небом. Пальцы от холода разогнуть не могут. Если каждая из наших женщин свяжет пару варежек и носков, двести джигитов благодарны нам будут. А двести джигитов – это большая сила, крепость взять могут с ходу. Что скажете, люди?
– Поможем джигитам! – раздались голоса.
– Овчины пошлём!
– Тёплые халаты отдать можно!
– Тельпеки не помешают!
– Вижу общее согласие и рад, что вижу именно его, а не что-нибудь иное, – сказал дедушка Юсуп-ага, когда шум несколько поутих. – Не зря сказано, что общими усилиями и плешивую девку замуж выдать можно.
По рядам волнами прокатился смех.
– Но это ещё не всё, – продолжал Юсуп-ага. – Война, как владыка драконов Аждархан, глотает и камни, и людей, и деньги. Много средств требуется, чтобы ружья и пулемёты наши стреляли без перерыва, чтобы пушки запас снарядов имели и это… как его… аэропланов чтобы больше было. Призываю вас, люди: сдавайте, что можете, в фонд обороны! Всё, что имеет ценность на базаре, – сдавайте! Я от своей семьи десять тысяч рублей вношу!
Ему долго хлопали, выкрикивали поощрительные слова, среди которых чаще всего повторялось чуть подправленное русское: «Ай маладис!». Конечно, Юсуп-ага был молодец для своих восьми десятков лет, и я тоже аплодировала вместе со всеми и даже кричала что-то. Но тут предоставили слово мне, и язык мой моментально присох к гортани.
Не помню уж, что и говорила. Скорее мямлила, чем членораздельные слова произносила: о значении женского труда в колхозе, о самодисциплине, о варежках и носках, которые можно вязать ночью, при свете оджака. Под конец малость успокоилась и уже более внятно сказала, что лично я сдам все золотые и серебряные украшения, которые мама собрала для моей свадьбы. И других женщин призываю. Победим врага – новые украшения наживём, а коли нас победят, то рабыням ни подвески, ни кольца не нужны, хозяин отберёт.
Мне хлопали ещё шумнее, чем дедушке Юсупу-ага. Он сам крепко бил ладонью о ладонь, и звук был такой, словно доской по доске бьёт. А я сидела вся красная, мокрая, как мышь, донельзя гордая своей первой «парламентской» речью. Казалось: все смотрят только на меня. Хотя смотрели, конечно, на выступающих, недостатка в которых не было – разговорился народ.
Самой последней попросила слово Найле. В эти дни тяжёлых испытаний, сказала она, каждый человек должен быть там, где от него самая большая польза для Родины. Я хороший врач, сказала Найле, могу спасать раненых на фронте и прошу поддержать заявление, которое я послала в военкомат.
Её слова были такой неожиданностью, что люди даже не аплодировали. Кемал-ага вышел и пожал Найле руку.
– Так и запишем: «Единогласно одобрено общим собранием жителей села Ходжакуммет», – торжественно объявил он.
А Тойли сидел бледный и головы от красного стола не поднимал.
– Зайдёшь домой? – спросила Айджемал после собрания.
Ночь была безлунная. Мы с трудом, держась друг за дружку, чтобы не упасть на ухабах, добрались до дома. Там я достала из сундучка мамины украшения и погрустила немножко, вспомнив прошлое. Айджемал принесла два массивных литых браслета с сердоликами и бирюзой.
– Отнеси сама, – попросила она, – мне рано на поле идти, не хочу от других сборщиц отставать.
Утром в сельсовете Кемал-ага велел мне вести строгий учёт сдаваемого и обязательно указывать фамилии тех, кто сдаёт.
– Там, возле крыльца, две здоровенные овечки привязаны, – сказала я. – И мешок стоит. По-моему, с шерстью.
– Большой начинает, меньшой продолжает, шалтай-болтай, – живо отозвался Пошчи-почтальон. – Пиши, Алма, в первой строчке: «Кемал Байрамов – две овцы».
– А шерсть?
– Шерсть от щедрот хозяйки моей, – сказал Кемал-ага. – Давай-ка выкидывай из этого железного сундука всю дребедень бумажную, освобождай место для ценностей.
– Держи мою ценность! – Пошчи-почтальон извлёк из своей сумки огромную, с лопату, как её только женщина носила, серебряную подвеску. – Вот! Во вторую строчку меня пиши!
– Смотри-ка, сдержал слово! – подивился председатель, пряча в усах усмешку. – Я думал, нипочём жена твоя не уступит, так и придёшь с пустыми руками.
– Не обижай, председатель! – воскликнул Пошчи. – Хоть эта рука и увечная, но домашнюю уздечку крепко держит. Да и на Кейик мою понапраслину возводишь. Вот её доля – ровно на восемьсот пятьдесят рублей!.. Постой, постой, Алма, не тянись! Предки говорили: даже если на земле найдёшь, всё равно сосчитай. А тут – кровное. Вот… тьфу!., одна… две… три… – Он поплевал на пальцы и принялся подсчитывать облигации займа.
Люди шли один за другим, несли кто что одюжил – и ценное и так себе. Просунулся в дверь старый нелюдим Ата.
– Бе! И ты пришёл? – удивился Пошчи-почтальон.
– А что, запрещается? – огрызнулся старик.
– Да нет, заходи. Только почему с пустыми руками?
– Не с пустыми, не балабонь! Кто принимает? Ты, что ли, башлык? От меня – батман маша, два батмана джугары и овчинка каракульская. Иди, почта, покажу где, чтобы ты не сомневалась. «С пустыми рука-ами!..» Умник какой!
– Пойдём, погляжу, – согласился Пошчи, – а то от тебя всего ожидать можно.
Переругиваясь, они вышли. Я спросила:
– Маш и джугару тоже отправлять на фронт будем? Они же малокалорийные, питательной ценности не имеют. Писать их?
– Пиши, пиши, – сказал Кемал-ага, – всё пиши, потом разбираться будем, что калорийно, а что нет.
Вечером я решила ещё раз сходить домой – где-то должны были лежать мамины облигации, я сразу-то о них не вспомнила. А дома разразилась «буря». Свекровь махала руками и кричала, брызгая слюной:
– Сама развратница и Айджемал развращаешь! Не дам! Тебе в конторе разрешили работать, а ты почему пошла срамиться в собрание мужчин? Почему бесстыдно рот разинула перед людьми? Украшение женщины – скромность и молчаливость! Никакой твоей работы знать не знаю и знать не хочу! Или будешь дома сидеть, как пупок твой тут закопали, или вообще уходи на все четыре стороны! Иссяк колодец моего терпения! Даже если отец мой из могилы подымется, придёт просить за тебя, – откажу! Поэтому Кемалу не жалуйся…
– Чего она взбеленилась, как дурная овца? – спросила я у Айджемал, когда мы остались одни. – Неужто из-за того, что на собрании я выступила?
– Не только, – покачала головой Айджемал, смазывая свои кровоточащие пальцы курдючным салом, – я ведь, бессовестная, так и запамятовала попросить для неё лекарство у Найле! – Не только собрание. Браслетов ей моих жалко. Да и твои побрякушки она, видать, к своему добру присовокупила.
– Ты, что ли, сказала ей?
– А что? Не воровали мы, не на худое дело отдали. Тут ещё Патьма-эдже приходила, болтала вздор о тебе и Тойли. Мол, вечером вдвоём сидите в школе, лампы не зажигая.
– Керосин кончился, потому и не зажигаем, – сказала я.
– Моё дело маленькое, – отмахнулась Айджемал, – а только и вы поаккуратнее бы как-нибудь…
– Да ты что! – возмутилась я, не сразу постигнув суть сказанного. – Как ты могла подумать?.. Как у тебя язык повернулся вымолвить такое?.. Да я…
Она равнодушно пожала плечами.
– Если вины нет, зачем кричишь? Я не свекровь, мне доказывать ничего не надо, сама грешна…
– Что же прикажете делать? – спросила я. – Где выход?
– Выход есть из любого положения, кроме смерти, – сказала Айджемал.
На следующий день, вопреки запрету свекрови, я всё же ушла, решив, что ночевать отныне стану дома, чтобы не давать поводов для болтовни Патьме-эдже и таким, как она, сплетницам. Да и обещание, данное Тархану, вспомнила – вроде обманщицей оказалась, хоть и не по своей воле.
Работы было с головой. Приехал представитель райисполкома проверять, правильно ли взимаются налоги с индивидуальных хозяйств, не утаиваем ли мы что-нибудь от государства. Я показывала ему всю документацию и едва в школу не опоздала. Однако даже третий урок закончить не дали – вызвали в комиссию по приёму вешей для фронта – я в ней тоже состояла.
Возвращалась, конечно, затемно, ощупью, угодила в какую-то колдобину, свезла коленку, порвала платье. Дурные предчувствия появились. Чем оправдаюсь перед свекровью за самовольство? Вон искры из дымохода чёрной кибитки снопом летят, словно сам Аджар-хан огнём дышит! Дунет – и нет меня, сгорела, как былинка, была Алмагуль – и не стало Алмагуль, коли оправдаться не сумеет.
Оправдываться не пришлось. Свекровь уже всё решила сама. Она возникла на пороге, как гуль – злой демон развалин, пьющий живую человеческую кровь. В пятно света из раскрытой двери шмякнулся, жалобно охнув, мой старенький чемодан. Дверь захлопнулась. В мире опять стало темно. Искры уже не вылетали из дымохода, лишь редкие звёздочки то там, то сям поблёскивали над головой да ветер холодил мои мокрые от слёз щёки – не от свекрови плакала, от боли в коленке.
– Ладно, – сказала я, – прощайте, Тувак-эдже, и вы. Кандым-ага, прощайте. Вы так хотели, не я. Кто из пас прав, кто виноват, люди рассудят.
Я еле-еле дотащилась до дома Найле. Вконец обессиленная присела на чемодан отдохнуть. – В боку кололо, под сердцем шевелилось и толкалось то, чему скоро предстояло появиться на свет.
– Сиди тихо! – шёпотом прикрикнула я.
«Оно» словно поняло – угомонилось.
Из дома доносились голоса, форточка была открыта. Я прислушалась: Тойли! Вот шустрый! Когда успел?
Всего две ночи не ночевала я здесь, а он уж пронюхал, заявился бедняжку Найле своими признаниями изводить. Или – не он?
Я подошла к окну. Точно – он.
– …Не мучай меня, Неля-джан!.. Дня без тебя прожить не могу. Каждый раз, когда ты снишься, выворачиваю тюбетейку наизнанку и снова ложусь…
– Зачем наизнанку? – это голос Найле.
– Старики утверждают: если так сделать, сам приснишься девушке, которую во сне видел.
– Врут твои старики – ни разу не видела тебя во сне…
Я послушала ещё немножко. Но не стоять же мне было под окном целую ночь?
Увидев меня, Тойли поперхнулся чаем и закашлялся. Мы с Найле рассмеялись, особенно безжалостно хохотала она. Мне показалось, нарочито хохотала, без желания.
Когда сконфуженный Тойли ушёл, я поведала, что приключилось со мной.
– Подумаешь! – сказала Найле. – Ерунда всё это. Живи здесь, как и жила. Вернётся твой Тархан – всё наладится. Эх, Аня-джан, Аня-джан… Помнишь Тархана?
– Ещё бы! – ответила я.
– Я тоже любила, – мечтательно сказала Найле. – Начну вспоминать – сказку вспоминаю. Каждый вечер встречались. По городу – в Казани это было – до изнеможения бродили. Подходим к дому – расстаться сил пет. А снег сыплет сверху. И петухи поют, полночь извещая. А мы стоим и стоим. Папа с мамой мирились с этим: отец выйдет во двор, покашливает – пора, мол, хватит мёрзнуть. А мы, как маленькие, за поленницу прячемся, друг к другу прижавшись. Ахмед глаза мои целует, а я себя не помню, голова кружится. Каждое свидание словно последним для нас было. «Отпусти, – шепчу ему, – рассвет скоро, люди выйдут…» А он дыханием пальцы мои греет. Домой приду, сапоги сброшу – ноги как ледышки, целый час дрожу под одеялом, а в сердце – костёр горит, Ахмеда в мыслях обнимаю. Скоро увижу его, если военком мою просьбу уважит. Обещал, лично с ним говорила. Отыщу Ахмеда – и станем в одном госпитале работать – он ведь тоже врач, только не терапевт, а хирург.
– Жаль, что не училась вашей профессии, – позавидовала я. – Вместе с тобой поехала бы на фронт.
– Правильно, молодец, – насмешливо одобрила Найле. – А малыша – в вещмешок и за спину. Так, что ли?
– Ещё не известно, будет ли он, – сказала я.
– А это уж ты мне на слово поверь, – Найле легонько похлопала меня по плечу. – Поверь, девушка, осечки не будет.
Я поверила.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Опять было у нас общее собрание колхозников. Речь шла о почине краснодарцев, которые предлагали засеять овощами сверхплановые земли.
– Такое дело и нам под силу, – сказал Кемал-ага. – Свежие овощи для войны – всё равно что боеприпасы.
Его поддержали:
– Осилим сверхплановые!
– Нашим только намекни: «Сейте!» – об остальном беспокоиться не надо!
– Кейик, ты своих женщин поторопи!
– Они сами себя торопят, Кемал. За нами не задержится.
– Под овощи получше участки надо!
Да, дружным был наш колхоз, душа на него радовалась. Таких, как Патьма-эдже да мои старики, раз, два – и обчёлся, на одной руке пальцев хватит.
Кемал-ага беспокоило положение с медпунктом.
– Трахомные твои поправляются? – осведомился он у Найле, провожая нас после собрания.
– Их почти не осталось, – заверила она.
– Гляди! – пригрозил он. – Не вешай больных на мою шею! Нового врача когда ещё в районе выпросим, так Патьма живо их к рукам приберёт. А может, ещё не возьмут тебя, а? Что там, мужчин не хватает, что ли?
Видно было, что ему очень жаль расставаться с Найле – она была и врачом хорошим, и женоргом. Однако повестка из военкомата пришла. Принёс её запыхавшийся Пошчи-почтальон.
– Можно подумать, не ты на лошади ехал, а она на тебе, – пошутил Кемал-ага. – С худыми вестями или с добрыми?
– Затрудняюсь сказать, шалтай-болтай, – развёл руками Пошчи. – Сроду мобилизационных повесток женщинам не носил, да вот на старости лет сподобил аллах.
– Мне?! – шагнула к нему Найле и вся засветилась, будто фонарь у неё внутри зажгли.
Она пробежала глазами бумагу.
– Послезавтра утром должна быть на призывном пункте! Ура!
Я обняла подругу, не в силах сдержать слёзы.
Пошчи-почтальон молчал, покрякивал.
Кемал-ага откашлялся, но всё равно в голосе его не было обычной твёрдости.
– Найле… Алмагуль… обеих вас люблю… как дочерей родных люблю… Пусть светлой будет дорога твоя, Найле… пусть удача твоим караван-баши будет… Не место женщине на войне… нет, не место!.. Не пустил бы, будь моя воля. Но есть святые желания, над которыми никто не властен, кроме совести человека… Иди, дочка, – что ещё могу сказать…
– Спасибо, милый Кемал-ага! – взволнованно произнесла Найли, и на глазах её заблестели слёзы. – Спасибо! Пусть и у вас тут всё хорошо будет. Война кончится – обязательно вернусь к вам!
– Я и не сомневаюсь в этом, – кивнул Кемал-ага.
– Мне бы в город съездить, повидать кое-кого, – попросила Найле.
– Теперь я тебе не указ, – сказал председатель.
Он бодрился. И голос его прежние интонации обрёл, когда он обратился к только что вошедшему директору школы:
– Тойли, запряги там моего мерина в фаэтон – Найле надо в город отвезти.
– Что такое?! – всполошился Тойли, и галстук его сам собой поехал куда-то вбок. – Зачем ей в город?
– Сама расскажет по пути, – успокоил его Кемал-ага.
А Пошчи-почтальон поцокал языком и осуждающе добавил:
– Думал, образованные люди все понятливые, а ты, шалтай-болтай, как с неба свалился! Что девушка
Найле на собрании говорила, слышал? Слышал! Потому что ближе нас к ней сидел. Тогда зачем спрашиваешь попусту? Она теперь военный человек, не нам с тобой чета.
Найле уехала.
Вечером возле магазина я встретила Айджемал.
– Не обижайся, что не захожу, – сказала она, забыв поздороваться. – Работы невпроворот, со здоровьем плохо, свекры с дрючками ворота сторожат, чтобы ночью не сбежала.
– Ничего, – ответила я, – забегай, если вырвешься, у меня тоже минутки свободной нет – то сельсовет, то школа, то комиссия.
– Забегу, – пообещала Айджемал, – поговорить есть о чём. Я такую штуку у свёкра в потайной торбочке обнаружила – закачаешься. Сто лет будешь думать и не додумаешься, но порадуешься, когда узнаешь.
Это заинтриговало меня, я попросила:
– Расскажи сейчас.
– Времени в обрез. Потом зайду.
Она заметно подурнела, лицо её шло некрасивыми тёмными пятнами, под платьем круглился животик. Не так явно, как мой, но сведущему человеку видно было. Я покосилась ещё раз, и ревность, как пчела, ужалила: а что, если Тархан неправду сказал мне, чтобы лишних конфликтов избежать?
– Пойду я, – сказала Айджемал.
– Иди, – разрешила я, ни капельки не подозревая, что видимся мы с ней последний раз.
Через несколько дней у меня начались схватки. На двери нашего медпункта висел замок. Поэтому ухаживала за мной, вспомнив старое ремесло повитухи, Кейик-эдже – жена Пошчи-почтальона. Она гнала мужа подальше от дома, щадя мою стыдливость, но Пошчи всё равно топтался поблизости и переживал.
Родился здоровый и на редкость спокойный бутуз. Мы назвали его Еламаном[9]9
Еламан – букв «безопасная дорога».
[Закрыть], потому что и отец его шёл фронтовой дорогой и лучшая подруга моя на неё ступила.
Я радовалась, что всё обошлось благополучно, однако рано. То ли от избытка молока, которое Кейик-эдже категорически запретила мне сдаивать, то ли от простуды у меня приключилась грудница. Встревоженная Кейик-эдже пыталась лечить её по-своему: велела надевать на грудь торбочку с солью. К сожалению, дедовское средство не помогло, я расхворалась не на шутку, и Пошчи-почтальон отвёз меня в районную больницу. Там я получила основательную нахлобучку от старенького, белого, как одуванчик, доктора, мне сделали срочную операцию.
Постепенно дело пошло на поправку, и я снова радовалась жизни, любуюсь Еламанчиком. Одна лишь тучка чёрная на моём небе висела, солнышко перехватывала – свёкор со свекровью. Когда к другим женщинам на свидание приходили или передачи вкусненькие приносили, я особенно остро ощущала своё одиночество. Детство, юность всё чаще вспоминались. Правы, оказывается, были те, что причитали надо мной: при родных отце с матерью я шахиней жила, при чужих – бездомной сиротой стала. Ничего я такого запретного не делала, норов свой не проявляла, а вот, поди ж ты, не ко двору пришлась мужниной родне. Да ладно бы только я! А то ведь даже на внука глянуть не пришли, каменные души!
И всё-таки я не была одинока. Чаще других меня навещал Пошчи-почтальон. Каждый день заходил, когда за почтой приезжал. Правда, пускали его не всякий раз, но он мне через окошко улыбался и разные знаки руками делал: Еламанчика, мол, покажи. Показывала. – самой приятно было похвастаться сыном. Раза два Кемал-ага с Тойли наведывались – тут я совсем именинницей ходила, павой, прямо раздувало меня от мелкого тщеславия – ещё бы, сам башлык приехал! А малюсенький червячок сидел где-то в печёнке и точил: «А старики не идут… а старики не идут…» Вредный такой червячок, въедливый, так бы и щёлкнула его по макушке!..
Больше месяца провалялась я в больнице. С осложнениями разными. Однажды нянечка сообщила:
– Женщина тебя дожидается во дворе. Из Ходжа-куммета. Может, та, которую ждёшь?
Я так и подскочила.
– Молодая, старая?
– Скорее пожилая.
– Значит, всё-таки свекровь!
Я кинулась за Еламанчиком. Всё во мне ликовало и пело: признала-таки, вредина, и внука и невестку! Теперь мамой называть её стану!..
Это была не свекровь, а Кейик-эдже. Она по-матерински обняла меня, расцеловала Еламанчика, разложила на скамейке платок с гостинцами.
– Каждый день вспоминала тебя, – говорила она, утирая глаза кончиком головного платка. – Хоть один разок в день да вспомню. Давно бы приехала, да сама знаешь, сколько дел в моей женской бригаде. А дорога не близкая да солончак по пути. В нём, говорят, во время дождей целый верблюд с вьюками утоп.
Она выложила мне целый хурджин сельских новостей, приберегая под конец самую трагическую. А я, ни о чём не подозревая, слушала и забавлялась с Еламанчиком, который гукал и пускал ртом пузыри. Ласково светило солнышко, свежо и хорошо было в большом больничном дворе, вроде бы не больница здесь, а парк для отдыха.
Долго говорила Кейик-эдже. Потом примолкла, повздыхала.
– Айджемал-то, бедняжка, умерла…
Я ушам своим не поверила.
– Ребёночка она больше положенного носила, – рассказала Кейик-эдже. – Ну, а Тувак – она же всезнайка: «Наелась, – говорит, – поди, верблюжьего мяса, аппетит свой сдержать не можете, теперь будешь, как верблюдица, целый год носить». Да и потащила её к рябому Ата. У того верблюд – здоровенный, что твой бархан. Тувак заставила бедняжку под ним пролезть. А верблюд – он скотина безмозглая – то ли ногой её ударил, то ли брюхом придавил. В общем, умерла она в родах. И девочка мёртвенькая родилась. А уж такая хорошенькая, такая хорошенькая! Вылитый Кепбан.
У меня волосы на голове зашевелились.







