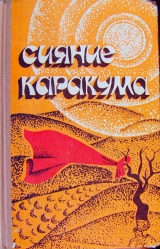
Текст книги "Сияние Каракума (сборник)"
Автор книги: Аллаберды Хаидов
Соавторы: Атагельды Караев,Агагельды Алланазаров,Араб Курбанов,Ходжанепес Меляев,Сейиднияз Атаев,Реджеп Алланазаров,Ата Дурдыев,Курбандурды Курбансахатов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 32 страниц)
IX
Возвращение Юсупа-ага на кош чабаны отметили как праздник. В марте начинается окот; у земледельцев тоже горячая пора – посевная, в колхозе каждый человек на счету; может, поэтому все были рады приезду Юсупа-ага? И поэтому. Но не только.
Профессия чабана не так проста, как может показаться горожанину. Она требует множества самых различных знаний, чутья, сноровки, опыта. Всего этого у Юсупа-ага хоть отбавляй. И всегда он щедро делится тем, что умеет сам, с молодыми. Но в колхозе немало других знающих чабанов. Значит, не только из-за опытности Юсупа-ага обрадовались ему в песках.
Так в чём же главная причина общей радости?
А почему ликуют дети, когда приходят родители, чтобы забрать их из садика домой? Ведь в детском саду есть всё, что надо для ребят: вкусная пища, множество игрушек, друзья-товарищи, заботливые ласковые воспитатели. И всё же, завидев мать или отца, ребёнок вне себя от счастья бросается в их объятия.
Чабаны знают, что овцы, пастбища, колодцы, чабанский посох, костёр в степи существовали задолго до появления на свет Юсупа-ага, испокон веку, можно сказать. И тем не менее им почему-то всегда казалось, что всё это создано Юсупом-ага, его руками, его трудами, его заботами…
В первые годы существования колхоза общественный скот составлял всего одну отару, и старшим чабаном при ней был Юсуп-ага. Чабаном был его первый сын, Торе, подпаском – второй сын, Курбан (Оба они ушли на фронт в начале Великой Отечественной войны и оба пали смертью храбрых). Наверное поэтому колхозным чабанам и казалось, что всё пошло от Юсупа-ага и что всем он вроде отца. С самых дальних колодцев явились они, чтобы приветствовать своего патриарха. Поздравив с возвращением, спешили назад, на свои коши: овец нельзя бросать без присмотра. С Юсупом-ага остался один Салих. Он первый заметил вдали чёрную точку и показал на неё старику.
– Нуретдин наверно едет, – предположил тот.
Чёрная точка приближалась, росла, вскоре стало можно определить председателев «газик». Нуретдин приехал в сопровождении завфермой мелкого рогатого скота и счетовода. Они сообщили, что правление колхоза назначило Юсупа-ага старшим чабаном прежней его отары.
– Яшули, пересчитай овец и прими. Составим акт, – сказал председатель Нуретдин.
– Составляй свой акт, братец. Я принимаю отару.
– Быстро вы как. Неужто уже сосчитали?
– Юсуп-ага не считал, он осмотрел отару, – сообщил Салих.
– Между осмотром и пересчётом большая разница; – сказал завфермой.
– Если чабан настоящий, он с первого взгляда увидит, каких овец не хватает, – возразил ему Юсуп-ага. – В моей отаре не хватает десяти, нет, двенадцати штук.
Даже Салих был изумлён.
– Верно, двенадцати не хватает. Неужели вы знаете – каких, яшули?
– Конечно, знаю. Нет старого барана номер пятьсот двенадцатый по кличке Бесноватый. Вечно отбивался от отары и бегал один. И любил, как собака, обнюхивать новых людей. Где он?
– Его ужалила змея, – сказал Салих.
– Да, барана под номером пятьсот двенадцать ужалила змея, и он издох, – подтвердил счетовод. – Шкуру оприходовали.
– Нет овцы, похожей на зайчиху. Какой же у неё номер? Одна из тех, что приносила ягнят со смушком сур.
– Овца номер пятьсот тридцать первый околела, поев ядовитой травы, – сообщил Салих.
Счетовод снова подтвердил его слова.
– Ну, а остальных десять, видно, взяли на мясо, – предположил Юсуп-ага, – они были в возрасте.
– Верно. Десять штук из этой отары забрали в счёт мясных поставок.
– Все остальные, кажется, в наличии. Так что пиши свой акт, председатель. Укажи, что я принял девятьсот сорок восемь овец, двух коз, одного козла.
После того, как с делом было покончено, сели пить чай. Юсуп-ага угощал начальство со всеми почестями. У председателя было отличное настроение, шутливым тоном обратился он к старому чабану:
– Юсуп-ага, вы полгода прожили в городе. Наверное видели там немало интересных вещей, познакомились с умными людьми, слышали мудрые речи. Городская культура пока ещё выше сельской. Может, есть у вас какие-то пожелания, наставления нам?
– Есть, как не быть.
– Какие же?
Достав из кармана кожаный бумажник, подаренный Майсой, старик извлёк из его глубин кусочек асфальта и протянул Нуретдину.
– Асфальт? Зачем вы мне его даёте?
– Этой штукой следует покрыть все наши дороги. Ну, если не все, то хотя бы главные. Это моё первое наставление.
– Очень скоро мы его выполним, яшули, – с улыбкой сказал председатель. – С нового года начнём асфальтировать дороги. Говорите второе наставление.
– Второе, братец мой, будет такое: доставь воду прямо в дома. Пусть по одной трубе течёт холодная, по другой – горячая. Это очень удобно, избавляет от многих хлопот, бережёт время.
– Согласен, яшули. Выполним и второе ваше наставление, только позже. В следующей пятилетке.
– Третье наставление: вот в этом доме установи для нас телевизор. С его помощью можно увидеть, как живут люди всей земли, что они делают, что поют, на каких музыкальных инструментах играют…. Много чего можно узнать… Я-то, невежда, думал, что телевизор – коробка, в которую кладут кино. Оказывается, это совсем другая штука. Она может связать тебя с любой частью мира. Великая вещь.
– Обязательно приобретём хороший телевизор для Центрального пункта, – пообещал председатель. – Ещё будут наставления?
– Будут, только не сейчас. Потом, когда я вспомню. Сейчас у меня вопрос к тебе есть, Нуретдин.
– Спрашивай, яшули.
– У Берды двое сыновей, одного я уговорил стать подпаском.
– Вот и хорошо.
– Раньше я тоже так думал, а теперь сомневаюсь.
– Почему?
– Один человек в городе – дураком его не назовёшь, наоборот, он так много всё знает – сказал мне, что уже есть машины, которые делают искусственное молоко и мясо.
– Возможно, и есть.
– Но если машинами делать мясо, бараны будут не нужны, а стало быть, и чабаны тоже. Значит, я уговорил своего юного внука выбрать профессию, которая отживает век?
– Да что вы, яшули! Вовсе нет! – И Нуретдин пустился в длинный разговор о различиях между искусственными и натуральными продуктами. И очень убедительно доказал, что надобность в натуральных продуктах, в настоящем молоке и мясе никогда не отпадёт. – Разве может деланная, фальшивая улыбка заменить искренний и жизнерадостный смех? – сказал он под конец, и Юсуп-ага совершенно уверился в его правоте.
– Значит, овцы так же вечны, как пустыня и небо?
– Да!
Уже садясь в машину, председатель сказал:
– У вас в посёлке есть дом и меллек. Надо бы вспахать его и посеять что-нибудь. Весна ведь.
– Разве мой меллек не передали другому человеку, когда я уехал в город?
– Нет.
– Почему?
– У нас оставалась слабая надежда на ваше возвращение, – улыбаясь, ответил Нуретдин.
– Брат мой, не нужны мне ни дом, ни меллек. Вся пустыня мой меллек. Солнце – моя печка, звёзды – свечи, а также подобие городских светофор для машин, – они мне так же указывают путь. Если мой дом – вселенная, зачем мне те четыре стены в посёлке?
Отара ввалилась в загон. Женщины принялись доить овцематок. Ягнята, почуяв запах молока, заблеяли пронзительно. Как отрадны были для взора и слуха Юсупа-ага эта картина и эти звуки!
– Вот и опять ты с нами, – сказал Салих.
– Да, опять я с вами… Ты вернёшься на старое место?
– Нет, я буду пасти поярков дальше, на западе, там вырыли новый колодец. Перебирайся и ты туда после окота. Будешь досматривать свои сны.
– Я их уже досмотрел.
– Да? Что же было после того, как красный командир сказал тебе «товарищ»?
– Я его тоже назвал «товарищ». А потом заговорил молодой туркмен-джигит: «Товарищ Борисов сказал, что ты обязательно выздоровеешь. И он обещает возвратиться, чтобы помочь вам построить колхоз». Это не сон, Салих. Я вспомнил: красного командира действительно звали Борисов и туркмен-переводчик действительно сказал те слова.
– И Борисов возвратился?
– Нет. Передавали, что он убит в бою с басмачами.
Доярки, прослушав концерт, который передавали по радио, улеглись спать. Велев и помощнику спать до восхода солнца, Юсуп-ага погнал отару на ночной выпас. Лёжа на макушке бархана и глядя на яркие звёзды пустыни, он вспомнил городского друга Оруна Оруновича. Тот говорил: «Хотя человек и не вечен, как звёзды или пустыня, он должен жить столько, сколько сам захочет, пока ему не надоест». Ещё Орун Орунович говорил, что жизнь человеческую укорачивают болезни и, чтобы не болеть, человек должен работать. Работать в семьдесят, в восемьдесят, в сто лет. Работать, чтобы не давать покоя сердцу, чтобы оно не заснуло.
Чтобы не заснуло сердце чабана, он будет день и ночь бродить за отарой. Ноги его по щиколотку утопают в сыпучем песке, но, тем не менее, он легко взбирается на верхушку бархана с новорождённым ягнёнком на руках. На лбу его появляется лёгкая испарина. Эта испарина – доказательство того, что сердце чабана не спит, работает.
Перевод Н.Желниной
Ата ДУРДЫЕВ
ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ
ГЛАВА ПЕРВАЯ

Капитан Комеков, устроившись в развилке высокой сосны, не отрывал глаз от бинокля. Сидеть было неудобно, но он не замечал этого, весь поглощённый событиями, разворачивающимися на поле боя, и лишь потихоньку чертыхался, когда обзор заслоняла разлапистая ветка дерева.
– Ну, что там, ребята? – спрашивал снизу лейтенант Рожковский, хлопая себя по бокам замёрзшими руками. – Чего они там вола тянут?
Капитан сердито буркнул себе что-то под нос и вдруг оживился:
– Пошли, Рожковский! Поднялась рота!
Издали донеслись приглушённые расстоянием и совсем не впечатляющие крики «Ура!», автоматные очереди.
– Слава те, господи, проснулись, – сказал лейтенант, – а то уж впору было повару команду давать, чтобы кухню свою раздувал. Ну, я потопал к машинам…
За домом, просматривающимся сквозь деревья, в укрытии стояли четыре «Студебеккера» с прицепленными к ним семидесятишестимиллиметровыми орудиями. Расчёты сидели в кузовах машин. Ни им, ни шофёрам не было видно, как разворачивается атака автоматчиков, и они, привыкшие за три года воины к своему нелёгкому солдатскому труду и выполняющие его так же обстоятельно и добросовестно, как исполняли бы обязанности рабочего или хлопкороба, спокойно ожидали команды капитана.
А ему было видно всё: просторный двор МТС с разбросанными по нему в беспорядке сельскохозяйственными машинами, чёрная змейка первой линии немецких окопов, мирные заснеженные скирды в чистом поле, маленькие фигурки автоматчиков. Издали всё это выглядело безобидно и мирно, можно было даже представить себе что-то вроде азартной детской игры в «Чапаева» или в «Казаки-разбойники». Но капитан был далёк от подобных ассоциаций – слишком хорошо, по собственному опыту знал он и серьёзность «игры», именуемой коротким и злым словом «война», и звериную ярость «разбойников» в зелёных немецких шинелях. И поэтому он напряжённо следил за атакой, мысленно отсчитывал секунды, когда пехотинцы добегут до условленного ориентира – трёх на отшибе стоящих скирд. Тогда его батарея в стремительном броске поддержит атаку автоматчиков.
Но тут картина изменилась. В торопливую перебранку автоматов вплелись тяжёлые, хлёсткие, размеренные удары «МГ», движущиеся по полю фигурки стали замирать – то одна, то другая, автоматчики залегли. Похоже, что атака захлёбывалась.
– Сволочь! – выругался капитан и, оторвав от глаз бинокль, зло крикнул в сторону машин: – Этот пулемёт на твоей совести, Ромашкин! – Он хотел добавить ещё что-то унизительное по адресу нерадивого наводчика, не сумевшего как следует подавить огневую точку противника, но сдержался и снова прильнул к биноклю.
– Слышь, Ромашкин, чего капитан говорит? – щупленький артиллерист в широкой, не по комплекции, шинели, сидящий в кузове «Студебеккера» на снарядном ящике, толкнул товарища локтем в бок.
Тот, продолжая копаться в своём вещмешке, поднял голову. Наушники его шапки были крепко подвязаны под подбородком.
– Чего тебе, Холодов?
– Капитан, говорю, слышишь, что сказал?
– А чего?
– «Чего, чего»! – передразнил Холодов. – Ты лопухи свои развяжи да подними вверх, тогда и узнаешь «чего». Закутался, как пленный фриц…
– За такие байки можно и по уху схлопотать! – Ромашкин распрямил свою широкоплечую фигуру. Стоя на коленях, он почти на голову возвышался над низеньким Холодовым. – Нашёл с какой мразью сравнивать! Тьфу! Если бы у тебя зуб скулу выламывал, посмотрел бы я на твои лопухи, на кого ты похож был.
– Да я ничего, – сник Холодов, – я понимаю…
– Молод ты ещё, чтобы всё понимать. Что комбат сказал?
– Пулемёт, говорит, заработал опять.
– Какой пулемёт?
– Ну который ты «уничтожил». А он, выходит, уцелел.
– Это уж дудки! – уверенно сказал Ромашкин, склоняясь к вещмешку. – То, что я трахнул, снова не оживёт! Ты, Холод, ещё первогодок в этих делах… Пушку, небось, до нашей батареи за километр с опаской обходил, а туда же, рассуждаешь…
– Я, что ли, рассуждаю? – обиделся Холодов. – Капитан сказал!
– О том и толкую, что своей головой рассуждать надо, а не дядиной, – снова поддел Ромашкин. – Капитан, конечно, человек умный, не тебе чета, но и ему не по фельдсвязи доложили, что это «мой» пулемёт заработал. А предполагать можно всякое, верно я говорю?
Со стоящей рядом машины на них неодобрительно покосился узкоглазый, как монгол, плотно влитый в аккуратную без складочки шинель, сержант Русанов – командир третьего орудия. Он уже жил напряжением боя, готов был каждой частицей своего существа откликнуться на команду «Огонь!», и поэтому его раздражало всё постороннее, не имеющее отношении к главному, что происходило за высокой насыпью железнодорожного полотна. Он перевёл взгляд на сержанта Мамедова – щеголеватого азербайджанца с пышными выхоленными бакенбардами, из-за которых Русанов в душе недолюбливал командира первого расчёта, хотя признавал и уважал его воинские таланты артиллериста.
Мамедов стоял, привалившись плечом к кабине, насвистывал себе под нос какой-то мотивчик и не слышал или делал вид, что не слышит, пикировки своих подчинённых. Скорее всего – делал вид, потому что, едва Ромашкин пробормотал: «Вот она, голубушка… сейчас мы…», – Мамедов перегнулся через голову Холодова и выдернул из руки Ромашкина флягу.
– Не положено!
– Зубы болят, сержант, спасу нет! – взмолился Ромашкин. – Я только прополощу во рту… Один глоточек!
– А-ат-ставить разговорчики! – певуче скомандовал Мамедов. – От зубной боли и от насморка ещё никто не умирал. Кончится бой – тогда и выпьешь свои наркомовские сто грамм.
– Откуда я знаю, что целым из боя вернусь? – не сдавался Ромашкин. – Может, паду смертью храбрых, тогда как?
– Тогда мы с Холодовым почтим данной флягой память славного героя, – белозубо улыбнулся Мамедов и поболтал флягой под ухом. – Опять у медсестры выклянчил?
– У сестрички Инны клянчить не надо, она человек понимающий, сочувствует больным, не то что иные некоторые…
– А ну – тихо! – сказал вдруг Мамедов и прислушался.
На соседней машине замер, вытянув шею, Русанов.
Они встретились взглядами.
– Танки? – негромко высказал предположение Мамедов.
Русанов коротко кивнул:
– Они!
Холодов встревоженно крутил головой, стараясь понять, где это командиры орудий увидели танки, но вокруг не было ничего. Лишь вдалеке, там, за железнодорожной насыпью, трескучая скороговорка автоматов и пулемётов перемежалась всплесками снарядных взрывов. Рёва танковых моторов, лязганья гусениц, то есть тех основных признаков, по которым Холодов умел распознавать танковую атаку, не слышалось, как он ни напрягал слух. Но опытное ухо бывалых артиллеристов обмануть было трудно. Они, так же как и Холодов, не видели танков, но слышали их зловещий голос именно в этих плескучих, характерных взрывах. И как невозможно на третий год войны спутать высокий гул моторов «ЯКа» и «Мессершмитта», так легко различаются по голосу свой и вражеский миномёт, так же просто Русанов и Мамедов определили, что стреляет не полевая артиллерия немцев, не самоходки, а именно танки. Скрытые танки, потому что не слышно было их подхода.
Понял это и Комеков. Понял ещё раньше своих сержантов, так как он видел разрывы снарядов. А автоматчики снова и снова поднимались в атаку, но капитану уже было ясно, что чёткий план наступления, детально разработанный штабистами, нарушен. Но ждать нельзя, надо немедленно выходить на боевые позиции, поддерживая огнём пехоту, вызывая на себя огонь немецких танков, чтобы автоматчики смогли сделать последний, решающий бросок.
– Заводить машины! – скомандовал он, бросил бинокль стоящему под сосной ординарцу и полез вниз со своего неудобного наблюдательного пункта. Зацепился рукавом кожанки за острый сук, с сердцем рванул и тяжело спрыгнул на землю.
– Батарея, вперёд!
Рявкнули, густо урча моторами, «Студебеккеры», высунули из-за дома свои плоско скошенные зелёные морды. Когда они вытянулись в колонну, капитан вскочил на подножку машины четвёртого расчёта.
– Рожковский, бери два орудия и жми на правый фланг! – приказал он своему помощнику. – Прямо через насыпь давайте! И с ходу – по фрицам!
– Какие расчёты брать?
– Лучшие бери! Мамедова бери! И Русанова! А я с остальными через переезд махну, с левого фланга выскочим. Ну, трогай!
Лейтенант открыл было рот, собираясь что-то сказать, но капитан уже торопил своего шофёра, и тот, махнув рукой, тоже встал на подножку машины первого расчёта.
– Газуй, Карабеков! Прямо на железнодорожную насыпь держи и смотри мне, чтоб не сели!.. Мамедов, держитесь там!
Машина Русанова, не дожидаясь головной, уже натужно ревела впереди.
Дорога была плохой, вся в колдобинах и выбоинах, машины шли медленно, и комбат нервничал, потому что путь через железнодорожный переезд был длиннее того, который предстояло преодолеть машинам Рожкоз-ского, а капитан рассчитывал ударить по немцам с правого и левого флангов одновременно. Бой шёл тяжёлый, это было понятно и по ожесточённой пальбе, и по срывающимся крикам атакующих, и по всё более частому тявканью танковых пушек. Нужно было спешить, спешить изо всех сил.
– Быстрее! Быстрее давай! – торопил он шофёра, одним глазом глядя на дорогу, а другим пытаясь держать в поле зрения машины Рожковского. Они на полной скорости подходили к насыпи. Когда он взглянул на них через несколько секунд, машины уже перевалили через полотно железной дороги. «Молодцы, ребята!» – одобрительно подумал капитан и снова заторопил шофёра:
– Газуй, газуй сильнее!
Автоматчики подошли уже вплотную к окопам противника и лежали, набираясь сил перед новой атакой, когда беглым огнём заговорило орудие Русанова. Замаскированное между копнами сена, оно било прямо по брустверам окопов, сея среди фашистов смерть и панику. Это была очень рискованная стрельба, требовавшая от наводчика незаурядного мастерства, так как совсем рядом с ними прижалась к земле цепь атакующих, и малейшая неточность могла привести к тому, что огневой шквал накроет своих же.
Однако сержант Русанов не зря считался лучшим наводчиком в полку, не случайно носил боевой орден на своей груди. Он сам прильнул к панораме орудия, и его узкие, монгольского разреза глаза, привыкшие в сибирской чащобе ловить на мушку малокалиберки белку, так же уверенно и спокойно вели перекрестье панорамы по линии вражеских окопов, и там часто, словно стреляло не одно, а целых три орудия, взлетали чёрно-багровые фонтаны взрывов. Скорость стрельбы была тоже одной из примечательных особенностей русановского расчёта.
Услышав голос русановской пушки, капитан Коме-ков вторично подумал: «Молодцы, ребята!», – имея в виду оба расчёта, с которыми ушёл Рожковский. Но тут же сообразил, что ведёт беглый огонь только одно орудие, судя по частоте выстрелов, именно орудие третьего расчёта. А где же Мамедов, почему он молчит?
Машина запрыгала по настилу переезда, и перед капитаном открылось поле боя: возникающие и опадающие кустики взрывов, поднявшиеся в атаку автоматчики, бегущие немцы, движущийся наискосок танк. Секунду спустя он определил, откуда бьёт пушка Русанова, и мысленно похвалил командира орудия, хотя иначе и быть не могло: в бою Русанов никогда не горячился, не лез на рожон, использовал любое укрытие. И хотя копны сена являлись невесть каким укрытием, они всё же мешали танку вести прицельную стрельбу по огневой позиции артиллеристов. Да, танк, кажется, и не замечал опасности, он шёл к окопам, в которые уже прыгали первые автоматчики, выбивая остатки немцев.
Увидел капитан и машину первого расчёта. Она стояла, нелепо развернувшись боком, на полпути между насыпью и МТС, пушка была отцеплена, возле неё копошились артиллеристы. «Мамедов, ну что ж ты, Мамедов! – чуть было не закричал капитан. – Вперёд надо, вперёд, какого чёрта ты сел как чирей на ровном месте!» Он чуть было не приказал своему шофёру свернуть направо, но только скрипнул зубами.
– Дави на всю железку напрямик! Режь дорогу по полю!
Машину затрясло на кочках. В десятке метров перед ней прямо на ходу движения вдруг громыхнул взрыв снаряда, почти сразу же рвануло ближе и левее. Шофёр, клещом вцепившийся в баранку, крутанул руль, выходя из-под обстрела, но капитан, сунув руку в окошко дверцы, выровнял машину, цедя сквозь зубы:
– Прямо держи, герой, прямо!..
– Накроют, товарищ капитан! – испуганно оправдывался шофёр. Он сразу взмок, крупные капли пота катились по лицу, он сдувал их с кончика носа, боясь хоть на мгновение отпустить баранку.
– Газу, газу давай! – требовательно сказал капитан. – Вилять станем – скорей накроют…
Машина опять козлом заскакала по колдобинам поля. То и дело больно стукая трубками окуляров в переносье и надбровные дуги, капитан пытался углядеть, что же там творится возле пушки Мамедова, но тряска была такая, что разглядеть было невозможно ничего. И он не увидел даже, как ещё один танк с чёрным крестом на борту скользнул в неглубокую балочку, обходя с тыла огневую позицию Русанова.
Не видел этого и Русанов. Его внимание было приковано к тому танку, который, добравшись наконец до окопов, вилял по их линии, рыскал то в одну, то в другую сторону. «Я тебе порыскаю, гад!» – с холодной яростью подумал Русанов, догадавшись, что танк пытается разрушить окопы вместе с засевшими в них автоматчиками. И скомандовал:
– Выкатывай на прямую наводку!
Расчёт стал выталкивать пушку из-за скирд, а Русанов шёл, не отрывая глаз от панорамы, крутил маховичок наводки, отпуская ствол орудия.
– Стой!
За этой командой должен был прозвучать выстрел. Но кто-то из засевших в окопах пехотинцев удачно швырнул под танк связку гранат, и тот сразу остановился, густо задымил.
– Так тебе, фашисту! – удовлетворённо сказал Русанов, в глубине души досадующий, что кто-то опередил его верный выстрел. – Огонь по отступающему противнику!
Но тут испуганно закричали:
– Танки!
– Танки с тыла!
Из овражка, задрав в небо тонкий ствол пушки, выбирался немецкий танк.
– Разворачивай орудие! – спокойно дал команду Русанов. – Подносчик, два бронебойных и подкалиберный!
По всей видимости, машина нацеливалась на расчёт Мамедова, но, заметив неожиданно возникшего противника, круто повернулась на одной гусенице, уводя от прямой наводки русановского орудия борт и подставляя лобовую броню. Задвигалась башня, пополз вниз ствол пушки, клюнул острым и красным жалом пламени.
Туго ахнуло сзади. Горячий вихрь сорвал с Русанова шапку, швырнул сержанта на казённик орудия. Зажимая рукой рассечённый при ударе лоб, чтобы кровь не заливала глаза, тот крикнул замешкавшемуся подносчику:
– Снаряд давай!
Оглянулся и увидел, что подносчик уткнулся лицом в землю, прижимая обеими руками к груди не донесённый до пушки снаряд. Русанов выхватил его из холодеющих рук подносчика, сунул в патронник, заряжающий мягко клацнул затвором.
Немец выстрелил снова, но, на какую-то долю секунды опережая ею, сзади танка громыхнул взрыв. «Мамедов бьёт, – непроизвольно отметил про себя Русанов, – только почему он, чудак, фугасным бьёт?»
Он не знал, что это поспешил ему на помощь наводчик Ромашкин, не дожидаясь приказа своего командира орудия.
Когда мотор «Студебеккера», тянувшего пушку Мамедова, как всегда неожиданно заглох, едва только машина перевалила через железнодорожную насыпь, третий расчёт уже вёл огонь. Досадуя, что не поехал на машине Русанова, лейтенант Рожковский клял всех и вся: и фрицев, засевших в неудобном для наступления месте, и ленд-лиз, по которому богоданные союзнички сплавляют дрековскую технику, и комбата, подсунувшего ему капризную машину, и шофёра Карабекова, которому впору волам или этим, как их там, верблюдам хвосты крутить, а не управлять боевой техникой. Он попытался помочь шофёру, безнадёжно копавшемуся во внутренностях «Студебеккера». Но разбирался лейтенант в моторах весьма дилетантски, поэтому больше мешал, чем помогал, и нервничающий Карабеков посоветовал ему наконец покурить в кабине и не толкать под локоть.
Как раз в этот момент сержант Мамедов, понимающий, как дорога каждая минута, попросил разрешения занять огневую позицию. Рожковский напоследок ругнул самого себя за нерасторопность и велел отцеплять орудие. Огневики быстренько управились с привычной несложной операцией, выкатили семидесятишестимиллиметровку на удобную позицию, развели станины.
– По переднему краю фашистов… огонь! – скомандовал Мамедов.
И Ромашкин, втайне завидуя дерзкой точности огня Русанова, стал бить фугасными по левому флангу окопов, а когда немцы выскочили из укрытий и побежали, перенёс огонь вглубь. Это было очень в пору и до того удачно, что артиллеристы, с которыми ехал капитан Комеков, закричали «ура». Ромашкин, естественно, слышать этого не мог, однако после каждого выстрела сам себя нахваливал: «Ай, да Ромашкин! Ай, да наводчик!»
Немецкий танк, выскочивший из балки на орудие Русанова, первым заметил Холодов. А Ромашкин первым сообразил, какая опасность угрожает третьему расчёту, и потому, ни на миг не задумываясь, не дожидаясь команды развернуть орудие, повёл ствол пушки до отказа вправо и саданул по «панцеру» фугасным, предназначенным для немецких пехотинцев, в панике бегущих по полю. Оплошность заметили все трое – и Ромашкин, и Мамедов, и Рожковский и почти одновременно все закричали:
– Бронебойный!
И Мамедов добавил:
– Развернуть орудие!
На это ушли драгоценные секунды. Правда, потом даже самоуверенный Ромашкин чистосердечно признавался, что вряд ли из орудия, находящегося в первоначальном положении, он сумел бы так удачно попасть в танк. Но секунды ушли, и фашист успел выстрелить ещё раз, прежде чем уткнуться стволом пушки в землю и задымить.
– Ур-ра! – в восторге завопил Холодов. – Подбили! Молодец, Ромашкин!..
Но его никто не поддержал, а Ромашкин, тяжело, с надрывом выругался, смаху ударил кулаком по казённику орудия. Холодов недоумённо оглядел сумрачные лица товарищей, посмотрел по направлению их взгляда и увидел, что возле пушки Русанова никто не двигается и не суетится, а сама пушка не стоит, как положено, а косо лежит на боку, приподняв одно колесо. И Холодов почувствовал, как у него сжимается сердце и на глазах выступают слёзы.
– Ладно, ладно, малыш, – ободряюще похлопал его по плечу Ромашкин, не замечая, как у самого прыгают и кривятся губы. – На войне, как на войне, без жертв не бывает…
Горевать было некогда, надо воевать, тем более что на поле появились ещё три танка, и сержант Мамедов скомандовал открыть по ним огонь.
По приказу комбата в бой с танками вступило и орудие второго расчёта, а сам комбат с четвёртой пушкой помчался прямо ко двору МТС, из зданий которой автоматчики выбивали последних замешкавшихся немцев.
Они выскочили с целины на дорогу, обсаженную поредевшими, изувеченными взрывами тополями. «Студебеккер» завизжал тормозными колодками – дорога впереди была перекрыта срубленными деревьями и двумя сцепленными друг с другом веялками.
– Расчищать завал! – приказал капитан, соскакивая с подножки автомашины.
Солдаты с трудом поспевали за своим длинноногим комбатом. Они азартно, помогая криками и шуточками, принялись растаскивать заграждение, сваливая стволы деревьев в кювет.
– Веялки осторожно, не калечьте сельхозинвентарь, – сказал капитан, поднимая к глазам бинокль.
Пушка Мамедова била размеренно и чётко. Дымил уже третий танк, подбитый, по всей видимости, орудием второго расчёта. Два оставшихся танка удирали во все лопатки. А на огневой Русанова было безжизненно тихо и спокойно. «Неужели все погибли? – подумал Комеков. – Нет, не может быть, чтобы Русанов погиб! Вероятно, тяжело ранен…» Думать так было, конечно, легче.
Во дворе МТС Комекова встретил знакомый лейтенант – командир автоматчиков. На груди у него болтался трофейный автомат, телогрейка, брюки, руки и лицо были перемазаны глиной пополам с кровью, лоб стягивала грязная, наспех сделанная повязка, но глаза лейтенанта улыбались.
– Во время подоспел, капитан, спасибо, – сиплым, сорванным от команд голосом поблагодарил он. – Танков этих, понимаешь, не ожидали мы здесь, врасплох они нас застукали. Курнуть не найдётся, а то всё в глотке спеклось?
– Может, хлебнёшь с устатку? – предложил капитан. – Мирошниченко!
Ординарец, неотступно следовавший за комбатом, сообразительно протянул флягу. Лейтенант вожделенно покосился на неё, потряс головой:
– Нет, воздержусь, фрицы ещё могут в контратаку пойти, а я до чёртиков устал, с одного глотка захмелею. Вот утрясётся всё – приходи, тогда не откажусь… Дали нам джазу эти чёртовы тапки, чуть всю обедню не испортили.
– Разведка зевнула?
– Леший его знает, кто тут виноват, – ответил лейтенант, мусоля языком свёрнутую цигарку, – а только половину роты положил я здесь. Может, и все не поднялись бы, если б не твои «боги войны». Во-он тот, что за копнами сховался, больше всех нам помог. Здорово стреляет, стервец, – чисто снайпер, а не артиллерист. Ты его к ордену представь. Если надо, я рапорт напишу. Ты где собираешься располагаться? Мы по плану операции здесь закрепляемся…
Лейтенант говорил, а у капитана всё больше и больше портилось настроение. Мысль о Русанове, которого так расхваливал лейтенант, не давала покоя. Капитан хмуро окинул взглядом просторный двор МТС, разбросанные по нему в беспорядке и покорёженные сельскохозяйственные машины.
– Здесь позицию будем держать, – решил он. – Мирошниченко, передай командиру четвёртого, пусть разбирают вон там забор, вкатывают орудие и маскируют. А сам мотай к Мамедову, выясни, на чём они там споткнулись. Пусть немедленно подтягиваются сюда. И что там у Русанова, тоже узнай.
Обвешанные телефонными аппаратами, катушками, стереотрубами, подошли бойцы взвода управления во главе со своим командиром – молоденьким, недавно присланным из училища лейтенантом. У него ещё не выветрилась строгая дисциплина училища, и он то и дело покрикивает на своих бойцов: «Подтянись!.. Ногу, ногу!.. Раз-два… раз-два…»







