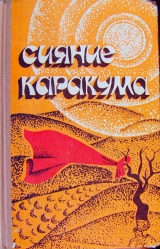
Текст книги "Сияние Каракума (сборник)"
Автор книги: Аллаберды Хаидов
Соавторы: Атагельды Караев,Агагельды Алланазаров,Араб Курбанов,Ходжанепес Меляев,Сейиднияз Атаев,Реджеп Алланазаров,Ата Дурдыев,Курбандурды Курбансахатов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 32 страниц)
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Новый год был годом больших перемен. Главные из них – успехи наших войск, освободивших Харьков, Ростов, Северный Кавказ, разгромивших окружённую у Сталинграда немецкую группировку.
Как от выглянувшего из-за туч солнца светлеет тёмная земля, так озарились надеждой лица людей. Мы устроили настоящий той для наших маленьких ленинградцев, когда узнали о прорыве ленинградской блокады, и все ходили под впечатлением праздничного настроения. Даже старики бороды поглаживали, будто курбан-байрам[12]12
Курбан-байрам – один из главных мусульманских праздников.
[Закрыть]. А Тойли целую демонстрацию школьников затеял – у него пополнился штат учителей, было кому с плакатами и транспарантами возиться. Кстати, одна из новых учительниц – дочка Газака-ага, Шекер – оказалась неплохим художником, очень ловко и быстро изображала ободранного и босоногого Гитлера с усиками.
Были и другие события, не столь радостные. Вспоминать о них тяжело даже спустя много лет, хотя вспомнить придётся, ибо они – как слово в песне, которое, как известно, не выкинешь. Но – рассказывать лучше по порядку.
Меня избрали делегатом на слёт молодых женщин и девушек Туркменистана. Слёт проходил в Ашхабаде. Светланка очень не хотела оставаться дома одна, куксилась, ходила за мной как ниткой привязанная и всё канючила: «Возьми с собой!.. Ну что тебе стоит, мама! Возьми! Или хоть Еламанчика оставь!..» Но его-то я и не могла оставить, так как ещё не отняла от груди.
Кто останется равнодушным, возвращаясь в места, где прошли его детство и юность? Разве без сердечного трепета ступишь с самолётного трапа на землю, что была колыбелью твоей, и любовью твоей, и приютила тех, кто дал тебе жизнь?
Воспользовавшись первой же свободной минутой, я наняла фаэтон и поехала к тёте Доре. Дома у них сидел один Илюшка. Обложенный тетрадями и книгами, он мужественно страдал, осиливая школьную премудрость. Я поздоровалась и спросила, где тётя Дора.
– Мама на работе, на швейной фабрике, – ответил он, глядя на меня без особого интереса, но доброжелательно, как на человека, который хоть временно избавил его от мук. Он фактически был племянником тёти Доры. Но когда его родители разошлись и разъехались в разные стороны, бросив сына на произвол судьбы, он жил у тётки и называл её мамой
– Какую это ты книжку под столом прячешь? – спросила я.
– «Следопыта» у Карика на три дня выпросил, а мама за уроки гоняет, – доверительно признался он, присматриваясь.
– Не узнаёшь меня, что ли, Илья?
– По-моему, узнаю. Аня, да?
Теперь он окончательно уверился, что уроки можно отложить, испустил воинственный клич ирокезов и заплясал вокруг меня. Еламанчик проснулся и смешно косил вниз глазёнками, пытаясь рассмотреть, что это там так шумит.
Мы с Илюшкой вдоволь наговорились, истопили печь, напились чаю с невероятно вкусными сухариками – фирменным секретом тёти Доры. Потом пришла она сама – и было всё: объятия с поцелуями, угощения и воспоминания, воспоминания без конца. Расстроились мы, понятно, обе, дружно хлюпали носами, так же дружно хохотали, если вспоминалось весёлое, она отчаянно жестикулировала и щедро посыпала меня пеплом самокрутки, а сообразительный Илюшка удрал из дому и дочитывал где-то своего «Следопыта».
На слёте я не выступала, но слушала, что говорят другие. В принципе речь шла о том, чтобы активнее использовать женскую молодёжь на ответственных постах и должностях. Называли много имён девушек-трактористок, комбайнёрок, шофёров. Нашу область поругали немножко за невыполнение плана подготовки женщин-трактористок.
Ашхабад проводил нас на удивление солнечной и тёплой погодой. Тётя Дора сказала: «При малейшей возможности перебирайся сюда. С твоими данными мы тебе быстро работу подберём».
В Ташаузе было зябко, сыпал мелкий мокрый снег. Хорошо ещё что наши сельские за семенами хлопчатника приехали. С ними я и добралась до села, едва не простудив Еламанчика.
Говорят, предчувствие свойственно женщине. Но я, честное слово, ничего не предчувствовала, когда по пути в сельсовет заглянула. Просто так заглянула, по привычке, не смогла мимо пройти. Меня встретили хмурые лица Кемала-ага, Пошчи-почтальона и Тойли. На моё приветствие едва ответили. Я увидела продолговатую бумажку на столе и сразу поняла: похоронка! На кого?
– Погиб Кепбан, – сказал мне Тойли. И быстро подставил табуретку, потому что я могла на пол сесть: ноги подкосились.
Одновременно с похоронкой пришло письмо от Баллы, адресованное не Патьме-эдже, а Кандыму-ага, и потому председатель велел прочитать его, тем более что оно намокло от снега и расклеилось само. Баллы писал:
«…Мы с Кепбаном лежали в одном окопе и дали клятву сообщить домой, если с одним из нас что-нибудь случится. Потом пошли в атаку. Мы бежали рядом, а по нас очень сильно стреляли из автоматов и миномётов. Все бойцы залегли, командир роты кричал и ругался, из нагана стрелял, но никто головы поднять не мог. Тогда Кепбан сказал мне: «Я встану и пойду вперёд, потому что мне стыдно». «Тебя сразу убьют, – уговаривал я, – пусть все побегут, тогда и мы вместе со всеми». Но он не послушался. «Меня всю жизнь будет совесть мучить, – сказал он. – Я жить не смогу, считая себя трусом. Как я любимой девушке в глаза посмотрю?» Чтобы оттянуть время, я спросил, кто его любимая девушка. Он ответил: «Айджемал! Ей передашь мой привет!», поднялся в полный рост и закричал: «Ура!». Мы тоже закричали и побежали за ним. Но он бежал первым и пуля досталась ему, хотя я всего на полшага отставал. Лучше бы меня убило, чем его! У меня хоть девушки нет…»
Я слушала и безмолвно плакала, а в сознании болью билось: «Бедная Айджемал, вот и ты наконец дождалась своего привета… Когда-то соседка говорила мне, что, покидая здешний мир, мы во мгновение ока догоняем тех, кто ушёл отсюда семь тысяч лет назад. Наверно, твой Кепбан уже догнал тебя, теперь вам хорошо вдвоём, никто вас больше не разлучит…»
Во дворе свёкра бурлили два котла – готовилась поминальная трапеза. Из дома доносились стенания женщин и жалобные причитания свекрови. Вся одежда Кепбана была вывернута наизнанку и развешана на вбитых в стену гвоздях – так требовал древний обычай.
Я потихоньку подсела к женщинам. Они кончили плакать и стали вспоминать покойного – вспоминали только хорошее, чтобы Кепбан не тревожился на своей сумеречной дороге «в никуда». В комнату зашли ещё две старухи, и женщины снова заголосили. А за окном сгущалась тьма, и капли дождя тяжело ударяли в стёкла и ползли разводами, похожими на следы слёз…
Не успела ещё притупиться острота потери, как однажды в контору ворвался Володя, громко крича:
– Тётя Аня!.. Тётя Аня!..
– Что там ещё? – прошептала я мёртвыми губами, они мне совершенно не повиновались. – Что там?..
У меня не было сил встать, хотя я отчаянно цеплялась за крышку стола. И лицо, наверно, нехорошее было, потому что Володя заторопился:
– Да вы не пугайтесь, тётя Аня!.. Муж ваш приехал! Ничего страшного, правда? Дядя Паша сказал, чтобы я бежал и сообщил вам. Я и побежал. Я теперь совсем не хромаю, самого Дурдышку обгоняю!
От такой новости я, честно говоря, не столько обрадовалась, сколько растерялась, – слишком уж неожиданно всё произошло, без всякого предупреждения, а в неожиданности всегда другая неожиданность скрывается, чаще всего – не слишком приятная. Но что бы я там ни измышляла, оставалось главное: Тархан вернулся! Мой Тархан!
Я метнулась в ясли, схватила Еламанчика – сына в первую очередь показать надо. Нянечку – это была жена Мялика – попросила прихватить с собой Светланку из детсада. И помчалась к дому.
Тархан сидел в окружении родичей и степенных аксакалов. При виде меня он приподнялся было навстречу, но тут же спохватился и сделал вид, что усаживается поудобнее. Мне бросились в глаза костыли, прислонённые к стене за его спиной, я увидела подвёрнутую левую штанину – и вспомнила запах его последнего письма: пахло йодоформом, это я только сейчас поняла.
Я подала Тархану сына. Еламапчик охотно пошёл к нему на руки. Кто-то произнёс:
– Чтоб не сглазить, большой джигит вырос.
Это были первые слова, прозвучавшие в комнате после моего прихода. Они восстановили нить прерванной беседы, и она потекла по-восточному неторопливо, уважительно, обстоятельно, когда каждая фраза отделяется от другой паузой, сдабривается двумя-тремя глотками чая.
Я туркменка, воспитывалась в туркменской семье, жила и работала среди колхозников-туркмеи, но бог свидетель, как я ненавидела порой эти обветшалые, трухлые, как источенные термитами, обычаи, не несущие зачастую ни малейшего смысла, кроме освящённой веками традиции. Сейчас они отнимали у меня право жены, право счастливой женщины, радующейся чудесному возвращению любимого мужа. Они отводили мне одно из самых последних мест в этой встрече! И я сидела у порога несчастная и обездоленная, глотала слёзы, а они сочились и сочились, как чай из треснувшей пиалы. В дверь просунулась Светланкина мордашка, но мне некому было её показывать, и она, словно поняв обстановку, исчезла. Маленькие, они иной раз понятливее нас, взрослых.
К вечеру гостей стало меньше. Они разместились в кибитке стариков. А я, накормив Еламанчика и поручив его заботам Светы, стала прибирать посуду. Дочка вела себя тихо, неприметно, как мышонок, вся она была безмолвным вопросительным знаком, но ответа у меня пока ещё не было.
Вошёл Тархан. Лицо его раскраснелось от выпитого вина, мутные и злые глаза косили, чего я прежде никогда не замечала. Да ведь я и не видела его таким прежде – он был постоянно весел и к водке не прикасался.
Он добрался до сундучка, сел, сложив костыли на коленях.
– Благополучно ли вернулся, Тархан? – произнесла я положенную фразу, страстно ненавидя её в душе.
– Гм… вернулся! – буркнул он.
У меня не было сил задавать традиционных вопросов и я спросила прямо:
– Что с тобой случилось? Три часа назад ты был одним, сейчас стал совсем иным, смотришь на меня, как на своего личного врага, как… на фашиста! Чем я провинилась перед тобой, что ты ни единого человеческого слова для встречи найти не можешь? Оговорили меня, да?
– А ты надеялась молчком в кустах отсидеться? – ощерился он. – Или, может, надеялась, что я вообще не вернусь?
Если бы ты знал, как я мучилась… – начала я.
Он не дал мне договорить.
– От мучений из дому сбежала, да? Счастье своё упустить побоялась, да?
-– Выгнали меня, пойми ты! Как собаку выгнали, ночью!
– Не ври, всё знаю! Сама потаскушкой стала и Айджемал потащила за собой? У, подлая! – Он скрипнул зубами. Светланка проворно юркнула за сложенные в углу комнаты одеяла. – Опозорила дом наш… родителей опозорила… Я им не сказал, язык не повернулся сказать… Но ведь я-то знаю, что и пальцем к Айджемал не прикасался! Эх, Аня, Аня, змеиный твой язык… Слово давала, клятвой клялась… Где оно, слово твоё? Почему не нашла пути к сердцам немощных стариков, а путь к грязи – нашла? Знать бы прежде, что сегодня узнал… э-эх!
– Ничего ты не знаешь! – в сердцах бросила я. – Болтовню слушаешь, сплетни всякие… А я-то, дура, ждала тебя, думала: сыну обрадуется, думала: дочку приласкает…
– Не знаю, чьи они, эти сын и дочка, – хлестнул он меня злой фразой.
И я как-то сразу успокоилась. Может, просто занемела, как рука, которая долго в неудобном положении находилась.
– Это твоё последнее слово? – спросила я.
– Последнее! – отрезал он. – Беги своему Тойли-Майли жалуйся, он – посочувствует, он – утешит… хе!
– Дурак ты, – сказала я, – болтаешь, как сварливая баба с испугу.
Он угрожающе приподнялся с сундучка.
– Что-о?.. А ну повтори!
– Иди проспись, – посоветовала я, – а то залил глаза и куражишься. Потолкуем на трезвую голову, когда мозги от сплетен проветришь.
– Так, значит?!.
Я не ожидала, что у него хватит наглости ударить меня. Но он ударил. Со всего маху. Еле на ногах устояла, а в голове звон пошёл и посуда из рук на пол посыпалась.
– Ма-а-ама! – пронзительно закричала Светланка.
Да, в семи снах не видела я такой встречи, как эта.
Всего ждала, самого страшного и непоправимого, не ждала лишь, что вместо мужа предстанет в его облике чужой и дурной человек. Даже обиды в душе не было. Пустота была – гулкая и тёмная, как в кяризе[13]13
Кяриз – подземная галерея, точнее – система галерей и колодцев, через которые выводятся на поверхность грунтовые воды.
[Закрыть].
Я быстро собрала Еламанчика и позвала девочку:
– Идём отсюда.
Светланка взяла меня за руку.
– Мама, почему дядя ударил тебя? – спросила она. – Он плохой дядя?
Я ничего не ответила. Неизвестно почему, но, раздумывая над случившимся, я пришла к выводу, что нам с Тарханом не жить и мне надо немедленно уезжать отсюда. В Ашхабад, к тёте Доре. Друзей у меня много, и в обиду они не дадут. И всё же никакие друзья, никакие подпорки не смогут мне помочь сейчас. Та душевная рана, которую так просто, походя нанёс, мне Тархан, слишком болезненна, чтобы с ходу излечить её добрыми словами, участием посторонних людей. Со временем, конечно, растает в моей памяти слепой со зрячими глазами Тархан, сам вливший яд в свою пищу, растают мрачные старики Тувак-эдже, и Кандым-ага, – и сердце моё перестанет метаться и тосковать…
Кейик-эдже подметала возле своего дома.
– Добрый вечер, – поздоровалась я.
Она приостановилась, пытаясь разглядеть меня в густеющих сумерках.
– Уезжаю от вас, Кейик-эдже.
– Поезжай, поезжай, дочка, – одобрила она; лица её я не видела, но знала, что на нём – неизменная улыбка. – Поезжайте с богом. Слыхала о твоей радости, дождалась ты своей доли. В райцентре будете работать или в городе? Он ведь у тебя заслуженный воин, с медалью, говорят, вернулся.
– Одна я уезжаю, Кейик-эдже. В Ашхабад.
У неё из рук выпал веник.
– Ну-ка, молодая, заходи в дом! – тоном, не допускающим пререканий, велела она. – Отец! Ай, отец!
– Мне собираться надо… чемодан… – попыталась заупрямиться я. Никакого желания не было в рапу пальцы совать.
Кейик-эдже довольно чувствительно подтолкнула меня в спину.
– Ссора мужа с женой – дождь весенний! От него трава в рост идёт и тюльпаны зацветают! Иди, иди… всё равно не отпущу, пока всё как на духу не выложишь. А потом решим. Верно говорю, отец?
– Верно, – согласился Пошчи-почтальон.
– Не надо ничего решать, милая моя Кейик-эдже! – попросила я. – Пусть ихний дом с мольбой в ноги мне упадёт – я порога его не переступлю! Пусть свёкор со свекровью сулятся одним мёдом кормить, топлёное масло в нос наливать – не подойду к ним!
– Это серьёзно, мать, а? – озабоченно сказал Пошчи-почтальон. – Тащи-ка чай да послушаем, что там стряслось.
– Мама, за что тот дядя ударил тебя? – снова настойчиво спросила Светланка.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Кемал-ага не отпустил меня в Ашхабад. «Не столь мы богаты, чтобы кадрами разбрасываться, – заявил он. – Звонил в райком, звонил в райисполком – меня там поддерживают. Работой тебя обеспечат, жильём обеспечат, детишек твоих определят куда следует. Мы тебя не обижали, и ты нас отказом не обижай». Да я и не отказывалась. Втихомолку радовалась, что именно так дело обернулось. Прикипело моё сердце к здешним местам да и семейная жизнь не игрушка – так запросто даже сломанную не выбросишь. Кажется, оборваны и обрублены нити, а всё на что-то надеешься, чего-то ждёшь.
В райцентре я закончила краткосрочные курсы учителей и стала работать в школе уже на вполне законном основании. С кадрами было действительно не густо, не зря Кемал-ага беспокоился, – и меня дополнительно определили в нарсуд, секретарём. Отказываться я не привыкла, хоть и очень неприятной оказалась должность – гадость всякую на бумагу записывать. Еламанчик немного прихварывал, и я пока не отдавала его в ясли – бабушка соседская присматривала. Зато Светланка была в круглосуточном детсаде. С ней что-то произошло после дурацкой выходки Тархана, она стала немножко сторониться меня. Я надеялась, что со временем всё войдёт в норму.
Как-то я поехала с учениками в подшефный колхоз. Там мы сушили дыни, которые потом шли на фронт, в госпитали, для раненых бойцов.
Вернулись поздно. Нянька Еламана встретила меня бестолковыми причитаниями:
– Вах, Алма-джан!.. Вах, Алма-джан, горе мне!..
Никак не могла я взять в толк, что случилось. Оказалось, пропал Еламанчик. Играл во дворе, калитка заперта была, нянька отлучилась буквально на одну минуту, а он взял и пропал, непонятно как отперев калитку.
– Не осталось двери, в которую не стучалась бы, разыскивая! – стонала она. – Человека не осталось, у которого не спрашивала о ягнёночке нашем! Вах, горе мне, горе!
Нетрудно представить моё состояние – трудно словами его передать. Я обегала весь райцентр, по несколько раз заходила к знакомым, лазала, как шальная, по задворкам и арыкам. В милиции сказали, что примут все меры, бабушка, мол, даже фотокарточку пропавшего мальчика принесла, но пока в отделении один дежурный, остальные на областном совещании.
Я была сама не своя, ночь напролёт по улицам пробродила. У пас болтали, будто есть такие, которые маленьких детей для страшных дел воруют.
Утром злополучная бабушка привела двух своих сверстников с бородами. Они посовещались и определили, что мальчик утонул в арыке. Час от часу не легче!
Мы взяли небольшой казан, пустили его в магистральный арык вверх дном. Где лежит утопленник, там казан и остановится. Я шла со стариками вся заледеневшая от ужаса. Но казан просто-напросто застрял на водоразделе. Тогда один из стариков сказал:
– В воде мальчика нет.
А второй подумал и спросил:
– В доме отца его искали?
Господи, да как же я забыть могла, что недавно Тархана встретила в райцентре! Такими тоскливыми глазами он на Еламанчика посмотрел! А сам с какой-то женщиной шёл – симпатичная, молодая, но очень уж сильно накрашенная. И юбка – колени видать.
– Это Машка, – сразу установила бабушка, выслушав мои бессвязные догадки. – Машка… буфетчица наша… лахудра намалёванная…
Мы нашли его в доме буфетчицы. Самой хозяйки не оказалось. Тархан пытался развлекать сына. Но тот выглядел испуганным, лицо заплаканное было, и он сразу ко мне кинулся, как только увидел. Я не стала при посторонних стыдить Тархана. Он был какой-то помятый, вроде залежалой одежды, серый, неухоженный, на лбу – огромный багровый синяк. Бормотал что-то в своё оправдание…
Прошло несколько дней.
Во время перерыва судебного заседания меня позвали к телефону.
– Зайди, – попросил секретарь райкома.
Он расспросил меня о житье-бытье, о планах на будущее, передал две огромные дыни.
– В Ходжакуммете был насчёт посевной, – пояснил он. – Это Кемал гостинец шлёт тебе и ребятишкам твоим. Грозился сам заехать, когда малость освободится.
– Спасибо, – сказала я, – Кемал-ага всегда ко мне как отец родной относился, мне даже неудобно, что ничем не могу отблагодарить его.
– Кемал старый коммунист. То, что ты работаешь честно, с полной отдачей, – самая лучшая благодарность для него.
Я ещё раз поблагодарила и справилась о здоровье Пошчи-почтальона.
– Всё хворает, – ответил секретарь. – Хворает, а в больницу не хочет ехать. Плохо ты с ним агитационную работу в своё время вела.
– Да он Кейик-эдже боится надолго оставить одну, – пошутила я.
– Неужто ревнует, старая кочерыжка? – поддержал меня секретарь.
Мы посмеялись. Потом он сказал:
– Насчёт юриспруденции что думаешь?
– Ничего не думаю, – проговорила я, – не нравится мне юриспруденция ваша, всё время руки помыть хочется. С мылом.
– Ишь ты, чистюля какая! – сказал секретарь. – А нам, понимаешь, кадры нужны. Я уже и с судьёй толковал – он тебе книжечки нужные подберёт, учебники, поможет к экзаменам подготовиться. Словом, райком даёт тебе рекомендацию в вуз, на юрфак.
– Так я же беспартийная, – еле слышно пробормотала я.
– Ничего, – ответил он, – мы тебе и беспартийной верим, анкета у тебя что надо.
– Подумать можно? – спросила я.
– Думай, – разрешил он, – только хочется, чтобы ты уразумела всю серьёзность нашего разговора.
Это было днём. А вечером пришёл Тархан. От него попахивало спиртным, однако глаза были ясными, не пьяными. От предложенного чая он отказался и попросил разрешения закурить. Я спровадила Светланку и Еламанчика погулять во дворе, поставила на стол блюдечко вместо пепельницы.
– Кури.
Он курил, покашливал, вытирая пот с лица платком далеко не первой свежести.
– Чего ж она не смотрит за тобой? – упрекнула я. – Давай платок, выстираю.
Он покраснел до того, что синяк его перестал быть заметным, скомкал в кулаке этот жалкий, грязный платочек.
– Ошибся я, Аня…
– Неужели? – сделала я удивлённые глаза. – Вот новость-то приятная!
– Не иронизируй, – тихо попросил он. – Не всегда всё от нас зависит.
– Всегда! – жёстко произнесла я. – Всегда! Тебе, учителю, не стыдно с таким синяком на лице? Пил бы меньше.
– Это не по пьянке, – покачал он головой, – это дедушка Юсуп-ага заходил к нам… когда ты уехала. С того и перебрался я в райцентр. Какими-то не такими стали люди в селе… смотрят на тебя – будто чумную крысу сторонятся… будто ударить хотят. – Он потрогал синяк.
– Не нагоняй страхов на себя, – сказала я, – люди в селе прекрасные. Но как же ты решился своих обожаемых родителей покинуть?
– Мама поживёт пока одна… потом решим. А отец умер. Не слыхала?
– До нас не все слухи доходят, – сказала я. – Прими мои соболезнования. Не признавал меня Кандым-ага, но я ему зла никогда не желала – пусть бы жил, как считал нужным, как умел.
– Спасибо, – ответил Тархан и завозился в кармане, доставая свои «гвоздики» – так у нас самые дешёвые папиросы назывались. – Трудно мне, Аня, на одной ноге. Калека. Противен я тебе, да?
– Да, – ответила я неискренне. Жалость, негодование, любовь, как три кобры сплелись тесным клубком и шипели в моём сердце. – Да! Пьяный, грязный, опустившийся – кому ты понравишься, скажи, пожалуйста? Нога – не беда, была бы голова на плечах, но я боюсь, что ты и её скоро потеряешь. А ведь ты фронтовик, герой, даже медаль, говорят, имеешь.
– За оборону Сталинграда, – уточнил он. – Виноват я перед тобой, Аня, крепко виноват. Сможешь ли когда-нибудь простить?
– Не стоит виноватых искать, – сказала я.
– Стоит! – решительно возразил он, и я на короткий миг вдруг увидала прежнего Тархана. – Стоит! Почему, думаешь, зашёл к тебе? Сентиментальность пьяная? Может, и она есть, да только дело не в ней. Обманули меня, Аня. Оказывается, Айджемал была женой Кепбана, а не моей.
– Мне это давно известно, – сказала я, – ещё до того, как её за тебя просватали.
– Чего ж ты молчала? – вскинул он на меня глаза. – А я вот лишь после смерти отца узнал. В его вещах торбочка была… с бумагами разными. Среди бумаг – свидетельство о браке Кепбана и Айджемал, подписанное Кемалом-ага. Дата: тот день, когда моя свадьба была. Значит, не моя, а Кепбана. Всё отец запутал, чтобы на своём поставить. А чего добился?
Такого я, понятно, не ожидала. Значит, Кемал-ага не оставил тогда мою просьбу без внимания, а я-то ещё сердилась на него! Значит, уломал председатель старика и выписал свидетельство на Кепбана. и Айджемал, а тот по-своему словчил под шумок впечатлений о начале войны. Ну и Кандым-ага, лукавый старичок: двух сыновей вокруг пальца обвёл, двух невесток обманул, всему селу глаза отвёл!
Тархан смотрел на меня так, словно подарка ожидал. Но я не спешила одаривать. Человеческое достоинство, что бы там ни случилось, терять не следует, а меня ни разу в жизни по лицу не били.
– Маша заждалась тебя, – сказала я жестоко.
Тархан скривился, будто незрелую алычу раскусил.
– Что Маша… Она неплохая, хоть и болтают о ней… Но я ведь не по-серьёзному, а так… с тоски… не знаешь, куда девать себя. И культя дёргает, осложнение, говорят, и совесть злым псом рычит, и вообще… Ладно, счастливо оставаться!
Он подхватил костыли, хлопнул дверью.
Я подошла к окну. Тархан шёл, не оглядываясь, плечи его ритмично то поднимались, то опускались. Мне вдруг захотелось крикнуть вслед что-нибудь. Ну, например: «Вернись! Выпей всё-таки чаю!» Однако пока я раздумывала, вернулись Светланка и Еламан.
– Ушёл, – сообщила Светланка. – Быстро поскакал, как кузнечик. Опять драться приходил? Ты, мама, двери на крючок запирай и не пускай его больше, ладно?
А я смотрела на розовую мордашку Еламана – и видела лицо Тархана: молодое, свежее, весёлое, и чуб на глаза падает, а глаза с прищуром, смелые глаза…
Перевод В.Курдицкого








