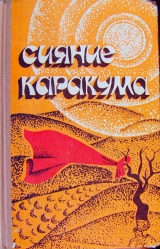
Текст книги "Сияние Каракума (сборник)"
Автор книги: Аллаберды Хаидов
Соавторы: Атагельды Караев,Агагельды Алланазаров,Араб Курбанов,Ходжанепес Меляев,Сейиднияз Атаев,Реджеп Алланазаров,Ата Дурдыев,Курбандурды Курбансахатов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 32 страниц)
ГЛАВА ПЯТАЯ
Плохо мне было без Тархана. До того плохо, что жизнь порой не мила становилась. Страшная это вещь, когда тебя в упор не видят, когда даже собакой никто не назовёт. И Кепбан сторонился меня, хотя, может быть, слишком уставал на работе, не до разговоров ему было. И Айджемал безвылазно сидела в чёрной кибитке, куда после проводов Тархана переселились старики. В доме осталась только я одна, возвращавшийся с поля затемно Кепбан спал во дворе.
Но наверно ко всему человек привыкнуть может – постепенно и я не так остро стала ощущать своё одиночество. Тем более, что и Айджемал стали выпускать из кибитки – видимо, посчитали, что всё уже вошло в норму, перестала новая невестка бунтовать. А вскоре Айджемал вообще переселилась в дом, и я совсем ожила – хоть словом перемолвиться есть с кем.
Как-то она сказала:
– Думаешь, я на Тархана польстилась? Мне век бы его не видеть! Мачеха обманула, проклятая. «Тебя, – говорит, – Кандым Годек сватает. Согласна?» Я, конечно, как овца: «Воля ваша», – а у самой сердце прыгает, потому что о Кепбане думаю. А когда всё выяснилось, поздно уже было назад пятиться. Хотела я лицо своё сажей вымазать: мол, не девушка я, – да позора устыдилась. Теперь не поймёшь, кто я – не жена, не вдова, не Хабиба-дурочка.
И она невесело засмеялась.
Вскоре Айджемал изловчилась устроить так, что её отпустили на обработку хлопчатника. И она каждое утро бежала на поле, как на праздник. Я подозревала, что они там с Кепбаном встречаются. Она хотела и меня с собой утащить, но свекровь стеной встала: «Нечего! Пусть овец пасёт. Отец занедужил, а овцы тощают». Я и этому была рада – всё лучше, нежели дома взаперти сидеть.
Овцы особых забот не доставляли. Они знали дорогу и сами спешили к озеру, набрасывались на заросли чаира, сопя и толкаясь. А я садилась на пригорке и смотрела то на куличков и трясогузок, хлопотливо снующих по берегу, то на поле, где, посверкивая кетменями, колхозники мотыжили землю, убирали сорняки.
А война где-то там, на западе, всё шла своим чередом, всё работала жуткая мясорубка. Война, которая сперва была для меня абстракцией, своеобразной иллюстрацией из учебника истории, постепенно становилась неотъемлемой частью нашей жизни. Без неё не начинался разговор, без неё он не кончался. Радио до войны у нас только начали проводить, репродуктор успели повесить лишь в сельсовете. Но к газетам почти у всех появился повышенный интерес. Даже Кепбан, никого не спросясь, выписал «Советский Туркменистан». Старики разворчались было, но парень после той скомканной свадьбы стал совсем иным – не то чтобы повзрослел, а строже стал, самостоятельней, безответной покорности у него не осталось. Я спросила: «Зачем тебе газета? Ты же не читаешь её». Он ответил: «Для тебя. И я тоже немножко читаю, не считай меня полностью неграмотным».
Мужчин в селе становилось всё меньше. Это было видно даже мне. Хотя я и не отлучалась со двора, потакая упорной прихоти стариков, но из-за глиняного дувала тоже можно кое-что увидеть, если захочешь. Да и Айджемал постоянно делилась новостями.
– До нашего дома проклятая война добирается, – сказала она. – Соседа мобилизовали, Мялика.
Я подивилась её словам: Тархан-то давно на войне и даже писем не присылает. Но разубеждать не стала. Не захотелось мне почему-то разубеждать её. Я лишь сомнение выразила:
– Почему могли Мялика забрать? У него же ребятишек – как мелкого бисера.
– А ты знаешь, сколько их повезли в райцентр? – не успокоилась она. – Сперва три полных арбы. Потом – ещё две. Мимо поля ехали, сама собственными глазами видела.
– Откуда в нашем селе столько призывников?
– А там не только наши были. Знаешь, Алма, что женщины говорят? Мол, фашистов этих больше, чем чёрных ворон, и никто их победить не может, а они всех покоряют, землю, где прошли, такой гладкой делают, что хоть яйцо по ней катай.
– Глупости ты слушаешь, девушка, глупости повторяешь! – сказала я. – Нашла непобедимых! Просто напали они вероломно, воровски, как хорёк, что на прошлой неделе в наш курятник залез. Потому их верх пока. Но мы набьём им рыло и загоним обратно в их кошару.
– Ты правду, говоришь, Алма?
– Правду! – заверила я. – Псы-рыцари лезли к нам. Их Александр Невский всех утопил, как щенят. Наполеон все западные страны покорил, а ему Кутузов ка-ак дал! – так он и покатился из России. Русские всегда врагов побеждают.
– Вот здорово! – воскликнула Айджемал. – Завтра же всем расскажу про Наполеона и про псов! – Она вдруг усомнилась: – Постой, а ты откуда всё это знаешь? Кто тебе сказал?
– В школе учила. История это называется. Я ведь целых десять лет училась.
– Да-а… учёная ты, – позавидовала Айджемал. – А меня мачеха так и оставила дурочкой – из второго класса забрала, вредина косоротая. Тебе хорошо, ты всё знаешь. Научи меня чему-нибудь, а, Алма?
– С удовольствием. Всё, что знаю, твоим будет.
– Спасибо. А война скоро кончится?
– Скоро. Обязательно скоро.
Постукивая посохом о землю и кашляя, вышел из чёрной кибитки свёкор, бросил на нас неодобрительный взгляд. Айджемал поспешно прикрыла рот концом платка. Посмотрела вслед Кандыму-ага, который поплёлся к овечьему загону по своим стариковским делам, тяжело вздохнула.
– Знала бы ты, Алма, как мне опротивел этот проклятый яшмак, черти б его носили, а не люди! Хорошо тебе: никого не боишься, не закрываешь лицо.
– Поэтому они и не считают меня своей невесткой, – сказала я. – Не любят меня поэтому.
– Любила собака палку, – съязвила Айджемал. – То-то у меня много радости от их любви!
На следующий вечер она посвятила меня в резуль таты своей «агитации».
– Многие женщины радовались, что наши победят фашистов. Пыгамбером тебя называли, хвалили за то, что добрые предсказания бесплатно делаешь. Однако и другие есть. Они говорят: «Откуда Алмагуль может будущее знать? Она что, пэри Агаюнус, которая смотрит на свой ноготь и видит в нём судьбу всех семи поясов мира? Обманщица она, и язык у неё короткий. А бригадир Непес сказал: «Зато вы языки распустили – на три метра за вами по земле волочатся». И ещё сказал: «Алмагуль, оказывается, умная молодуха, а Кандым Годек её к овечьим курдюкам приставил. Непорядок это. Ей в конторе надо работать, в сельсовете, она политически подкованный человек». – Пошла бы работать в сельсовет?
– Хоть сейчас! – горячо вырвалось у меня.
– Хочешь, Кандыма-ага попрошу? – предложила Айджемал.
– Не знаю, сестричка, – усомнилась я. – Тархану слово дала не обижать стариков, не перечить им. Боюсь.
– Ну и сиди со своим словом под овечьим хвостом, – сказала она, – а я спать буду, намучалась за день. И мутит что-то. Тебя не тошнит, особенно по утрам?
– Тошнит, – ответила я, не особенно вдумываясь в смысл её слов. Меня занимала возможность вырваться из домашнего заточения. Однако я помнила разговор с Тарханом, и два противоречивых чувства боролись во мне. С одной стороны, тоска поедом ела – что я в самом деле, как пленная рабыня, сижу под неусыпным надзором! С другой стороны, действительно, очень хотелось подружиться со свёкром и свекровью, потому что жить врагами в одной семье становилось всё более невыносимо. Равнодушие какое-то появилось, безразличие даже. Тархан сниться перестал…
…Легко ли мы живём, трудно ли, а солнце всходит в своё время и заходит в своё время. Я пасла овец, собирала кизяки, ломала сухой кустарник и скидывала в кучи. Раза два в неделю свёкор отвозил на ишаке всё это домой. Грешным делом, я думала, что притворяется он в своей хвори – больно уж споро орудовал лопатой и вилами. И лишь потом поняла: хворал он всерьёз. А если работал, не лежал, так это оттого, что двужильный был. И жадность подогревала – боялся, что достатком дом оскудеет.
Однажды я почувствовала недомогание: тянуло в животе, мутило, в жар кидало. С овцами я при всём желании пойти не могла, свёкор погнал их к озеру. А свекровь неожиданно раздобрилась.
– Лежи, лежи, – сказала она, щупая мой лоб и затылок. – Что это с тобой приключилось? Или сглазил кто? Или через яму с овечьей кровью переступила? К мулле послать надо, чтобы амулет дал.
– Не надо амулета, – отказалась я. – Это суеверие.
И свекровь сразу же стала прежней.
– Поступай как знаешь, – буркнула она. – К таким, как ты, с добром лучше не подходить. С палкой надо, как к цепной собаке.
Злость во мне колыхнулась, но я старалась поддерживать миролюбивый тон.
– Вы не беспокойтесь за меня. Я сама в амбулаторию схожу… к доктору.
– Ступай. Там такая же сидит… красноголовая… родня твоя. Прислали её на нашу голову, бесстыдницу, – у всех на глазах с учителем заигрывает. Она тебя вылечит, ступай! Не зря говорят, что вода низину ищет, плешивый – плешивого. – И хлопнула дверью.
Амбулатория размещалась в здании сельсовета. Я без посторонней помощи нашла дверь с табличкой «Медпункт». В комнате сидела симпатичная рыжеволосая докторша и разговаривала с молодым мужчиной в галстуке – галстук был редкостью в наших краях.
– Можно? – спросила я по-русски.
– Заходите, пожалуйста, – ответила докторша, посмотрела на меня и добавила по-туркменски: – Садитесь вот сюда. Что у вас болит?
Я постеснялась рассказывать при посторонних и сослалась на жар. Она дала градусник. Я отвернулась к к стене и засунула его под мышку.
– Простите, вы не жена Тархана Кандымова? – задал вопрос мужчина.
– Жена, – сказала я, не поворачиваясь.
– Жалко, – вздохнул он и сообщил: – Мы с Нелей только что о вас говорили.
Я не знала, хорошо это или плохо, что они говорили тут обо мне, не знала, о чём он жалеет, и промолчала. А он снова вздохнул. И опять сообщил непонятное:
– Опоздал я. Кемал-ага меня опередил. Пойду я, Неля?
– Идите, – разрешила докторша.
Но он не сразу ушёл, а с минуту ещё толокся на пороге и вздыхал, как больная овечка. Я с трудом смех сдерживала.
Когда дверь закрылась, докторша посмотрела мой градусник, стряхнула его, поставила в стакан с ватой.
– Есть температурка… Ну, давай знакомиться. Кто ты, я знаю, слышала. А меня зовут Найле. Иногда – Неля. Кто как хочет, я не возражаю. Человек я прямой, откровенный, люблю, чтобы со мной откровенными были. Поэтому давай, рассказывай в чём дело. Не из-за этой же чепуховой температуры ты пришла.
– Тот… с галстуком… кто он? – спросила я.
Найле удивлённо подняла брови – они у неё были как ласточкины крылья в полёте.
– Это Тойли, директор школы. Неужто не знаешь?
Я покачала головой.
– Крепко тебя, однако, на коротком поводке держат. Ну да ничего, всё течёт, всё меняется. Скоро и твоему заточению конец наступит. Так с чем, говоришь, пришла ты ко мне?
Через несколько минут она засмеялась и пошла к рукомойнику мыть руки. Я ждала, пока она что-нибудь скажет. И она сказала:
– Ничего страшного нет, милочка, не волнуйся и не переживай. Просто-напросто появится у тебя ребёнок – маленький, черноглазый и горластый человечек.
Новость несколько ошеломила меня. Хотя, если разобраться, что здесь было странного?
– Всё будет в порядке, – успокоила меня Найле, – только почаще наведывайся на консультацию. Да и так заходи, запросто – посидим за чайком, посудачим, помоем косточки ближним своим.
И засмеялась низким грудным смехом. А я подумала, что не зря она пришлась мне по душе с первого взгляда. И хорошо мне стало, легко, песню запеть захотелось, «Три танкиста», которую Тархан мой всегда напевал.
Дома меня ждала вторая новость: у стариков в кибитке сидел Кемал-ага. Я сразу узнала его, когда меня позвали, хоть и темно в кибитке было, одни уголки в оджаке красным светом светили.
Свекровь молча звякала в полутьме чайником – явно не в духе была. Свёкор сказал:
– Такое вот дело. Кемал-ага просил. Мы его уважаем. И родители его уважаемые люди были. Надо работать. Каждый что может для фронта. Согласие мы дали.
Поскупился аллах на ораторские способности для Кандыма-ага. А я только стояла да глазами хлопала, пока в разговор не включился гость.
– Какой класс закончили, молодуха? – спросил он.
– Десятилетку, – ответила я, и сердце у меня забилось часто-часто, даже заболело немножко от торопливости, потому что сразу ясным стало, по какому поводу заглянул к нам Кемал-ага и какое согласие дали мои мрачные старики.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Каждое утро теперь я бежала на работу. Обязанностей у секретаря сельсовета порядочно, с непривычки я уставала до полного изнеможения. И не столько физически, сколько от усердия, от желания всё сделать и сделать как надо. Главное – правильно вести учёт налогов по шерсти, мясу, маслу и яйцам. Моего предшественника призвали в армию, посоветоваться было не с кем. Разве что с Кемалом-ага. Да он и сам помогал. Особенно со справками разными. Сельчан они почему-то интересовали чрезмерно, а я их ненавидела втихомолку, потому что путалась. Поступала больше по указке Кемала-ага. Скажет: «Пиши!» – пишу, скажет: «Не надо», – не пишу.
Он всегда с утра в сельсовет заходил, принимал посетителей, а после садился на коня и уезжал в поле. Возвращался далеко за полдень, спрашивал: «Какие новости? Из города не звонили?» Если ничего срочного не было, отпускал меня: «Иди, дочка, домой, отдыхай немножко». А я с удовольствием дневала бы и ночевала в конторе. Трудная работа совсем не в тягость мне была, я с ней как бы снова белый свет увидала.
И вот неведомый, что жил во мне и толкался иной раз, тоже настраивал оптимистически. Выписывая кому-нибудь свидетельство о рождении ребёнка, я думала: «Наверно скоро и моё время подойдёт, сама себе свидетельство писать буду. Интересно, кто там, малыш этот– мальчик или девочка? Пусть будет мальчик». А в глубине души очень хотелось дочку, хоть и не совмещалось это желание с нашей традиционной мольбой о сыне.
Мне приятно было отмечать рождение каждого ребёнка в селе. Но не одними приятными вещами приходилось заниматься. Как-то женщина зашла. Я её знала чуточку: мать Баллы, сверстника и приятеля Кепбана.
Она долго и мелодично распространялась о моих достоинствах – истинных и мнимых, сулила в будущем столько благ, что на трёх таких, как я, с избытком хватило бы. Мне было стыдно слушать беззастенчивое славословие, я не знала, куда глаза девать, перо в ручке от волнения сломала, а перо редкое было, «уточка», мне его директор школы Тойли подарил.
В конце концов выяснилось, что она ждёт от меня совсем немного: уменьшить возраст Баллы, поскольку почти всех его ровесников мобилизовали в армию, то и до него, неровен час, добраться могут. А чтобы мне легче было сделать просимое, то вот – узелок, а в узелке– тысяча рублей. Коли мало, ещё добавить можно, для хорошего человека не жалко.
Я огорчилась ещё больше, чем от сломанного пера, и растерялась. Никогда ещё мне взятку не предлагали. Да и вообще это дурное явление не бытовало в нашем селе. Можно сказать, впервые я с ним встретилась с глазу на глаз.
А просительница уже бормотала слова благодарности, совала мне узелок с деньгами.
Я руку отдёрнула, точно обожглась, затрясла кистью. Вместо растерянности злость появилась.
– Уходите, – говорю, – тётушка Патьма, пока не поздно!
И выложила ей всё, что думаю о таких, которые ловчат да выгадывают, когда народ все силы кладёт, ничего не жалеет для борьбы с немцами.
Она тоже разозлилась.
– Знаем вас таковских! С виду честней честного, а под одеялом мёд с пальцев слизываете. Почему ваш Кепбан не в армии? Надеешься, люди не знают? Люди всё знают, милая, от них волосинку в кошме не спрячешь. Кепбану возраст убавили, а моему Баллы – не надо? Ладно, посмотрим, что другие начальники скажут, которые повыше вас с Кемалом сидят!
Подхватила она свой злосчастный узелок и убралась восвояси. А я задумалась, подперев щеку ладонью. С Кепбана мысли к Тархану перекинулись: где-то он, бедняга, мается в чужих краях, двух строк не напишет, может, в живых уже нет, как внука дедушки Юсупа-ага, которому недавно похоронка пришла…
Потом про Айджемал подумалось. Не ладилась у нас с ней настоящая дружба. Не лежало к ней моё сердце – и всё тут. Почему не лежало – кто его знает. Я даже пыталась пристыдить себя за такое отношение к ней, да что толку.
Зато с Найле мы сразу нашли общий язык, словно с малых лет вместе бегали, кулпаками[6]6
Кулпаки – ритуальные косички на выбритой голове маленьких девочек.
[Закрыть] в одно время трясли. Общительная она была, эта краснокудрая татарочка, весёлая, жизнерадостная и окружающих своей энергией заражала. Возле неё дышалось как-то легче, не то что рядом с моими стариками.
Найле заглянула в дверь, и я вздрогнула, словно она мысли мои подслушать могла.
– Сидишь? – осведомилась она. – О судьбах человеческих размышляешь? Жаль, Родену на глаза не попалась – он бы с тебя своего «Мыслителя» изваял.
– Кто такой Роден и что ему здесь нужно? – сказала я. – Пусть приходит и ваяет, могу ещё в такой позе посидеть.
– Поздновато спохватилась, душенька, – засмеялась Найле, – лет эдак на пятьдесят пораньше бы.
Она помахала рукой и исчезла. Тук-тук-тук! – простучали в коридоре каблучки её изящных сапожек. И сразу же в комнату вошёл Кемал-ага, насквозь пропылённый жёлтой лёссовой пылью. Едва переступив порог, задал свой неизменный вопрос:
– Новости есть?
– Нет новостей, – ответила я.
Он устало сгорбился на табуретке, постукивая насвайкой[7]7
Насвайка – наскяды, маленькая высушенная тыквочка, в которой носят нас – жевательный табак.
[Закрыть] о ладонь.
– Все колхозные земли нынче объехал. Так устал, что ты, Алма, представить себе этого не сумеешь.
Я посочувствовала.
Он тяжело вздохнул.
– Дел столько, что голову почесать некогда, а их всё подкидывают да подкидывают. Военную учёбу, говорят, налаживать надо. Как её налаживать, неизвестно. А надо. Понимаешь?
– Понимаю.
– В том-то и дело. Я, брат, тоже понимаю, да легче от этого не становится. Помогла бы, а?
– Скажете, что делать, буду делать, – я была готова на всё для Кемала-ага. – Говорите, с чего начинать. А то ходят тут всякие… слова разные говорят…
Он поинтересовался, что я имею в виду, и услышал мой чистосердечный рассказ о «визите» Патьмы-эдже.
– Боюсь её, Кемал-ага, – откровенно призналась я.
– Вздорная баба, – согласился он. – К докторше всё время придирается, слухи дурные распускает. Она, видишь ли, знахарка, лечила людей травами да наговорами, пока Найле у нас не было, а теперь считает, что та практику у неё отбила, клиентов. Мзду любит пуще сахарного бараньего рёбрышка, жадная не хуже твоего свёкра. Но ты не бойся, дура она.
– Ну да! – сказала я. – «Не бойся»! Почему же говорят: «Корову опасайся спереди, коня – сзади, а дурака – со всех сторон»?
Он сверху вниз крепко провёл ладонью по лицу, как бы снимая с него паутину, поднял на меня усталые, потухшие глаза.
– Не бойся, говорю. Думаю, и Баллы её и Кепбан скоро из общего солдатского котелка хлебать будут. Лишь бы живы остались. А вот Мялика нашего уже не увидим.
– Почему? – не поверила я. – В сельсовет никакого извещения не приходило!
– Было извещение, – подтвердил Кемал-ага свои слова, – было… Пошчи жене Мялика отдал его.
– Но ведь дядю Мялика совсем недавно мобилизовали! – стояла я на своём. Мне трудно было представить сиротами чудесных озорных мальчишек соседа, вдовой его молоденькую хохотушку-жену.
– Никто не знает, где его судьба прячется, – сказал Кемал-ага. – Думаем: за Кап-горой[8]8
Кап-гора – мифическая гора, точнее – кольцо гор, окружающее землю и служащее опорой небесному своду.
[Закрыть], а она тебя сзади за плечо трогает – тут, мол, я, поблизости…
Он бросил под язык щепотку наса и замолчал.
Помалкивала и я, бесцельно перебирая бумаги на столе. Одни ходики тикали кособоко. Да с улицы доносились вопли неугомонных ребятишек.
Кемал-ага, приоткрыв дверцу «голландки», сплюнул в печку нас, пожаловался:
– Трудно, Алма, нашим на фронте. Шутка ли – сколько земли под немцем. Жена, глупая, радуется, что у нас сыновей нет, одни девки – никого, мол, на фронт не заберут. А мне, наоборот, муторно, что нет воина из нашего рода. Самого меня не берут, хоть и просился. Сына послал бы – сына нет. Рожай сына, Алма, чтобы перед людьми не срамиться в лихой час!
Я покраснела, как маков цвет. Даже щекам жарко стало. Откуда ему известно?!
А ему, видимо, ничего не было известно, просто так, к слову о сыне помянул.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
В окошко я увидела, как к сельсовету торопливо шагает Пошти-почтальон, и суеверно поплевала за ворот платья:
– Тьфу!.. тьфу!.. тьфу!.. С хорошей вестью, не с плохой… с хорошей вестью, не с плохой…
Заклятие помогло, потому что Пошчи с порога закричал:
– Письмо тебе, Алмагуль! Какой подарок мне будет за хорошую весть, шалтай-болтай?
Это у него присказка такая была – «шалтай-болтай».
– От Тархана? – спросила я, изо всех сил стараясь, чтобы сердце от волнения изо рта у меня не выскочило.
– От него, – кивнул Пошчи-почтальон и стал рыться в своей сумке.
Он был неграмотный. В городе, на почте ему прочитывали адрес на каждом конверте, а он делал свои собственные отметки и запоминал. Мой конверт оказался трижды обмотанным белой ниткой.
Тархан передавал всем приветы. Под Ташкентом их, оказывается, учили стрелять из винтовок, рыть окопы и прочей военной премудрости. Теперь они едут на фронт, а как приедут, он напишет ещё. Пусть сельчане трудятся на совесть и помогают фронту чем могут, потому что политрук говорил: главное нынче – это единство фронта и тыла.
Письмо было как письмо. Но это была первая весточка от Тархана, и я метнулась к двери – скорее порадовать свёкра и свекровь.
– Куда, шалтай-болтай? – закричал вслед Пошчи. – Хоть спасибо скажи!
– Тысячу раз спасибо вам, Пошчи-ага! – горячо поблагодарила я. – Пусть и для вас будут такие же радостные вести.
– Вот это годится, – сказал Пошчи.
Он стал вешать на шею свою сумку с письмами и газетами. Трудно ему было управляться увечной рукой, и я задержалась, помогла. Зато уж потом мчалась сломя голову – не разбирая дороги, напрямик, через борозды осенней пахоты. Обогнула трактор, на котором совсем недавно ездил весёлый дядя Мялик. Теперь за рулём сидел незнакомый парень без глаза и с таким лицом, будто его куры клевали. Он закричал мне вслед что-то озорное, но я даже не оглянулась.
Стариков заметила издали. Они стояли возле своей кибитки и тревожились, глядя, что я мчусь по полю, словно напуганный заяц. Я помахала письмом, дабы успокоить их. Но они совсем испугались и поспешили мне навстречу.
– От Тархана! – крикнула я.
С трудом переводя дыхание, стала читать.
– Отдышись и читай не торопясь, – пожалел меня Кандым-ага.
Но свекровь замахала руками:
– Пусть читает!.. Замолчи ты… пусть читает скорей!..
Дома она заставила меня перечитывать письмо снова и снова, жадно вслушиваясь, стараясь выловить что-то новое. А свёкор хорохорился:
– Пусть дрожат изверги-гитлеры! Сын Кандыма покажет им, что такое настоящий советский батыр!
Они так и не отпустили меня больше на работу. Обхаживали, аж боязно было, поили чаем, угощали шурпой и пирожками. Свекровь плов затеяла. А мне кусок в горло не лез – лучше бы уж ворчали, как всегда, привычнее оно и спокойнее…
Прослышав о письме, наведывались соседи, спрашивали, что сообщает Тархан о том-то или том-то парне. «Как он может знать обо всех?»– недоумевала я на их беспонятливость. Они обижались: «Почему не может? Односельчане же! В одно войско их призвали!» Я, как умела, пыталась вразумить обиженных. И тоскливо сжималось сердце, когда доносились причитания и плач вдовы Мялика.
Что-то ещё не давало мне покоя, а что – никак сообразить не могла. И лишь когда поздно вечером пришла с поля Айджемал, я поняла: всем родным, близким, знакомым передавал приветы Тархан, одну Айджемал обошёл, не упомянул её имя в письме. Мне вдруг стало обидно, и я ни с того ни с сего крепко обняла Айджемал.
– Ты чего? – удивилась она.
– Просто так, – увильнула я, уже стыдясь своего порыва. И чего я, в самом деле, как маленькая, расчувствовалась! Ну, не передал – и не передал, беда невелика, может, забыл просто. Или – описка. Однако всё равно жалость точила, как тошнота. И Айджемал жаловалась, что её тоже поташнивает. С чего бы это, а?..
Через несколько дней, посопев за моей спиной и посмотрев, как ловко я заполняю сводки и графики, Кемал-ага сказал:
– Из района вчера одна приезжала. Ругалась: много, мол, ребятишек школьного возраста не учится. Объясняю: Тойли, мол, и Сапар-ага не справляются, остальные учителя – на фронте. А моё, говорит, дело маленькое, а в райком доложу, если не организуете школьные занятия. Такие-то вот, дочка, дела. Днём бегаем, ночью бегаем – всё ищем, как лишний час к суткам прибавить. Людей не хватает хоть плачь – там дырка, тут прореха. Придётся в школу тебе идти, будешь пока хоть первоклашек учить.
– Диплома у меня нет, – сказала я. – У Тархана диплом. Я только десятилетку кончила.
– А десятилетка – это тебе что? – сощурился Кемал-ага. – Она, брат, не хуже иного диплома.
– Как скажете, – согласилась я. – Пойду учить, если сумею.
– Сумеешь, – заверил он. – Только учти, от сельсовета тебя не освобождаю.
– Управлюсь ли?
– Это уж дело твоё. Обязана управиться. Нынче все мы обязаны справляться с тем, с чем вчера не справлялись. Время такое, что слова «не могу», «не умею» на склад сданы. Понятно тебе?
– Мне-то понятно, да старики ругаться станут, что домой поздно прихожу.
– Поговорю с ними, – пообещал Кемал-ага.
У меня мелькнула шальная мысль:
Может, они мне разрешат здесь жить?
– В конторе? – усмехнулся Кемал-ага.
– Нет, – сказала я, – вместе с Найле, она предлагала, у неё целых две комнаты. Они собирались там с Ахмедом – это муж её – жить, но его в армию забрали, ей одной скучно. Она ещё говорила мне: «Рви, Аня, оковы шариата».
Кемал-ага снова усмехнулся, посмотрел на меня, как на незнакомую, будто первый раз видел.
– Так уж прямо и «рви»! Прыткие какие, погляжу. Рвать тоже с умом надо да с оглядкой, а то таких дел наворочать можно, что не расхлебаешь… Ладно, поговорю. Оно и в самом деле для тебя так сподручнее будет – и контора рядом, и школа близко, не надо из одного конца села в другой бегать.
Вечером Айджемал притащила полмешка курека – нераскрышихся коробочек хлопчатника.
– Чистить буду, – сообщила она невесело.
Я наложила полную миску лапши, оставив в казане долю Кепбана.
– Давай кушать.
Айджемал ела кое-как и после нескольких глотков отложила ложку.
– Не хочется.
– Опять тошнит? – спросила я неизвестно почему.
Она метнула на меня быстрый, настороженный взгляд исподлобья.
– Руки очень болят. Это – от курека, колючий он до невозможности…
И показала руку. Кончики пальцев потрескались и кровоточили. Мы нашли кусочек курдючного сала, подержали его на палочке у огня и смазали трещинки на пальцах. Руки у Айджемал были маленькие, пальчики тоненькие, как у ребёнка. И растопыривала она их до того по-детски беспомощно, что губами захотелось прикоснуться к ним.
– Завтра возьму у Найле лекарство для тебя, – посулила я.
Она благодарно кивнула и подсела к мешку с курском. Меня аж передёрнуло от мысли, как она будет ломать жёсткие коробочки своими больными пальцами.
– Это обязательно? – спросила я.
– Соревнование, – ответила она. – Семь тысяч кило собрать дала обещание. Около трёхсот не хватает.
– Давай помогу, – решила я.
Она подвинулась на кошме, безмолвно предлагая сесть рядом.
Прошло ещё несколько дней, и новая партия призывников уехала из села. Кемал-ага как в воду глядел: повестки получили и Баллы и наш Кепбан. Внешне он никак не выразил своего отношения к случившемуся, но я-то знала его, видела, что он по-настоящему рад.
Старики очень переживали. Тувак-эдже постоянно носом хлюпала, глаза на мокром месте были. Кандым-ага после проводов сына опять слёг. Всплакнула и я. Одна Айджемал ходила с застывшим, каменным лицом. А ночью, укрывшись одеялом с головой и зажав рот подушкой, рыдала так, что у меня мурашки по спине ползали. Даже подойти к ней боязно было.
Свёкор и свекровь не стали возражать, когда Кемал-ага завёл разговор обо мне. То ли все мысли их Кепбаном были заняты, то ли ещё что, но только дали они согласие, чтобы я с докторшей жила. Свекровь даже соизволила прийти посмотреть, как мы с Найле обновляем своё жильё. Постояла, посмотрела, сморщила нос.
– Хий, воняет как!.. Кто сможет в таком запахе жить?
– Извёстка высохнет – запах исчезнет, – сказала я. – Зато комнаты будут светлые, как день.
Но мою свекровь не переубедишь.
– «Светло!..» Корчишь из себя учёную, думаешь, остальные глупее тебя! Посмотри вокруг: кто этой белой гадостью дома свои мажет? Никто! И предки наши так жили, и мы так живём. Одна ты белая ворона. Зачем тебе светлая комната, скажи? Ты что, ночами сидишь и узоры вышиваешь? Говорила ему, дурню старому: не отпускай с глаз своих. Так нет же! Дождётся, когда невестушка полурусская из его бороды качели себе устроит и будет летать на них вверх-вниз!
Найле, с любопытством слушавшая её, при последних словах фыркнула, расхохоталась, убежала смеяться за дом. Свекровь в сердцах плюнула, посулила лиха ей, а заодно и мне.
Потом мы опять белили. Найле напевала себе под нос любопытную татарскую песенку. Я понимала с пятого на десятое, но у любви общедоступный смысл, и понимаешь ты или не понимаешь, что о ней поют, всё равно получаешь удовольствие, будто шербет пьёшь.
– Твоя имя у Тойли с языка не сходит, – сказала я и брызнула кистью в Найле.
Она засмеялась и брызнула в мою сторону.
– Я его Кеймыр-кёром зову.
– Он такой же смелый и великодушный?
– Нет. Суть во второй части имени. Он – слепой, потому что не видит моей любви к Ахмеду.
– А может, его любовь – сильнее?
– Сильнее не бывает! – И она снова запела.







