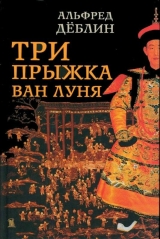
Текст книги "Три прыжка Ван Луня. Китайский роман"
Автор книги: Альфред Дёблин
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 40 страниц)
Тихое озарение, которое расширило тесный – а каким он мог быть в горах? – горизонт Ма Ноу, пришло однажды вечером, после ухода Вана, когда Ма поймал себя на том, что с ним происходит нечто удивительное: в состоянии как бы расплывающейся сосредоточенности он созерцал набрякшее снегом небо, одновременно ясно сознавая, что Ван возвысился над ним, – и не страдал. Следующей ночью внезапно всплыло воспоминание о том состоянии. И о маячившем за ним удивлении: «И не страдал…» Он знал, что Ван возвысился над ним, – и не страдал. Странное ощущение приникло к нему, как вторая кожа, превратило сердце в легкое перышко; сладко и безмятежно думалось в нем о Ване, под бременем подломившей его колени Призванности к Служению: «Как же это отрадно – быть Ма Ноу!»
Всего несколько минут.
Потом он воспротивился, все спокойно обдумал, пал ниц перед буддами и странное ощущение отогнал.
Под конец – устрашился и самого себя, и случившегося. Заставил себя заснуть.
В ближайшие дни он не хотел видеть Вана; стыдился его, терзал и мучил себя. Однако тогдашнее видение, во всей его полноте, засело в нем: «Набрякшее снегом небо, и Ван возвысился надо мной». Видение вырывалось из груди, тянуло его за собой, росло. Ма несколько ночей размышлял, не следует ли ему вновь пуститься в странствия. Но, к своему удивлению, остался на месте. Страдая, опять решился на сближение с Ваном. Их странные беседы возобновились. Теперь уже Ма Ноу проявлял нетерпение, если бродяга по какой-то причине не показывался, осведомлялся о его планах, ругал его подозрительных дружков.
Бывший монах хоть и учил бродягу, но сам испытывал страх. Все в нем готовилось к тому, чтобы сложить оружие, сдаться.
К НАЧАЛУ НОВОГО ГОДА [79]79
К НАЧАЛУ НОВОГО ГОДА…Согласно китайскому лунно-солнечному календарю, начало года приходится на январь-февраль.
[Закрыть]
резко похолодало. Скальные тропы стали непроходимыми из-за гололедицы. Выше в горах – как метровый слой пуха – лежал снег. Если человек наступал на эту белую массу, то она не проседала податливо под ногой; нет, раздавался нежный хруст, будто ломались тысячи сланцевых пластин, и снег в кровь ранил хватавшиеся за него ладони. Воздух, сперва зеленовато-прозрачный, вскоре сделался мутным и серым.
Один монгольский караван, спускавшийся от северных перевалов, смог добраться только до гор Наньгу. За ночь у них замерзли тридцать пять мулов; когда рассвело, два медведя с налитыми кровью глазами неподвижно сидели возле лошадиного скелета, и никто не знал, то ли лошадь сперва околела, а потом ее съели, то ли она была разодрана в клочья еще живая. Тюки с чаем и с шелком, с дорогими мехами так и остались, брошенные, у последнего перевала, сами же паломники решили перезимовать в близлежащем поселке.
После никто больше не пытался пробиться к Тайшаню. Это значило бы обречь людей на ненужные мучения, подвергнуть их риску горного обвала. Мельницы-толчеи прекратили работу. Река, теперь сузившаяся, гнала сквозь ущелья насыщенный водой воздух, от холода уплотнившийся так, что им было трудно дышать.
Часть бродяг и преступников занималась контрабандой в селениях, лежавших к западу и востоку от горного хребта. Остальные еще какое-то время выжидали, не появятся ли паломники, за счет которых можно будет поживиться. Потом, отчаявшись, бродяги начали объединяться и большие и малые шайки. Тропы, близ которых располагались их пещеры и хижины, скоро должны были стать непроходимыми; и тогда вообще всякое хождение сделается невозможным.
В извилистых пещерах, хорошо защищенных от ветра и расположенных вдоль дороги выше хижины Ма, нашла прибежище шайка, к которой принадлежал и Ван, – она насчитывала человек пятьдесят. Однако уже через два дня, когда пятеро ее членов отправились на поиски погибающих от голода и холода бродяг – и осмотрели еще доступные дороги, горные склоны, долины, – численность группы возросла до восьмидесяти человек. Никаких обсуждений планов дальнейшего существования не потребовалось. Девять самых авторитетных разбойников постановили, что необходимо немедленно захватить селение Бадалин, до которого примерно шесть часов пешего хода.
По пути туда, во время спуска с горы, несколько разбойников пришли к единому мнению – потом его поддержали и другие, – что никто из жителей селения не должен избежать общей участи: они либо присоединятся к банде, либо будут убиты. Спуск банды, к которой перед самым селением присоединилась еще одна группа из тридцати бродяг, сопровождался непрерывными криками, жалобами тех, кто не имел сил двигаться дальше, и их униженными мольбами, чтобы товарищи все-таки взяли их с собой. Сильные тоже настолько оголодали, что готовы были грызть ветер; они бежали вперед, не помня себя. Но по очереди тащили на своих плечах самых старых, уже почти невесомых. Последнюю часть пути, пролегавшую по холмистой долине, разбойники преодолевали в полном молчании, растянувшись длинным клином; самые крепкие неслись, как борзые, впереди, уже не думая о тех, кто ковылял сзади.
Селение состояло из пятидесяти домов, сосредоточенных вдоль единственной улицы, если не считать тех четырех, что окружали неохватный дуб, от которого улица начиналась. Жители этих четырех домов первыми увидали, как какие-то чужаки спрыгнули вниз с утесов, именуемых Шэнъи, как вслед за ними падали и вскакивали на ноги все новые и новые оборванцы. Потом эта орда понеслась, быстро приближаясь, по бело-синему снежному полю – можно было подумать, что их преследуют. Косички горизонтально распластались в воздухе, покачивались над плечами наподобие бичей.
Жена крестьянина Лэ первой пронзительно крикнула, застыв посреди двора: «Бандиты, бандиты, бандиты!» Женщины, дети и – последними – мужчины побежали по улице, волоча за собой перины, заколотили в ворота соседей, попрятались. Вопли, причитания взвихривались над домами, перепархивали с крыши на крышу, дрожали над опустевшей дорогой.
Со стороны холмов доносились топот, хруст и скрипы, оттуда надвигалась широким потоком людская масса – казалось, без единого вдоха или выдоха. Бледные лица, лишенные выражения, руки, раскачивающиеся как деревяшки. Тела бегут, не испытывая никаких эмоций. Оцепенелые торсы, гарцующие на нижних конечностях, которые несутся вскачь, будто кони. За длинной линией бегунов-одиночек – черные группки тех, кто предпочитает чувствовать рядом плечо товарища. И, наконец, отстающие: они размахивают кулаками-молотами, пробивая бреши в преграждающих путь воздушных стенах.
Немногие жители селения, которые предпочли остаться в своих домах, наблюдали стремительное приближение этого длинного клина, видели также и стаи черных каркающих птиц, покинувших горы одновременно с бродягами.
Первые разбойники бросились на ближайшие ворота с такой силой, будто имели вес камней. И, напирая друг на друга, прорвались внутрь. Подоспевшие чуть позднее кинулись к следующим крестьянским усадьбам. Вновь прибывавшие сбивали с ног своих же. Шум поулегся; бандиты с гор, проникая в дома, распространяли вокруг себя леденящий холод и такой ужас, какой внушают покойники: они, казалось, не могли разжать челюсти; их глаза не мигали. Последние дома оказались забаррикадированными. Снаружи ответили воем, ревом раненых хищников, и женщины в страхе попрятались по углам. Живые – те, что снаружи, – подняли тела упавших, устремились на приступ, держа перед собой, как тараны, трупы с мотающимися головами. Крестьяне внезапно сами распахнули ворота, обрушили на вопивших топоры, кинулись к соседним домам, по пути нанося удары прямо по задыхающимся разинутым ртам. Но тут в селение ворвались последние, самые сильные разбойники, опоздавшие, потому что тащили слабых; они скинули свою ношу в первом же дворе, побежали туда, откуда доносились крики, смяли крестьян, словно были не людьми, а живыми снарядами, душили их голыми руками, детей убивали, швыряя о камни мостовой, – и все это без единого слова, даже не меняя выражения лиц.
Мертвые – тощие и окоченевшие – мерзли на снегу.
Бродяги, дрожа от возбуждения, разбрелись по домам. Эти свирепые животные обнимали и гладили друг друга. На сильных, да и на слабых тоже, напал озноб. Все как-то малохольно хныкали, часами не могли успокоиться. Не прекращая нытья, жадно набивали глотки чем попало. В домах они никого не тронули.
Когда стемнело, двадцать молодых бродяг стали ходить от дома к дому, раздавая «своим» топоры и молотильные цепы, договаривались об очередности несения караульной службы.
БАНДИТЫ
решили переждать в селении самые сильные морозы, а потом всем вместе покинуть его. Крестьяне с этим смирились; староста не посылал властям никакого сообщения о случившемся – он, как и его домашние, был убит.
Все жили спокойно, не опасаясь предательства: до ближайшего населенного пункта было шесть часов пути, и дорога туда стала непроходимой.
Целый месяц селение было отрезано от остального мира. Бандиты братались между собой. Ван постепенно приобрел власть над сотней отщепенцев, в конце концов навязавших ему роль вожака. При урегулировании каждодневных конфликтов и осуществлении обмена с местными жителями, налаживании надзора и необходимой разведывательной службы физическая сила Вана и свойственная ему мягкая уклончивость пришлись очень кстати; уважение к нему старейших членов банды имело решающее значение.
Уже через две недели бандиты договорились, что после ухода из селения не разбредутся в разные стороны, а будут по-прежнему вести совместную жизнь – куда более приятную – под началом Вана. Но Ван в одно прекрасное утро от них ускользнул и на два дня исчез в горах.
Он отправился к Ма Ноу; и нашел старика в его хижине, под ворохом одеял и рогож, – как всегда бодрым, даже радостно ухмыляющимся; Ван принес ему в подарок рис, бобы и чайные листья.
Два дня и две ночи разговаривал Ван со своим старшим другом. О том, что оба они – изгои. И что никто не вправе причинять им вред, ведь они сами не причиняли никому вреда. Что нет ничего ужаснее, чем когда люди убивают друг друга; невыносимо даже смотреть на такое. Ма Ноу, бывший монах с Путо, рассказал много хорошего о своих золотых буддах, особенно о тысячерукой богине Гуаньинь, которая дарит женщинам детей. Они, будды, – его друзья, пережившие то же, что и он сам. Столько страданий приносит судьба (не говоря уже о прочем), столько горестей! Почему Небо так ненавидит их? Когда кончатся самые суровые холода, он, Ван, пойдет по селениям и будет объяснять всем, даже чиновникам, то, что думает; это он решил твердо.
Бродяги, которые знали Вана еще со времен посиделок у мельницы-толчеи, не удивлялись, слыша от него такие речи; они даже ожидали чего-то подобного. Они и не думали с ним ссориться, ведь его мнение совпадало с их собственным: Небо ненавидит их: но все равно человеку не следует творить зло.
Они были общительными людьми, с особыми представлениями обо всем на свете, хорошо знали жизнь и во многих отношениях превосходили средний уровень других, законопослушных жителей империи. Среди них едва ли нашлось бы хоть пятеро, которые не казались бы себе гонимыми и не считали бы, что действуют не по собственной воле, а под давлением внешних обстоятельств.
Некоторые из них стали жертвами той или иной пагубной страсти, которую не могли, да и не хотели побороть, и они придумывали, совершенствовали всевозможные уловки, чтобы служить этой страсти, с которой отождествляли себя. К таким относились, например, курильщики опиума или азартные игроки с тонкими чертами лица – всё люди пожилые. Немало было и тех, кто прежде занимался честным промыслом, но очень часто оказывался обманутым, уличенным в мнимых прегрешениях, оштрафованным; кто чувствовал, что к нему придираются полицейские, и в конце концов сам начал отвечать на несправедливость несправедливостью, на ненависть ненавистью; кто перешел границу дозволенного и в глубине души даже радовался тому, что теперь свободен как птица, что убежал от нависавшего над ним Закона. То были счастливцы, почти не ощущавшие в своей свободе привкуса горечи.
К числу наихудших относились горячие головы, люди мстительные и не знающие удержу в своих чувствах. Такие – как правило, еще в юности – из-за честолюбия, или влюбленности, или жажды мести совершали какой-то роковой шаг, порывая связь с семьей, родом, родиной, в пределах которых только и имели смысл их порывы и преступления; потом, озлобившись, бродили где придется, проклинали самих себя, без конца пережевывали жвачку своих страданий, Таким ничто уже не могло помочь; и они были способны на все; остальные предпочитали не иметь с ними дела. Они не отличались общительностью, но вовремя оказывались повсюду, где что-то происходило или планировалось, неизменно искали пищу для своей злобы, и товарищи смотрели на них с неприязнью.
И еще было много таких, кто просто выжидал, кто присоединился к другим, только чтобы найти себе пристанище хоть в какой-нибудь из восемнадцати провинций [80]80
…в какой-нибудь из восемнадцати провинций.Исконная территория Китая (без присоединенных в ходе завоеваний областей).
[Закрыть]. Солдаты, отпущенные за ненадобностью, еще носившие свои драные синие куртки и надеявшиеся, что их вновь призовут на службу. Калеки, которые раньше жили в маленьких местечках, где близкие не могли их прокормить, а теперь пытались чем-нибудь поживиться на дорогах к святым местам. Трудолюбивые серьезные люди, потерявшие семьи во время наводнения; и те, для кого неурожай стал привычным, ежегодно возвращающимся гостем; и те, что сперва лишь на время, с чувством стыда отправлялись в далекие горы, чтобы просить милостыню, но дела их шли все хуже и хуже, и они уже не видели для себя иного выхода.
Попадались и явные исключения, наподобие Ван Луня: беспокойные души, которые не задерживались нигде, которые в этих местах, как и повсюду, внезапно выныривали среди себе подобных, а потом так же внезапно исчезали: в бескрайней империи вздымается много людских волн.
Постоянное жесткое ядро всей шатавшейся в тех горах братии состояло из четырех или пяти бандитов, которые уже много лет занимались разбоем на перевалах и высокогорных тропах. Это были внешне дружелюбные, а на самом деле лицемерные типы, которые знали множество анекдотов, доброжелательно выслушивали других и грубо подшучивали над самыми молодыми. Один из них из-за своей тучности казался почтенным чиновником; для полного сходства не хватало лишь шарика на шапке. Он придавал большое значение внешней респектабельности и с комической дотошностью соблюдал правила этикета, но, если его что-то раздражало, мог ответить вульгарной бранью. Он был ипохондриком, крайне болезненно воспринимал любые недомогания и б о льшую часть денег, добытых кражами и разбоем, оставлял у знахарок, которые готовили для него лечебные снадобья. Он обладал множеством своеобразных качеств: скажем, искусно мастерил из дерева табакерки с цветочными узорами, расспрашивал каждого нового человека, какие шкатулочки сейчас в моде у горожан, и с устрашающим терпением – если хотел этого или считал для себя полезным – пытался скопировать заинтересовавший его образец. Знакомым торговкам, которые обращались с ним как с благородным господином, он жаловался на свою бедность, на то, что, если хочет приобрести на рынке хотя бы самую мелочь, вынужден продавать последнее, «вплоть до собственной шкуры». Отправляясь надело, тот же человек превращался в очень жестокого, уверенного в себе грабителя с мускулами из стали, с неистощимым терпением и хладнокровием. К людям, особенно молодым, которые случайно заставали его на месте преступления и на которых поэтому ему приходилось нападать, он испытывал отвращение, если они не пытались обороняться или если, уже побежденные, молили о пощаде. Двух подручных купца, которые закричали, когда он ночью проник в их комнату, он сперва оглушил, ударив какой-то железякой, а потом – поскольку они, сильные мужчины, несмотря на его запрет продолжали хныкать – задушил одного за другим первым попавшимся шнуром (после чего, обезумев от ярости, вернулся в свое горное логово, так и не взяв ничего ценного). С той поры к нему пристала кличка Шелковый Шнур.
Другой бандит, родом из Кантона, высокий и сухопарый, носил очки в роговой оправе. Этот не любил ни убивать, ни вламываться в чужие дома; он, будучи человеком начитанным, сочинял стихи, трактаты об общественных нравах, а также на всякие иные темы: о мире животных, геологии, астрологии. Его характер для большинства бродяг оставался загадкой. Он не искал их общества; они же приходили в его пещеру, расспрашивали о разных вещах, особенно о болезнях и о благоприятных днях, или просили совета. Он получил неплохое образование, копировал произведения любимых поэтов, чисто писал иероглифы. В этом высоком спокойном человеке через каждые несколько месяцев происходила разительная перемена. Те, кто часто приходил к нему, подмечали соответствующие признаки заранее: он уже не слушал их так терпеливо, как обычно; в его скромном жилище, как правило чисто прибранном, вдруг воцарялся кавардак. Сам он объяснял, когда к нему приставали с расспросами, что сейчас очень занят собственными делами – именно в эти дни; и просил, чтобы на него не обижались: позже он непременно подумает об их проблемах и предоставит им все нужные сведения. Потом наступал период, когда бандиты в течение нескольких дней хохотали не переставая, буквально до упаду. Потому что почтенный ученый муж, перепачканный с ног до головы и одетый в какие-то отрепья, карабкался по горным тропам, навещал в таком виде своих знакомых, извергал на них потоки высокопарных невнятиц, пересыпанных гнуснейшими непристойностями (которые в другое время никогда не решился бы повторить), – и сам при этом смеялся так, что лицо его покрывалось тысячью мелких морщинок. В период таких блужданий, когда он не позволял себе никакого отдыха и спал не больше двух часов в сутки, но при этом нисколько не уставал, сухопарый безумец время от времени прятался при лунном свете за какой-нибудь скалой у поворота дороги, потом с воплями атаковал целые караваны – и нередко обращал их конвойных в бегство; или с радостными возгласами сталкивал в пропасть одинокого паломника, после того, как долго крался за ним, корча злобные гримасы; или скотски куражился в больших торговых селениях над женщинами и детьми. Через пару дней после подобного приключения он уже вновь сидел в своей пещере и показывал гостям полученные ссадины и шишки. Поначалу он хвастался такими ранениями как священными отметинами, но потом быстро возвращался в привычную колею, возобновлял ученые занятия, и никто – если не хотел подвергнуть себя ужасной опасности – не смел напомнить ему об отошедших в прошлое сумбурных днях. Влияние двух этих одиночек на прочих бандитов было незначительным; друг с другом они почти не общались; остальные же считали их опасными чудаками, которых невозможно привлечь ни к какому общему делу.
В жарко натопленных комнатах захваченного селения бродяги часто заводили разговор о Ван Луне: он казался им человеком, окутанным тайной. Его долгие пребывания у «колдуна» Ма Ноу пугали их; все они полагали, что за этими визитами что-то кроется. Ван определенно был одним из преследуемых, из тех, кто нигде не находит для себя покоя. Горбун, живший с ним в одном доме, однажды за общей трапезой высказал такое предположение: «С этим Ваном в Шаньдуне что-то произошло, и теперь он хочет научиться заклинать духов, чтобы кому-то отмстить. Ведь есть же в горах Ляньфушань человек, который поймал и запечатал в кувшинах демонов всей провинции…» Другой поддержал эту мысль: «Ма Ноу уже давно поселился здесь наверху; он знает всех горных духов. Чего еще может хотеть от него Ван?» Горбун: «Как-то раз я увидел Вана у мельничной запруды; он сидел на земле и хлопал в ладоши, держа их на уровне глаз. Зачем? Потому, наверное, что заметил демонов и пытался их раздавить…» Еще один старый разбойник, доверительно наклонившись к нему, ухмыльнулся: «Ван Лунь – ученый. И повсюду что-то таскает с собой. Чему же тут удивляться, если такой человек умеет колдовать? Кто умеет одно, умеет и другое».
Ван под влиянием бесед с Ма Ноу становился все более задумчивым и серьезным. Он понемногу успокаивался. Преграды и завесы, которыми отгораживалось от мира что-то темное, таившееся в нем, пали; он «выравнивал», преодолевал себя, но все это происходило в сокровенных глубинах. Его внутренний излом обнаруживался лишь иногда, случайно: например, в шутках и розыгрышах, которые обескураживали его товарищей; или в многочасовых состояниях полнейшей безучастности; или в мимолетных вспышках злобы и упрямства. Старые бродяги воспринимали его выходки как нечто сакральное; полагали, что такого рода странности подобны судорогам юродивого.
Однажды вечером, уже к концу их пребывания в Бадалине, Ван, продрогший на морозе, вернулся в горницу; он смеялся, мычал, подпрыгивал, чтобы скорее согреться. На сугробе свежего, совсем свежего, только что выпавшего белого снега – пусть они напрягутся и вообразят себе это! – он нашел большой кожаный кошель с императорской военной печатью; и когда схватил его, ощутил в руке звонкие золотые монеты. Ван бросил черный кошель на стол. Десять бритых голов с косичками на затылках сдвинулись, поднялся радостно-испуганный ропот. Один из бродяг тут же запустил руку в мешочек – и отдернул, по локоть запачкавшись угольной пылью; другой действовал осторожнее, но и с ним приключилось то же самое. Как и еще с двумя. Бандиты смущенно переглядывались через стол, на котором горел масляный светильник, натужно молчали, подмигивали друг другу, кивая на верзилу Вана, который невозмутимо стоял у теплой лежанки, опять переглядывались, отряхивали с рук уголь. Толстяк, выделявшийся среди других светлым оттенком кожи, поднес кошель к уху, встряхнул, прислушался. Те четверо, что пытались нащупать монеты, тоже притиснулись поближе, вытягивая шеи. Толстяк бросил кошель на стол, отодвинулся, смущенно пробормотал, не глядя на Вана: «Ему, наверно, виднее… Вану то есть». Бедняга настолько растерялся, что не сообразил поступить так, как сделал после небольшой паузы Горбун: тот; не дотрагиваясь до кошелька, попросил Вана показать им императорскую печать и объяснить, принадлежала ли она Цянь-луну или кому-то из прежних государей. Если же Ван не хочет показывать им печать, пусть хотя бы на словах опишет ее (а заодно и золотые монеты). Они, конечно, испуганы, очень испуганы, и сам он тоже, а все-таки они бы охотно послушали и потом пересказали другим.
Верзила Ван между тем давно перестал улыбаться. Его лицо принимало все более тревожное выражение, на левую штанину попал уголек, но он этого не замечал, как не чуял и едва заметного запаха гари. Медленно, очень неуверенно он переходил от одного человека к другому, каждого за руку притягивал к светильнику, с тревогой заглядывал в лицо: «Что такое? Что? Что у вас на уме?» Обойдя стол, оперся обеими руками о край, со всех сторон осмотрел кошель, наклонился и боязливо провел по нему пальцем. Потом обхватил его левой рукой, унес в соседнюю комнату, по пути бросая недоверчивые взгляды на товарищей, будто опасаясь, что они его ударят. За ним тянулся тонкий след угольной пыли. Дверь в комнату Ван запер на засов – и уселся на полу в этом тесном помещении, заполненном кувшинами, пустыми бочками, сельскохозяйственными орудиями; он повертел в руке деревянную мотыгу, осторожно положил ее рядом. Потом поднял почти опустевший кошель, держа его на обеих ладонях, к своему мокрому от пота лицу и уронил голову на колени. Стуча зубами, громко проговорил, так что в соседней комнате услышали: «Да что же это? Чего они от меня хотят?» Одежда липла к его рукам и ногам. Он встал, увидал дырку на штанине. И тут на него напал такой оглушающий ужас, что он закружил по комнате, осматривая доски у себя под ногами, ощупывая руками пол, простукивая стены.
Затем застыл, выпучив глаза, вжавшись ссутуленной спиной в угол, скрестив на груди руки в складчатых рукавах, и задумался о том, что же с ним происходит. Внезапно все в нем утихомирилось. Он спокойно прошел среди разбросанного по полу хлама к раскрытому окну. Дул резкий ветер. Ван Лунь высунул голову в темноту, но не сознавал, на что смотрит. Маленькие дома казались такими же далекими, как темное небо. Он смотрел на все это с недоумением.
Он плотнее закутался в халат, втянул голову в плечи, вернулся в соседнюю комнату, где пятеро бродяг сидели вокруг стола и играли в шашки. Их поразила неподвижность его взгляда, отсутствие какого-либо выражения на лице. Он остановился возле стола. Тихо сказал Горбуну, приобняв его за плечи и не поднимая глаз, что хочет пройтись по селению.
И, выйдя из дому, пошел по пустой улице; потом повернул к холмам. Побежал, пробивая грудью черноту ночи – скорлупку за скорлупкой, чешуйку за чешуйкой. Прежде чем он сообразил, что с ним, его руки уже раскачивались как деревяшки, а изо лба вырос серп, которым он рассекал ночь. Он прыгал по утесам Шэнъи. Его тело двигалось, ничего не ощущая; он мчался вперед, все так же ровно дыша, оседлав собственные пружинистые ноги. Он радовался тому, что нечто увлекло его за собой и теперь скачет вместе с ним. По холмам, вверх по скалам. К Ма Ноу, к Ма Ноу. Тому же, должно, быть, мерещился перестук маленьких копыт серны, которая приближалась к его хижине, выбираясь из тенет разлегшейся на горе Ночи.
На небе еще ничто не предвещало наступления утра, когда Ма Ноу услышал, как произнесли его имя, и спустился с крыльца.
Масляная лампа с плохим фитилем тускло освещала комнату. Безмолвно и благостно сидели будды в глубине хижины: мочки ушей, спускающиеся до плеч, синие волосы, собранные в пучок, томные взоры, расплывчатые улыбки на упругих губах, округлые гладкие бедра. Ван распростерся, коснувшись лбом земли, перед тысячерукой богиней из горного хрусталя – обвинял кого-то, о чем-то смущенно молил. Намеревался так и лежать здесь, не трогаясь с места. Проговаривать вслух, запинаясь, все, что с ним произошло.
«Случившееся с Су Гоу – ничто по сравнению с этим. Су Гоу зарубили саблями у маленькой стены. Его схватили и отправили куда-то за реку Найхэ [81]81
Найхэ– река мертвых.
[Закрыть]. Меня же они заманили к себе, околдовали, не дают уйти. Они хотят приручить какого-то демона в моей груди, этого хочет Горбун, все этого хотят. Я не причинял им зла, не допускал ссор. Если бы не я, многих уже не было бы в живых. Я шел себе по улице. В моем кошельке лежал уголь. Что я могу поделать – уголь и больше ничего. А уголь – не золото и не печать. Откуда бы там взялось золото, как бы попала в простой кошель императорская печать? Почему они требуют от меня этого? Они не должны этого хотеть; не должны этого хотеть. Они обязаны отпустить меня; я им ничего не говорил о кожаном кошеле. Я – Ван Лунь из Хуньганцуни. Я – убийца; ни один судейский крючкотвор мне теперь не поможет. Но я не позволю, чтобы меня науськивали, как собаку. Вы должны мне помочь – вы, пять богов; Ма Ноу, помоги же мне; помолись со мной; помоги мне их одолеть!»
Он привстал на колени, обхватил грудь Ма Ноу, только что распростершегося на полу с ним рядом. «Или я уже околдован? Скажи, Ма? И тогда поздно что-то исправлять, не правда ли, слишком поздно?»
Отвернувшись от будд, он плакал н протяжно стонал, разжимал и вновь стискивал кулаки. «Что теперь будет, Ма Ноу? Что будет с Ван Лунем? Злые духи овладели им. Ван Лунем овладели злые духи».
Ма Ноу отодрал от себя скрюченные пальцы Вана, дал ему соскользнуть на землю, набросил поверх своего лоскутного одеяния желтую накидку с красной каймой, надел четырехугольную черную шапочку – «крышу жизни», ударил по палочке-погремушке, потряс трещоткой. Свистящие слова, которые он из себя выталкивал, тонули в дребезжании жести; и пока он выкрикивал проклятия в адрес омерзительных божественных змеев – наговили лу [82]82
Наги,или лу, – по тибетским представлениям, низшие божества, которые живут в подземном мире, в земле, в воде. Обычно они выглядят как змеи черного, белого или красного цвета, но могут по своему желанию принимать человеческий или какой-то другой образ. Они охраняют горные недра, деревья, источники, могут насылать на людей определенные виды болезней (например, водянку).
[Закрыть]– и их царей, пока, изгнанные звуками трещотки, выпархивали из круга птицы-гаруды [83]83
…из круга птицы-гаруды…Образ этой фантастической птицы восходит к индийскому богу Гаруде, получеловеку-полуптице, с головой, крыльями, клювом и когтями орла и человеческим телом; Гаруда был крылатым вестником бога Вишну. В тибетском буддизме гаруда – птица, о которой говорят, что, едва отложив яйцо, она тотчас улетает, – считается символом просветленного сознания. См.: Flight of the Garuda. Teaching of the Dzokchen Tradition of Tibetan Buddhism(в Интернете). В сочинении Цонкапы, излагающем основы буддизма, рассуждение о том, что положение человека – самое лучшее во всех трех мирах, ибо он может совершенствовать свое сознание, иллюстрируется стихотворением: «Пути такого, что находит человек /… решившийся вести существ и сильный духом, / ни боги не найдут, ни асуры, ни наги, ни птицы, знание хранящие – Гаруды…» (Чже Цонкапа. Большое руководство к этапам Пути Пробуждения.СПб., 1994, с. 134–135).
[Закрыть]– зеленокрылые гаруды с красными женскими грудями, с белыми животами, и у каждой на черной птичьей головке торчало по два рога, – пока он, Ма Ноу, все это проделывал, сердце его трепетало от счастья. Он танцевал, в упоении грез, вокруг Вана, который сидел на полу, опустив голову; он понял все, что говорил Ван; он наклонялся, гладил Вана по плечам, по темени – и ему хотелось, вместо того, чтобы нашептывать заклинания, рассмеяться. Ван же думал об отце и матери, о том, как его мать заснула, когда отец под тявканье собак прыгал в тигровой маске и, наклоняясь над ней, лежащей, что-то хрипло бормотал. Внезапно Ван почувствовал холод под мышками, у него замерзли колени и пятки.
Перед глазами все плыло; он лежал, вытянувшись на полу. Ма навалил на него ворох одеял, потушил свет. Белая лучезарность просачивалась сквозь заклеенное бумагой окно. Что-то скреблось и царапало ступеньки по ту сторону закрытой на засов двери: не иначе как когти и клювы голодных ворон. Кто-то легко взбежал на крыльцо, прокрался, будто шпионя, по низкой крыше, проворной куницей шмыгнул вдоль балок – и исчез. То и дело где-то вдали раздавался треск; затем следовали далекие толчки, скользящие шорохи, глухие звуки падения. Это приходили в движение, катились вниз и обваливались в ущелья снежные глыбы.
Ма Ноу – в серно-желтой накидке, с красным шарфом, в четырехугольной шапке на бритой голове – наконец распахнул дверь. Гул реки ворвался в комнату с застоявшимся воздухом, где уже умолкла трещотка. Слепящую белизну забрасывала через порог зима. Ма насвистывал, булькающе бормотал. В руке он держал большую чашу для подаяния, наполненную зернами и крошками хлеба. Вороны возбужденно закаркали. Он, резко засмеявшись, отогнал назойливых птиц. Далеко от крыльца, на засыпанную снегом дорогу полетели твердые частички пищи.
ХОТЯ
Ван уже в первый вечер начал проявлять беспокойство, Ма Ноу удерживал его у себя больше трех дней. Утром четвертого дня к ним постучались гости: пятеро разбойников из захваченного селения. Они разыскали Вана и принесли неприятное известие: их предали; вчера после полудня тридцать всадников, присланных из окружной управы Чжадао, во главе с силачом Ба Цзуанем ворвались в село. Они, разбойники, с помощью поддержавших их крестьян отбились и даже ранили одну лошадь – но все равно не смогли воспрепятствовать тому, что солдаты схватили четырех старых бродяг, перекинули их через спины лошадей и увезли с собой. Когда разбойники заметили, что их товарищи похищены, всадники уже скакали галопом и, оборачиваясь на ходу, стреляли из луков. Бандитская братия торопится покинуть эти места, рассказывали гонцы. Да и жители селения, повидавшие в своей жизни всякое, просят ускорить сборы, ибо иначе плохо придется всем – и бандитам, и крестьянам. По дорогам уже можно пройти, погода терпимая, весна ожидается стремительная.








