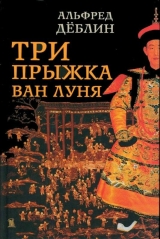
Текст книги "Три прыжка Ван Луня. Китайский роман"
Автор книги: Альфред Дёблин
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 40 страниц)
В толпе, которая каждый раз, попадая на площадь, рассредоточивалась, нарастало замешательство. Кое-кого охватила необузданная веселость. Один бывший сковородочник, напротив, впал в беспричинную ярость. Он говорил, что больше не хочет идти со всеми. Что, мол, Лю – это злой демон, который раздвоился: один Лю шагает по той стороне улицы, вдоль домов, а другой – рядом с ним. И оба время от времени встречаются, а потом вновь расходятся, расплываются как пловцы в воде. Те, что шли впереди, услышав жалобы сковородочника, повернули назад, окружили его, хрипло бурчали что-то себе под нос, нерешительно его обнимали.
Некий молодой человек протиснулся между ними, проревел: «Этот хмырь – мошенник! Он сам выкидывает подобные фокусы. Разве вы не видали? Он стоит здесь, а потом, не успеешь и глазом моргнуть, – уже сидит на крыше. Так чего же он придирается к старине Лю?» Самые любопытные прищурили глаза, заставили Лю и сковородочника встать рядом. Кое-кто, широко расставив ноги, рассматривал этих двоих через сложенные трубочкой пальцы, а потом переводил взгляд на крышу. Между тем, большинство зрителей уже утратило интерес к этой сцене; нетвердо держась на ногах и удовлетворенно перешептываясь, они побрели вслед за основной частью процессии, которая направлялась к большому рынку.
Однако до рынка никто так и не дошел. Участники шествия давно позабыли, чего они, собственно, хотят. Люди останавливались, искали что-то в щелях между булыжниками мостовой. Кряхтели, сонно облизывали пальцы, складывали руки на груди. Их головы безвольно качались, запрокидывались назад.
Люди, работавшие на других участках стены, вернулись в город еще раньше. У них было странное ощущение в легких. И их знобило от жара под кожей, который то разгорался, то снова угасал. Кровь ударяла им в голову. А т е ла они вообще не чувствовали. Они шагали так осторожно, словно боялись наступить соломенными сандалиями на битое стекло; и каждый раз, прежде чем поставить стопу, касались земли вытянутым носком – кончиками пальцев. Без обуви они чувствовали себя увереннее. И потому многие семенили по-гусиному, балансируя раскинутыми руками с зажатыми в них сандалиями.
По мере продвижения к центру города они все чаще натыкались на распростертые человеческие тела; и тогда взмахами рук предупреждали друг друга о препятствии, по несколько раз безуспешно пытались обойти лежащего. А тот хрипел, поджав колени к груди, со страдальчески нахмуренным лбом.
Возле некоторых домов стояли как бы вросшие в землю люди. Стояли, прислонившись к столбам крыльца, с посиневшими губами. Им казалось, будто из их груди кто-то с силой выдернул дыхание. Из их глоток вырывались стоны, сипение, свист – как из кузнечных мехов. Другие братья неуверенно укладывали свои тела на скамьи: все зрительные образы – дома, люди, темное небо – кружились вокруг них в едином спиралеобразном вихре; земля же, наоборот, проваливалась, превращаясь в гигантскую перевернутую шляпу с остроконечной тульей. Готовясь к прыжку, они сбрасывали с себя одежду и, задыхаясь, беспомощно ждали, чт о будет дальше. Их ребра круглились наподобие гнутых пряжек; устремляясь в полет, они фыркали, не в силах сдержать смеха.
Сотни людей прятались в закоулках домов, в коридорах, под столами, ибо что-то стискивало их кишки, селезенку, желудок – и потом опять отпускало. Будто над ними работал, во все убыстряющемся ритме, давильный пресс. И они выхаркивали желтую желчь, их кишечник извергал свое содержимое, тужился, чтобы извергнуться самому. Их лица удлинялись. Перед глазами пробегали вереницы зеленых зверей: слева направо; а потом вся стая поворачивалась и бежала в обратном направлении: справа налево.
Люди, шатаясь, брели к воротам, к городской стене. Но, поднимаясь по приставным лестницам, они попадали ногами мимо перекладин, тщетно пытались высвободиться и в конечном итоге срывались вниз, опрокидывая лестницу на себя. Одному удалось-таки вскарабкаться вверх. Его товарищи слышали, как он сделал несколько неуверенных шагов, потом сверзился в ров с наружной стороны стены и еще некоторое время слабо повизгивал.
Непроглядная ночь. Многие обливаются потом. Крохотное колесико крутится перед ними, делается все шире – это игольное ушко, кротовая норка, пещера. Они закатывают глаза, они застряли в одной из колесных спиц.
В закрытых комнатах братья вздрагивали от криков, которые врывались к ним с улицы, от стука упавших тел. Они сидели на корточках, нахохлившись. Но вдруг, тяжело дыша, оглядывались, будто услышали некий зов, с трудом поднимались на ноги, пытались удержать в вертикальном положении верхнюю часть туловища, которая все норовила обмякнуть, осесть: «Солдаты идут! Все потеряно! Ван с его несметным войском разбит!» Они собирались с силами, чтобы противостоять страшной тишине в углах комнаты, швыряли в эту тишину стулья, пригнув головы, выбегали из дверей, на свободу, в темных переулках наталкивались на себе подобных. Случалось, что двое вдруг начинали с остервенением душить друг друга. А потом оба, отчаявшись, оглашали окрестности хриплыми стонами. В своих грезах они продолжали размахивать топорами – на самом же деле только месили густую грязь, которая сочилась у них между пальцами.
На плоских, почти соприкасающихся между собою кровлях некоторые братья и сестры пели. Они пели о Великой Переправе. Их руки приводили в движение воображаемые молитвенные колокольчики. И они проповедовали друг другу. Кричали о сияющих Вершинах Мира, для них отчетливо зримых: они ведь были уже совсем близко от этих вершин. И когда один из них слышал вопли на другой стороне улицы, то вздыхал: «Брат!», и слезы восторга струились по его щекам. Они устремлялись в полет – и их черепа раскалывались о камни мостовой, и, падая, они иногда добивали какого-нибудь умирающего.
Ночь шла своим чередом, и многим – в переулках, в землянках, под крышами – мерещилось, будто что-то светлое, белое, прохладное овевает их затылки. Но стоило им обернуться, как на них набрасывался незримый демон: вскрик – и что-то с дрожью внедрялось в их тело, приводя его в такое немыслимое напряжение, что, казалось, ноги, руки, голова вот-вот растянутся, а потом и вовсе оторвутся от туловища И затем это «что-то» заставляло болтаться их руки и ноги, мяло их плоть, будто она была податливым сдобным тестом. Когда борьба прекращалась и измученные жертвы, обливаясь потом, приходили в себя, они кричали о трусости напавшего на них демона. Мол, пусть попробует сразиться с ними еще раз, пусть не прячется! Они оглядывались вокруг, пялились остекленевшими глазами в пространство, с презрением плевались. И – демон возвращался. Одним рывком вновь овладевал ими. Они начинали подпрыгивать: широко расставляли ноги, потом, со скоростью камня, выпущенного из катапульты, вновь сдвигали их вместе. В какой-то момент от чрезмерного напряжения их сухожилия делались жесткими как железо, и судорога уже не отпускала, перекрывала выход гневу. А если и отпускала, то все равно эти люди еще долго как-то апатично помаргивали и даже забывали дышать.
Когда с наступлением вечера шум ремонтных работ в Монгольском квартале не прекратился, ночные сторожа из Нижнего города спешно подвезли на телегах, запряженных волами, тяжелые деревянные колоды и свалили их у ворот, ведущих в Верхний город. Горожане не хотели пускать к себе никого из осажденных. А с той стороны уже колотили в ворота.
Неистовый шум по ту сторону стены с каждым мгновением нарастал; казалось, еще немного – и «расколотые дыни» переполошат весь Нижний город.
И три ночных сторожа стали кружить, выбивая барабанную дробь, по улицам, разбудили сотню бывших солдат провинциальной армии, рассеянных по разным кварталам, но еще хранивших свое оружие: пусть, мол, они соберутся, чтобы помешать прорыву сектантов – которые, видимо, только что подверглись атаке императорских войск – в Нижний город. Когда прибежавшие солдаты поднялись на сторожевые башни, равнина за городской стеной, до самого соснового бора, лежала пустая и недвижная, в тусклом свете выглянувшей из-за облаков луны; на улицах Монгольского города царила полная тьма, но в этой тьме клокотали тысячеголосые крики, визг и плач. Очевидно, неприятель уже овладел этой частью города. Но странное дело: не было слышно ни звона холодного оружия, ни свиста стрел; и ни один дом, похоже, не горел.
А люди там, тем не менее, неистовствовали. И теперь уже не осталось сомнений, что злые демоны, которых братья и сестры до сих пор держали в узде, в конце концов вырвались на свободу и набросились на самих сектантов. Сторожа Нижнего города разбудили священнослужителей и бонз.
Было слышно, как с той стороны к воротам приставляют лестницы; и как глухо шмякаются о землю человеческие тела.
Вдруг над верхней кромкой ворот вынырнули – почти вплотную одна к другой – две перекошенные отечные физиономии, обе с пеной на губах, как у взмыленных лошадей. Священнослужители тотчас принялись раскачивать бронзовые курильницы, махать кадилами и трясти хлопушками в эти лица. Сверху на головы сторожей закапала кровь – и они в ужасе отшатнулись. Бонзы осветили тех двоих наверху, уже высунувшихся по пояс, факелами. Внезапно один из них наклонился и с грохотом упал вниз. Другой немелодично проорал что-то, задрав голову к ночному небу, потом навалился волосатой грудью на верхнюю перекладину ворот; но тут, видно, лестница, на которой он стоял, опрокинулась, и он как мешок стал заваливаться назад; руки все еще цеплялись за перекладину; солдаты обрубили ему пальцы; он тяжело плюхнулся вниз по ту сторону ворот и еще долго что-то жалобно лепетал.
Ни один из жителей Нижнего города в ту ночь не отважился даже носа высунуть за дверь. К утру крики почти прекратились. Лишь иногда раздавались отдельные пронзительные вопли. Всю последнюю ночную стражу из одного дома на улице, параллельной стене с воротами, доносился тоскующий девичий голос: эта сестра пела куплеты похабной песни, а в промежутках между ними звала кого-то, выкликала мужские имена, стонала.
На рассвете следующего, ужасного, дня распахнулись внешние городские ворота. Торговцы, огородники, бесчисленные тележки заполнили улицы; вышли на работу и водоносы. Несколько повозок остановилось у ворот Монгольского города. Слуги расчищали проход для зеленого паланкина даотая. Командир отряда, сформированного ночью из бывших провинциальных солдат, – длинный как жердь начальник караульной службы – отдал приказ открыть ворота. Горожане разобрали завал из чурбанов, отодрали поперечные балки; солдаты навалились на створки ворот.
В то мгновение, когда эти створки, наконец, приоткрылись, сверху рухнул кусок кирпичной кладки и засыпал проход толстым слоем пыли. Пришлось с усилием толкать обе створки, потом еще взламывать внутренний поперечный засов, и лишь тогда оказалось возможным проникнуть внутрь.
Осажденные, как выяснилось, еще до наступления ночи соорудили дополнительный барьер из тяжелого железного бруса, оба конца которого были вмурованы в каменную кладку; на нем повисла, перегнувшись вперед, целая вереница людей; когда брус приподняли, эти тела обрушились – лицами вниз – под ноги тем, кто желал войти в город. Некоторые еще не успели испустить дух и слабыми голосами что-то просили у горожан. Солдаты двинулись дальше. На углу улицы стояли, обнявшись, две девушки, голова одной из них склонилась на плечо другой; когда руки той, что обхватила свою подругу за бедра, разжали, обе они упали на землю. То тут, то там еще раздували щеки, хватая воздух, последние умирающие – с длинными промежутками между вдохами. Более чем в двадцати домах на лестницах обнаружили скорченных в лужах крови женщин: эти несчастные в судорогах разрешались от родовых мук, в судорогах же выдирали из себя пуповину и детское место – все они скончались от кровотечения.
На крыльце одного дома на рыночной площади билась в истерике молодая женщина с нарциссами в волосах; она кричала: «Меня зовут Лян Ли; я хочу к отцу, в Шэньтин!» Когда ее за ноги стащили вниз, она еще несколько мгновений сопротивлялась и потом умерла.
Солдаты ворвались в тот дом. В углу пустой комнаты, у очага, сидел на корточках тщедушный человек. Когда солдаты заметили его, он что-то бурчал себе под нос.
С трудом разомкнув веки и с видимым напряжением удерживая в равновесии голову, он воззрился на них. К уголкам его рта прилипла засохшая слюна. Губы были безжизненно-желтыми; скулы обтянуты лоснящейся, воскового оттенка кожей; на висках-впадины. Хриплый, гнусавый голос: «Значит, она уже здесь: Божественная Матерь». Он улыбнулся гордо, как приказывающий.
Солдат, вошедший в комнату первым, узнал в нем главаря мятежников и сразу прикусил клочок красной бумаги, чтобы этот демон не причинил ему вреда. Сперва он острым концом стрелы дотронулся до лица Ма Ноу, оставив на губах и на подбородке кровоточащий след. Ма нахмурил лоб, выпрямился, опираясь о стену, прохрипел как-то по-звериному: «Чур меня, чур!», после чего с перекошенным от гнева и страха лицом качнулся вперед. Солдат подхватил его и, повалив на дощатый пол, придушил перед печкой.
Книга третья
Владыка Желтой Земли
ЦЯНЬЛУН,
великий император, который получил мировую империю от вечно возрождающейся природы и от Неба, возвращался из северных степей, от своих охот и «погружений», обратно в Мукден [170]170
Мукден, или Шэньян, – город в северо-восточном Китае, на реке Хуньхэ; в 1624–1644 гг. столица маньчжурского государства, при династии Цин считался второй столицей Китая; ныне административный центр провинции Ляонин.
[Закрыть].
Он опять видел необозримые монгольские ландшафты. Всего несколько дней назад глубокую тишину этих мест нарушили посланники, доставившие ему дань. Тигры выбегали из лесов. С недельными промежутками приходили письма: царевичи и высокопоставленные чиновники заверяли сына Неба в своей преданности и осведомлялись о его здоровье.
Постаревшего императора сопровождала совсем небольшая свита: две сотни всадников его личной гвардии – один маньчжурский полк; и сколько-то доверенных чиновников, друзей, рабов; наконец, оркестр из лучших музыкантов. Император охотился в пограничном районе Монголии, на высокогорье к востоку от Калгана [171]171
Калган, или Чжанцзякоу, – город в Северном Китае, в провинции Хэбэй (во времена Цяньлуна – Жэхэ).
[Закрыть]. Светлый прохладный воздух, свободные широкие степи, горные ущелья, разрывающие целостность воспринимаемой глазом картины. В корытообразной долине у города Цинъюаньфу он остановился. Жилища там были пещерного типа, высеченные в лёссовых склонах, – с комнатами, сводами, коридорами [172]172
Жилища там были пещерного типа, высеченные в лёссовых склонах, – с комнатами, сводами, коридорами.Ср.: «Многие местные крестьяне, ввиду отсутствия древесины и камня, живут в пещерах, вырытых в склонах лессовых холмов и порою заводят огород… прямо над собственным жилищем» (о пейзажах Лёссового плато: В.В. Малявин. Китайская цивилизация.М., 2001, с. 12).
[Закрыть]. На почти голой равнине паслись гнедые, с густой шерстью лошади. Шли враскачку верблюды, нагруженные тюками с чаем. Кочевники жили в просторных круглых юртах из войлока. Завидев издали императора, плосколицые меднокожие монголы в одеждах с пестрыми украшениями падали ниц.
На границе к императорскому каравану присоединился командующий пограничными войсками в красной отороченной мехом шапке и с красным воротником. Потом они миновали последние отроги Большого Хингана и спустились к Мукдену.
Император смотрел на все отчужденным взглядом, его лицо сохраняло пугающе холодное выражение. Меж высокими ивами теперь замелькали диковинные группы домов. После долгих блужданий по извивам горных дорог император и его свита оказались на невысоком холме и увидали лиственные деревья, женщин со стрелами и живыми цветами в волосах. С восьми башен мукденской крепостной стены грянули пушечные выстрелы. Караван двигался по прямым улицам города, сопровождаемый монголами на низких лошадках, пока среди обычных городских домов не показались желтые блестящие крыши. Дворец императора – Цяньлун оставался здесь пять дней.
В осеннем парке на берегу озера император, один, сидел на табурете, держа на коленях зеленые листья салата. Перед ним спала чудовищных размеров черепаха [173]173
Перед ним спала чудовищных размеров черепаха.Черепаха длякитайцев священна, она является символом долголетия, силы и выносливости; в соответствии с «Книгой Церемоний» она – одно из «четырех существ, наделенных душой» (наряду с единорогом, фениксом и драконом). Считалось, что черепаха может прожить до тысячи лет. Предельные размеры современных черепах – два метра.
[Закрыть].
Ее спинной щит был черного цвета, с желтыми бороздками. Широкая средняя часть панциря делилась глубокими зарубками на пластинки. Массивные передние конечности выпрастывались в стороны, как плавники у рыбы, и пальцы напоминали шпеньки, забитые в эти лапы. Задние конечности черепаха втянула под панцирь. Император, в черном шелковом халате и черной шелковой шапке без всяких украшений, постучал по спине животного толстой еловой веткой, на которой висели шишки.
И тогда из-под панциря высунулась серая ороговевшая голова – удивительная бесстрастная голова на морщинистой шее, покрытой чем-то вроде сухой рыбьей чешуи. Как у ожившей царской мумии: медленно вытягивалась поблекшая шея, с насмешливой невозмутимостью поворачивался треугольный череп. Равномерно и уверенно, как рубанок, заработали челюсти. Ноздри – будто пробитые сверлом. А с боков – лишенные век, неподвижные, умные (мудрые) глаза: окна охладевшего разума.
Медленно приподнимается с одной стороны щит, опять опускается, толчком передвинувшись вперед. Это – трудная поступь сообразительного, но страдающего от подагры дряхлого старика, который приподнимает зад и, не сгибая колена, волочит по земле больную ногу, одновременно медленно поворачиваясь всем телом на другой. Передние «плавники» – справа, слева – помогают телу «плыть»: отталкиваясь. Панцирь оседает, из-под него показываются длинные задние конечности, включаются в работу. Сопение, едва слышные шорохи вырываются из будто пробитых сверлильщиком ноздрей. И опять зад приподнимается, подволакиваются вперед передние лапы. Это – все равно что карабкаться по плоской поверхности.
Император сидел на табурете, так и не выпустив из рук еловую ветку. Он хотел бы следовать за черепахой, подражая ее движениям, – об этом сейчас и размышлял. Проползая мимо, она, казалось, скосила на него глаза. Он соскользнул с табурета как раз на то место, куда показывал конец ветки, опустился на колени позади животного, которое удалялось от него по направлению к пруду. И, сам не зная почему, отвесил черепахе поклон.
Очень медленно – так пожелал Цяньлун – караван двинулся дальше. Обширные песчаные пустоши чередовались с арбузными бахчами. Река Ляохэ перекатывала свои кашицеобразные – черные с зелеными прожилками – водные массы. Все ждали два дня, пока прибудет постаревший чиновник, начальник речного сообщения из Нюцзюаня, чтобы совершить жертвоприношение для духа реки, – и только после этого решились доверить волнам паром с погруженным в свои мысли императором.
Люди из близкого окружения знали, что император периодически страдает от тяжелейших приступов апатии и вялой расслабленности. Такие приступы начались у него уже в преклонном возрасте. Когда они случались, с Цяньлуном – вообще очень энергичным, полностью владеющим собой человеком – приходилось возиться как с малым ребенком: вести его за руку, усаживать. Лицо великого государя – пока караван беззвучно преодолевал большой отрезок пути по дороге от Синьлитуня – пугало невероятным отсутствием какой бы то ни было воли, безжизненностью черт, тупостью взгляда. Он выпятил губы, бурчал что-то нечленораздельное. Когда песчаная дорога стала неровной и восемь носильщиков замедлили шаг, дверца паланкина открылась изнутри, император вылез и, не обращая внимания на изумленно оглянувшихся передних носильщиков, заковылял рядом со старым алебардщиком, который его не узнал. Церемониймейстеры в ужасе выпрыгнули из своих носилок, забежав вперед, упали перед ним ниц и хотели за руки проводить обратно к паланкину – тут он пошатнулся, с трудом разомкнул набухшие веки и вопросительно на них посмотрел. Глаза его слезились. Прежде чем он снова сел в паланкин, они отерли ему слюну с седой бороды. И дальше пошли пешком, рядом с его паланкином. Перейдя через реку Далинхэ, они ступили на территорию императорских пастбищ. С высоких сторожевых башен в центре Цзиньчжоу грянули приветственные пушечные выстрелы.
Местные чиновники ждали их у ворот. И распростерлись в пыли перед обмякшим телом императора. Его состояние несколько улучшилось, когда кортеж приблизился к Великой Белой Стене. Императора охватило легкое возбуждение. Он много ел, отказывался лежать в паланкине, рвал цветы, которые росли у обочины. Распорядился, чтобы ехали быстрее. Когда сопровождающие спрашивали о его самочувствии, ничего не отвечал, только досадливо взмахивал веером. В один из тех дней он в полубессознательном состоянии залез на гнейсовую плиту, лежавшую у дороги, и упал с нее. И, тем не менее, его реакции были теперь более осмысленными, он смотрел на крестьян, работавших в поле, один раз даже послал за своим походным библиотекарем, но потом отпустил его, так ни о чем и не спросив. Все радовались, что взгляд императора вновь стал ледяным и пронизывающим.
Веял теплый ветерок. Цяньлун раздвинул занавеси желтого паланкина. Ближе к вечеру перед императорским паланкином неторопливо шагали, прогуливаясь, начальник ведомства церемоний Сун и главный евнух Ху Чао. Сун, сутулый человек с морщинистым личиком, носил очки в роговой оправе и напрасно, щуря глаза, пытался рассмотреть красоты ландшафта, которые восторженно описывал ему Ху. Упитанный толстощекий Ху, увлекшись своим описанием, часто хватал достойного Суна за руку и пожимал ее, чтобы по крайней мере таким способом дать своему другу почувствовать всю прелесть этого момента.
Они болтали о том, как тонко один молодой, начинающий входить в моду поэт сумел передать меланхолию серебряных тополей, и о паре удавшихся ему интересных строф на традиционную тему: лунный свет, скользящий по поверхности пруда. Ху, хотя и не получил столь блестящего образования, как академик Сун, принялся расхваливать строгую форму этого стихотворения и чудесные, отчасти изобретенные самим поэтом иероглифы, которыми оно было записано. Друзья вдыхали сильный, пропитанный навозом запах полей.
Вдруг рядом потянуло изысканным ароматом. И зашуршал шелк. Между ними вынырнул среднего роста крепкий человек, который, когда они хотели броситься ниц, удержал обоих за косички и, приобняв за плечи, пошел с ними. Тихий и жесткий голос Цяньлуна звучал теперь вперемешку с размеренным фальцетом Суна и довольным гундосым гудением толстяка Ху.
Император улыбнулся, когда друзья смущенно переглянулись, ибо он подхватил нить их приватной беседы: «Не разговаривайте на улицах – есть такая поговорка между четырьмя озерами, – потому что под булыжниками имеются уши. Досточтимый Ху только что восхищался чудесными иероглифами, которыми молодой поэт записал свое стихотворение. А я вот несколько месяцев назад, в Пекине, имел удовольствие беседовать с одним проповедником веры в Иисуса. И оказалось, что рыжеволосые народы – гораздо большие варвары, чем мы себе представляем. Их посланцы многое мне рассказывали в обычной для них торгашеской манере; в том числе и о своих поэтах. Представляете, эти господа пишут, как им на ум взбредет! Каллиграфия для их поэзии вообще не имеет значения. Поэтом может стать даже неграмотный крестьянин».
«Но это же смехотворно, августейший повелитель! – возмутился седой Сун. – Я, ничтожный муравей, сказал бы, что они просто босяки! И как им только хватает наглости, чтобы хвалиться перед нами своими так называемыми поэтами!»
«Сиятельный Сун, кажется, читал что-то из написанного мною…»
«Всё, августейший повелитель».
«Ну, так уж и всё… Я не люблю, когда мне льстят. Досточтимый Ху тоже кое-что читал?»
Ху почувствовал себя неуютно; он, конечно, легко воодушевлялся, при случае охотно разыгрывал из себя истинного ценителя искусств и мецената, однако его знание конкретных произведений оставляло желать лучшего.
«Осел, к которому вы, великий владыка, обратились, и вправду читал кое-что из того, что вышло из-под императорской кисточки…»
«Но, как видно, не понял – я, Ху, тебя вовсе не упрекаю. И не собираюсь экзаменовать. Речь совсем о другом. Представьте себе: крестьянка – похожая на вон ту – бросает в землю белые зерна; за ней мальчик катит тележку с удобрениями. Жаворонки поют, осень. И нет как будто никакого повода, чтобы запечатлеть это мгновение в стихотворении; оно просто наличествует – и не может быть превзойдено. Но, допустим, я поддамся искушению, захочу его воспеть; тем самым я приму на себя обязательство – по отношению к этой реальности».
«Очень тонко подмечено, августейший повелитель».
«Я еще не закончил, сиятельный Сун. Обязательство обходиться с духом этого мгновения почтительно и бережно, принести ему жертву, как положено приносить жертвы порождениям земли. Так мыслю я себе поэтическое искусство, когда сижу в своем кабинете. Я, ничтожное дитя человеческое, сижу в кабинете – а дух мгновения, которое я хочу почтить, жил пять дней назад: и это две разные вещи. Я приношу жертву небесному духу, как принято среди богатых людей, и потому прилагаю все усилия, чтобы духу восхваляемого мною мгновения жертва понравилась. Какой-нибудь крестьянин или нищий на это не способен; да и поклоняются такие люди другим духам. Итак, я должен выбрать самую красивую, самую мягкую бумагу; и приготовить красную и черную тушь самых насыщенных тонов. Только теперь я начинаю рисовать иероглифы. Это совсем не сообщения, хотя они могут служить и для сообщений; это округлые, исполненные смысла образы, отклики на книги мудрецов; каждый знак красив сам по себе, и они красиво соотносятся друг с другом. Такие образы суть крошечные души, к существованию коих причастна и бумага».
«Замечательно, августейший повелитель, – прошелестел Сун. – Я, недостойный глупец, тоже слышал от нашего придворного астронома, португальца, что на Западе люди пишут буквально так, как воспринимают слова на слух. Что, конечно, удобно, но примитивно. Однако, если величайшему государю угодно, я желал бы высказать ему одну просьбу…»
«Сиятельный Сун?»
«Да будет мне позволено вернуться в мой паланкин или, еще лучше, отдохнуть в палатке здесь на лугу, чтобы еще некоторое время послушать рассуждения августейшего повелителя, пока повелитель оказывает мне такую милость. Дело в том, что старые ноги раба августейшего повелителя стали совсем плохими».
Цяньлун кивнул, и министр отдал короткое распоряжение двум шедшим впереди копейщикам; гигантская процессия остановилась. Пока на лугу слуги разбивали желтую походную палатку императора, а копейщики очищали близлежащее поле от крестьян, сам Цяньлун, стоявший напротив тяжелобрюхого Ху и министра, чье умное лицо обнаруживало явные признаки усталости, вдруг бессильно уронил руки и вздохнул.
Однако оба высокопоставленных чиновника, в это мгновение смущенно переглянувшиеся, были не правы, предположив, будто Цяньлун вспомнил о Пекине и вздохнул оттого, что ему не терпелось вернуться в столицу.
Император, напротив, пожелал продлить путешествие еще на два дня.
Отсрочка возвращения обрадовала всю свиту.
Сын Неба демонстрировал теперь, пусть и на свой особый лад, совершенную гибкость движений – и всем, кто его сопровождал, это зрелище, от которого они успели отвыкнуть, придало бодрости. Император часами дискутировал то с Суном, чью ученость чрезвычайно ценил, то с грубоватым военачальником Агуем, которого когда-то лично произвел из простого солдата в полковники. Находчивость Агуя действовала на него освежающе; нелепые и забавные выходки этого невежественного мужлана служили источником удовольствия для всего императорского двора.
Пройдя вдоль реки Чаохэ, они перешли по серому каменному мосту Байхэ. За селением Нюланшань свернули к западу, на другую, специальную дорогу, которая вела к горам северо-западнее столицы, где располагались императорские загородные дворцы [174]174
…императорские загородные дворцы.Имеется в виду летняя резиденция цинских правителей – дворцово-парковые ансамбли Юанминъюань и Ихэюань (Парк мира и гармонии), расположенные в 12 км к северо-западу от Пекина.
[Закрыть].
В Пекине, в северной части Маньчжурского города, заранее расчищали и выравнивали улицы, по которым должен был проследовать императорский кортеж; проходы в боковые переулки заколачивали раскрашенными досками; окрестным жителям и солдатам в день приезда императора под страхом смерти запрещалось до полудня покидать дома и казармы: об этом кричали глашатаи, под звуки гонгов и под барабанную дробь. Поскольку астрологи из свиты императора не смогли вовремя вычислить благоприятный час для прибытия в Пурпурный город, это прибытие задерживалось; путешествующее общество провело целый день в северо-западных горах, и тамошние селяне имели счастье слушать чудную музыку придворного оркестра, который все это время почти непрерывно играл над чистейшим озером Куньминьху [175]175
Кунъминьху– большое озеро в центре дворцово-паркового ансамбля Ихэюань – искусственное водохранилище, созданное для обеспечения водой города Пекина.
[Закрыть].
На горе Ваньшоушань, в рощах белоствольных елей, император провел последний день перед возвращением домой; прежде, чем стемнело, он спустился к восточному берегу озера; по мраморному мосту с семнадцатью пролетами добрался до маленького острова, украшенного храмом, в который мог входить только он один; молча встречала его бронзовая корова. В этом храме император говорил со своими предками [176]176
В этом храме император говорил со своими предками.Речь идет об острове Наньхудао (острове Южного моря), на котором стоит Храм Дракона – властелина вод. Остров был искусственно насыпан по распоряжению Цяньлуна и символизирует один из островов бессмертия (Пэнлай). Бронзовое изображение лежащей коровы находится не на острове, а на берегу, возле Семнадцатипролетного моста. Эта статуя тоже была установлена при Цяньлуне – как амулет, защищающий парк и весь Пекин от наводнений.
[Закрыть].
Водяная клепсидра показывала двойной час дракона, когда – на следующее утро – императорский кортеж миновал селение Хайдянь. По мощеной дороге они приблизились к Дианьмэнь, северным воротам Императорского города. Когда Сын Неба узрел пурпурные стены [177]177
…узрел пурпурные стены…То есть когда он приблизился к Запретному (Пурпурному) городу.
[Закрыть], начинался двойной час змеи.
Из всех царевичей только Цзяцин [178]178
Цзяцин(«Прекрасное и радостное правление») – девиз сына Цяньлуна Юнъяня (1760–1820), который стал императором в 1795 г. (еще при жизни отца, передавшего ему высшую исполнительную власть) и правил до 1820 г.
[Закрыть], сын Цяньлуна от старшей императрицы [179]179
…от старшей императрицы…Император мог иметь двух жен, старшую и младшую императрицу, и наложниц, которые различались по рангам (от первого до пятого).
[Закрыть], имел право сопровождать императора в прогулках по садам Пурпурного города. Император в тот день казался необычайно оживленным, под огромным кипарисом он остановился и заговорил со своим неповоротливым сыном, переросшим его на голову. У царевича, хотя он еще не преодолел рубеж сорокалетия, было обрюзгшее, все в складках, лицо – раздавшаяся вширь глыба плоти, – на котором не находилось места для улыбки. Когда этот высокий человек с массивным, круглым затылком радовался, вокруг его маленького упругого рта возникало подобие мерцающей ряби: зазмеившиеся было морщинки отбрасывались назад неподвижными щеками, и потому улыбка как бы трепетала на крошечном островке вокруг губ. Тяжелые веки нависали над глазами. Левый глаз приоткрывался лишь чуть-чуть. Царевич отличался болезненной бледностью. Облик, характер его высочества не поддавались определению; да никто и не мог претендовать на то, что по-настоящему близок к любимому сыну императора: Цзяцину даже простое присутствие рядом с ним людей из его окружения (за очень немногими исключениями) внушало страх. Сейчас царевич нерешительно и равнодушно слушал отца. Он чувствовал к отцу такого рода привязанность, будто тот был благословенным даром, к которому не присматриваются, но с благодарностью принимают. Они беседовали о беспорядках среди мусульман. Цзяцин, по своему желанию и по желанию императора, отказался от возведения вольеров для животных и птиц. Изумрудно-переливчатый павлин расхаживал по мраморным перилам белого мостика [180]180
Изумрудно-переливчатый павлин расхаживал…Павлин в Китае олицетворял свет и день; эта птица считалась также символом красоты и достоинства.
[Закрыть]. Легчайший ветерок морщил отражение этого моста на темной поверхности воды. А еще – слегка приподнимал подол желтого императорского одеяния и шевелил золотые кисти на поясе Цзяцина.
Уже ближайшая ночь принесла в Пурпурный город кратковременные дожди и прохладу. Желтый Владыка позволил себе два дня отдыха. Он сидел в колонном зале своих личных покоев [181]181
Он сидел в колонном зале своих личных покоев…То есть в тронной палате Дворца Воспитания Сердца.
[Закрыть], играл в «выбрасывание пальцев» [182]182
«Выбрасывание пальцев»– игра, во время которой играющие, одновременно разжимая кулаки, выбрасывают пальцы: тот, кто выбросит больше пальцев, побеждает.
[Закрыть]. Туда же поставили его низкий письменный стол из литого золота. Столешница покоилась на спине слона, массивные ноги которого служили для нее опорами [183]183
Столешница покоилась на спине слона, массивные ноги которого служили для нее опорами…В китайской традиции слон считается символом мудрости и благоразумия; это животное для буддистов священно.
[Закрыть]; Цяньлун любил зачитывать свои стихи вслух, обращаясь к длиннолицему Богу Литературы [184]184
…обращаясь к длиннолицему Богу Литературы…Даосское божество, в прошлом, как считается, человек; обычно его изображают держащим кисточку и книгу, на которой надписаны четыре иероглифа, означающие: «Литературный успех определяется небесами».
[Закрыть], статуэтка которого стояла перед изящной маленькой пагодой в центре стола, и к складкам занавеса. Агуй, его «шут», простодушный и храбрый служака, сидел напротив императора на дощечке черного дерева. Коротконогий крепыш с квадратным лицом и прочным затылком. Агуй никогда не терял уравновешенности: его можно было бы заставить неподвижно стоять в углу, а через некоторое время вновь вызвать оттуда – и он вел бы себя так, словно ничего особенного не случилось. Его неотесанные манеры, хриплый смех, грубоватая речь считались при дворе как бы санкционированными и даже культивировались. Но он сам, казалось, не сознавал этого, расстраивался всякий раз, когда невольно нарушал этикет, и, пытаясь проявлять осторожность, делал себя еще более смешным. Он, бывший крестьянин, играл в «выбрасывание пальцев» виртуозно – лучше, чем сам Цяньлун. Придворные поговаривали, будто Агуй не просто скуп и жаден, но, хуже того, ненадежен; будто он – интриган и доносчик, лишь притворяющийся эдаким славным увальнем. Правда, подобные слухи легко связывались с любым человеком, которому удавалось выдвинуться при дворе; Агуй же очень хорошо зарекомендовал себя в трудном походе против народности мяо [185]185
…в трудном походе против народности мяо…Речь идет о подавлении восстания народности мяо в Южном Китае в 1735–1736 гг., когда погибло около 500 000 мятежников.
[Закрыть], что не давало покоя его противникам. Когда капризный старый государь предлагал Агую сразиться в шахматы или заняться другой подобной игрой, элегантные и высокообразованные придворные, которые в это время, например, запускали с террасы для рыбной ловли бумажного дракона, только посмеивались: им казалось, император всего лишь развлекается с глупым «шутом», всерьез же принадлежит только им. Однако на самом деле император в равной мере «принадлежал» и им, завсегдатаям рыболовной террасы, и Агую, и многим другим: для своей жизни он нуждался в разных вещах и людях, но всегда скользил мимоних.








