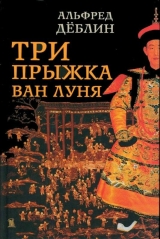
Текст книги "Три прыжка Ван Луня. Китайский роман"
Автор книги: Альфред Дёблин
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 40 страниц)
Важнейшим отличием романов Альфреда Дёблина является не обилие в них конкретных примет действительности (их лавина поражает лишь в «Берлин Александерплац»). Важнейшим является иной принцип изображения: человек и мир познаются через характер их реакций друг на друга.
В немецкую литературу Дёблин вошел как художник, воссоздавший облик современного города. Но его новаторство отнюдь не в теме (изображению города были посвящены, например, и страницы многих произведений натуралиста Макса Кретцера). Новаторство – в способах изображения.
Город Берлин не описан у Дёблина: он живет и действует – существует в его романе.
«Он стоял за воротами тюрьмы Тегель и был свободен. Вчера еще он копал картошку там, сзади, на поле вместе с другими, в арестантском платье, а теперь он в летнем желтом пальто; они там позади копали, а он был свободен. Он пропускал трамвай за трамваем, прислонясь спиной к красной ограде, и не уходил. Караульный у ворот несколько раз прошел мимо него… а он все не двигался с места. Страшная минута пришла (страшная, Франц? Почему страшная?), четыре года кончились. Черные железные створы ворот, на которые он поглядывал вот уже целый год с возрастающей неприязнью (неприязнью? Почему неприязнью?), захлопнулись за ним. Его снова выставили вон. Там, внутри, сидели остальные, столярничали, что-то лакировали, сортировали, клеили… Кому оставалось еще два года, кому пять. Он стоял на остановке. Наказание начинается». Таков первый абзац романа «Берлин Александерплац» о бывшем цементщике и транспортном рабочем Франце Биберкопфе, отсидевшем свой срок за нечаянное убийство, а теперь во что бы то ни стало желающем стать порядочным. Можно прочесть этот абзац, так сказать, психологически – с пониманием и сочувствием к человеку, отвыкшему от свободы и страшащемуся новой жизни. Но тот же маленький кусок текста несет в себе и «информацию» о характере художественного мира, в котором оказался читатель. Привыкнув к законам этого мира, уже нельзя будет уйти от впечатления, что автор поведал нам сразу, с энергичной краткостью, о столкновении двух сил. Одна – человек, только что вышедший из тюрьмы. Но что прижало его спиной к красной кирпичной стене? Что держит его у ворот, несмотря на повторяющиеся самоувещевания «свободен, свободен»? С первых же строк ощутим напор действительности на человека. Еще не описанный, неведомый читателю Берлин уже присутствует в повествовании как сила, перед которой – лицом к лицу с ней – замер герой.
Потом в горячечном воображении оглушенного городом Франца крыши будут соскальзывать с пошатнувшихся зданий, улицы предстанут как бесконечная непроницаемая стена, окружившая человека. Но и в дальнейшем, когда Биберкопф утвердится в своей новой позиции, автор найдет десятки, может быть, менее очевидных, но зато разнообразных способов, чтобы продемонстрировать экспансию города в сознании человека.
Однако и добродушный Биберкопф оказывается не всегда безобидным.
Роман «Берлин Александерплац» часто истолковывался как книга о добром человеке, который меняется под неумолимым давлением обстоятельств. «И пока у него были деньги, он оставался порядочным. Но потом деньги у него кончились», – так писал А. Дёблин о своем герое. Роман, в самом деле, вобрал в себя широкий слой социальной действительности, в том числе и весьма характерную для тогдашней политической ситуации способность среднего человека меняться под давлением обстоятельств. В каком-то существенном смысле Франц Биберкопф и был тем добрым, но слабым человеком, тем «чистым листом», на котором история могла начертать любые письмена. Его участие в грабительских рейдах шайки Пумса-Рейнгольда, о котором мы узнаем позже, как и вся отраженная в романе атмосфера укоренившейся преступности, несомненно, были предвестиями назревавшей в Германии политической катастрофы.
Однако Дёблину интересен не только политический аспект этой проблемы. Как у всякого большого художника, у него есть некий постоянный угол зрения, некая исходная ситуация, в которых запечатлелось характерное для него мировосприятие. Человек в представлении Дёблина всегда противостоит действительности. Биберкопф в качестве последовательно доброго или слабого человека, Биберкопф в роли брехтовского Гэли Гэя (пьеса «Что тот солдат, что этот», 1926), послушно превращающегося на наших глазах из безответного бедняка в жестокого солдата колониальных войск и так повторяющего общий изгиб действительности, не привлек бы внимания Дёблина. Его герой периодически наливается силой. Он вновь и вновь бросается в атаку на жизнь, на устроенный по непонятным законам мир, на Берлин.
Мы ничего не знаем о внешности возлюбленной Франца Мицци, но сразу узнаем о ее мягких руках, о том, как нежно и ласково она прижималась к Францу. Мицци в романе – воплощение мягкости и любви. Она свободна от мук «трения» и даже способна позволить подруге Еве завести ребенка от своего Франца. Мицци будто сошла из рая, где люди и звери живут в полном согласии, «где никто не мучит другого», – рая, ироническое отношение к которому как к некоей немыслимости проходит лейтмотивом по всей книге. Только к концу романа, когда Мицци уже зверски убита дружком Франца Рейнгольдом, мы читаем в полицейском отчете, что одета она была в тот день в черную юбку и розовую блузку. Это сообщение поражает читателя как нечто подсмотренное со стороны, чужим глазом, как нарушение нашего интимного контакта с героиней, как сказанное о той, которую мы узнавали в живой трепетности поступков.
Герой Т. Манна – «рассказанный человек» [357]357
Манн Т.Собр. соч., т. 9, с. 386.
[Закрыть]. О Рейнгольде, роковом друге Франца, нам не рассказано ничего. Лишь один раз мелькает его старая шинель, и по этой детали можно догадаться, что в формировании судьбы Рейнгольда главную роль сыграл не твердый уклад родительского дома, не строгий, одетый в черное дед-сенатор, а война, вытолкнувшая его в деклассированные низы и сделавшая преступником. Мы не знаем внешнего облика Рейнгольда, мы видим только его слабые, волочащиеся, как у больного, ноги, а в сцене ночного грабежа вдруг чувствуем, как его стальная рука мертвой хваткой вцепляется в плечо Франца. Качества палача и жертвы в их конкретном, наглядном, действенном проявлении (слабые ноги, стальная рука) – все это перемешано в Рейнгольде, личности, вобравшей в себя черты времени. Писателя занимает прежде всего характер «сцепления» героя с миром. Не случайно и Франц, сброшенный Рейнгольдом под грузовик, теряет в этом своем первом поражении именно руку – слабеет его способность к борьбе и отпору. «У нас есть ноги, у нас есть зубы, у нас есть глаза, у нас есть руки, пусть-ка кто-нибудь сунется нас укусить… У нас нет ног, ах, у нас нет зубов, у нас нет глаз, у нас нет рук, всякий может сунуться, кому не лень…», – так говорится в романе.
Сама поза и жест у Дёблина материализуют степень внедрения героя в мир, запечатленный момент их соприкосновения, единоборства. «Вот он, довольный, стоит, широко расставив ноги, на берлинской земле, и если он говорит, что хочет быть порядочным, мы можем ему поверить, что он будет таким» – так стоит «утвердившийся» Франц Биберкопф. Но в предыдущей, первой, части романа все выглядело по-другому: «Наш герой стоял в вестибюле чужого дома и не слышал ужасного шума улицы, и не было перед ним обезумевших домов. Выпятив губы и стиснув в карманах кулаки, он хрюкал и подбадривал себя. Его плечи в желтом летнем пальто были приподняты, словно для защиты».
«Мир сделан из железа, с ним нельзя сладить, он надвигается, как огромный каток» – читаем мы в «Берлин Александерплац». Но жизнь человека, по концепции Дёблина, есть «бесконечное прорубание штольни» в этом неумолимо надвигающемся массиве.
3
«Берлин Александерплац», самая знаменитая книга Дёблина, дала критике основания для сопоставления дёблиновского творчества с рядом явлений мировой культуры двадцатых годов.
Этот роман постоянно сравнивали с «Улиссом» Джойса (1922, немецкий перевод 1927) и с «Манхеттеном» Дос Пассоса (1925, переведен в 1927-м). Писали и о близости «Берлин Александерплац» искусству так называемой «новой деловитости», характерному порождению немецкой действительности этого десятилетия.
Следует, однако, отметить не только зависимость дёблиновского типа романа от перечисленных выше образцов, но и его своеобразие: свойственное ему иное пространство художественного мира.
Несомненное соответствие с творчеством Дос Пассоса, Брехта и другими художественными явлениями, типичными для двадцатых годов, обнаруживается в напряженном внимании к тем процессам непрестанного трения, которыми связаны человек и действительность.
В воображении Дёблина, как живая картина, стояла грандиозная механика мироздания, подчиненного законам симметрии, периодичности, сохранения энергии и т. д. Многим его художественным произведениям предшествовали философские эссе и книги, писавшиеся ради решения последних вопросов, ради уяснения собственной концепции бытия. В 1927 году Дёблин опубликовал фантастическую «эпическую поэму» «Манас», написанную по мотивам восточного фольклора. Ей предшествовала философская работа «Я над природой», вызревавшая в течение первых послевоенных лет. Роман «Берлин Александерплац» также был воплощением, а отчасти и преодолением идей философской книги Дёблина «Наше бытие», опубликованной лишь в 1933 году. Дёблина как автора философских книг гипнотизировала масштабность единых для всего сущего процессов. Практикующий врач Дёблин пытался смотреть на природу с позиций натуралиста. Если для Томаса Манна дух был прерогативой человека, а человек – центром Вселенной, то Дёблин посвятил книгу «Наше бытие» обзору человеческого, животного, растительного, органического и неорганического миров, чтобы патетически восславить их единообразие. Расширяя понятия «поступок» и «действие» до таких пределов, чтобы они охватывали и физиологические процессы в организме, Дёблин объединял людей, животных, растения, вообще органическую природу на основании того, что всем им присущи одинаковые процессы обмена веществ, роста, распада. Но его страсть ко всеохватывающей системности этим не исчерпывалась: особый пафос Дёблин вкладывает в описание роста кристаллов, протекающего по тем же законам симметрии, что определяют строение человеческого организма «Человек как минерал» названа одна из глав «Нашего бытия». Томас Манн видел мир в четких разграничениях и, в отличие от своего персонажа композитора Леверкюна, не был склонен уравнивать неодинаковое. Дёблин, напротив, со страстью включал органическое в систему неорганической природы, видел общее – «торжество числа» – в движении небесных светил, расположении жилок на древесном листе, симметрии человеческого тела.
Натурфилософские работы Дёблина не имели научного значения хотя бы потому, что проповедовали давно известное и при этом – в духе вульгарного материализма («Бернары!» – мог бы воскликнуть Митя Карамазов). Однако они обладают колоссальной значимостью как документы, выражающие муку художника, который до известного момента, до начала работы над «Гамлетом», полагал, будто человек наглухо заперт в механизме космоса. В разные годы в своих работах Дёблин подчеркивал то одухотворенность мира – и тогда человеческое «я» оказывалось связанным со сверхчувственным «я» природы (эссе «Я над природой»), – то его мертвенную механистичность. Но свобода личности в обоих случаях могла быть только мнимой: по убеждению Дёблина, лелеющий свою независимость человек пронизан токами изменяющей его действительности [358]358
Натурфилософские книги Дёблина соприкасаются с экзистенциализмом, переосмысляющим мир с позиций личности. Сам Дёблин осознал эту связь в тридцатые годы, в пору своего увлечения Кьеркегором, который сыграл огромную роль в формировании различных экзистенциалистских концепций XX века.
[Закрыть].
Роман «Берлин Александерплац» подтверждает (на разных уровнях) интерес Дёблина к трению материальных поверхностей жизни, ко взаимному сцеплению отдельных ее элементов, к тем самым процессам сочленения, зажима и внедрения, о которых писали в 20-х годах теоретики конструктивистской архитектуры.
Именно как столкновение предметов изображено в романе убийство Иды: сильным двукратным ударом Франц «привел в соприкосновение» с грудной клеткой своей подруги венчик для сбивания сливок. То, что произошло дальше, тоже показано через геометрические образы и физические формулы: тело Иды «приобретает горизонтальное положение», ее ребра ломаются «согласно законам упругости, а также действия и противодействия», и т. д. и т. п. Человек рассмотрен как физическое тело, включен в механику всеобщего круговращения. (Любопытно вспомнить в этой связи аналогичный пример из «Улисса» Джойса, когда Блум, лежа в постели, рассказывает Марион о прошедшем дне: «В каком направлении лежали слушательница и рассказчик? Слушательница на восток – юго-восток; рассказчик на запад – северо-запад, на 53 градусе северной широты и 6 градусе западной долготы; под углом в 45° к земному экватору. В каком состоянии – покоя или движения? В состоянии покоя относительно себя и друг друга. В состоянии движения, поскольку обоих уносило к западу непрерывающимся движением Земли»).
Подобно близким ему романистам-современникам (Э. Кестнеру, Г. Кестену, Дос Пассосу), Дёблин строил сюжет «Берлин Александерплац» как множество лишь однажды соприкасающихся, а затем обрывающихся линий. В романах немецкой «новой деловитости», как и в «42-й параллели» или «Манхеттене» Дос Пассоса, появлялись десятки персонажей – и тут же бесследно исчезали. Человек рассматривался как отдельный кирпич, как строительный блок в огромном здании целого. Он был носителем не столько индивидуальных, сколько общих характеристик. Прослеживать дальше его судьбу (или хотя бы упомянуть где-то вновь, намекнув на неслучайность его присутствия в романе и в жизни) не имело смысла, так как ничья индивидуальная судьба не несла в себе влияющего на жизнь содержания.
Как и многие писатели двадцатых годов, Дёблин скептически смотрел на возможности человека – «части и противочасти мира» [359]359
Döblin A.Unser Dasein. S. 30.
[Закрыть]. «Нельзя требовать от человека слишком многого!» – назвал он одну из глав «Нашего бытия». «Тот, кто потребует от человека слишком многого, – варьировал ту же мысль Герман Кестен, – придет либо к разочарованию, либо к насилию» [360]360
Kesten H.Der Scharlatan. Roman. Wien, München, Basel: K. DeschVerlag, 1965, S. 182.
[Закрыть]. По существу, не менее скептичен был в этом отношении и Бертольт Брехт. В рядах немецкой революционной литературы, с которой он все теснее сближался к концу двадцатых годов, не существовало другого писателя, который столь же придирчиво относился бы к духовной высоте и доброте человека («Такие люди есть, но их не так много», – будет сказано потом в его пьесе о стойком пролетарии и бунтаре Матти). Отличаясь от Дёблина верой в возможность изменения жизненных обстоятельств революционным пролетариатом, Брехт не слишком верил в возможности отдельного человека.
Несмотря на стремительные взлеты и падения в судьбах персонажей писателей двадцатых годов (материальный успех и внезапное разорение, любовь, человеческая близость и обязательно следующий за ней разрыв), скачки сюжета в конечном счете выравнивались в прямую линию, столь любимую архитекторами-конструктивистами [361]361
«В современном городе должна господствовать прямая линия… Прямая линия оздоровляет город», – писал Ле Корбюзье ( Ле Корбюзье.Архитектура XX века. М.: Прогресс, 1978, с. 29).
[Закрыть]. Благородство и доброта на редкость бессильны, всякое высокое чувство тотчас снижается его практической бесполезностью… Эта литература – а вместе с ней, несомненно, и Дёблин – была сосредоточена не на процессе развития, приводящем к новому качеству. Процесс казался неизменным, обозримым и вечным: он сводился к бесконечному трению. Вдуматься следовало не в сцепление причин и следствий, а в толщу и сутолоку одновременных событий, их рядоположенность ( Nebeneinander).
Не менее существенны, однако, и различия.
Если бы роман «Берлин Александерплац» был выстроен автором на одной лишь горизонтальной плоскости, если бы, нарушая классические каноны, этот роман показывал бы, подобно многим характерным произведениям двадцатых годов, лишь втянутость человека в тысячи внешних материальных зависимостей, он в принципе не отличался бы от замечательного по-своему образца литературы подобного рода, уже упоминавшегося нами в связи с творчеством Дёблина; «Манхетгена» Дос Пассоса. Излюбленная Дёблином «симультанность» [362]362
Сам Дёблин видел истоки этой техники в экспрессионизме.
[Закрыть]предстала бы тогда лишь во внешнем ее проявлении – как одновременность не связанных между собой существований. Таких примеров действительно можно найти в дёблиновском романе сколько угодно.
Но существо расхождений Дёблина с «новой деловитостью» и родственными ей явлениями в мировом искусстве двадцатых годов как раз и состоит в том, что «Берлин Александерплац» отнюдь не сосредоточен лишь на ситуации времени, замкнувшей в себе человека. Дёблин будто ведет с читателем двойную (а может, и тройную) игру. В книге присутствуют все приметы распространенного в двадцатых годах мироощущения с его безысходностью и цинизмом, отразившимися в горькой сатире рисунков Отто Дикса и Георга Гросса, в песенках Вальтера Меринга, в стихах и прозе Кестнера. Но в нем есть и насмешка над ограниченностью подобного восприятия жизни.
На каком-то уровне повествования Дёблин, как и многие авторы «новой деловитости», представил читателю мир в момент, о котором еще не успело сложиться суждение. «За сейчас следует новое сейчас», – писал он в цитировавшейся выше философской книге [363]363
Döblin A.Unser Dasein. S.216.
[Закрыть], будто обосновывая жизнью, какой она ему представлялась, одно из главных своих требований к современному эпическому роману: роман не есть повествование о прошлом, как часто считают, его эстетический смысл – не в упорядочивающем обзоре уже отошедших в небытие событий; действие романа, даже относящегося к прошлому, всегда разыгрывается перед читателем в настоящем [364]364
Döblin A.Der Bau des epischen Werkes (1929). – In: Döblin A.Die Vertreibung der Gespenster, S. 467.
[Закрыть]. «За сейчас следует новое сейчас…»
Однако миг текущего времени, «сейчас», наполнен у Дёблина, в отличие от многих авторов «новой деловитости», огромным напряжением: именно здесь происходит реализация всех скрытых в действительности энергий, здесь сталкиваются, вызывая вспышки и взрывы, разнозаряженные полюса жизни. Ни рассказ о прошлом, ни предчувствие будущего не сравнимы с этим моментом по интенсивности. Для Дёблина они – лишь слабый отблеск того, что каждый человек чувствует сию минуту.
В романах писателя прошлое и будущее так или иначе втянуты в настоящее. С плеч полководца Тилли в экспрессионистическом эпосе «Валленштейн» свисают, цепляясь за воротник, рукава, пояс, целые полки давно погибших солдат. Но и в последующие годы, когда экспрессионистическая техника вошла как органическая часть в реалистическое письмо Дёблина, он не выносил того, что называл «репродуцированием» действительности (а Брехт в те же годы – ее «пустым отражением»). Его не устраивало, например, натуралистически точное описание трупов на поле боя. По Дёблину, в той же реальности должен присутствовать и страх еще не погибших солдат, и муки и счастье родившей их матери. Время и жизнь в романе организованы по принципу, действовавшему в Библии: «Уже входят в дверь те, кто вынесет тебя отсюда». Важен каждый отрезок времени, каждое «сейчас», в котором «даны одновременно не только жизнь и бытие, но также исчезновение и полная смерть» [365]365
Döblin. A.Unser Dasein, S. 217.
[Закрыть].
Дёблин воспринимает действительность в той ее нерасчленимости – перемешанности разных слоев и фактов, отзвуков прошлого и предчувствий будущего, – в какой она видится живущему, действующему человеку.
Но толща сиюминутности разверста и вглубь. В тексте «Берлин Александерплац» то и дело наталкиваешься на ироничные оповещения об этом, третьем измерении. Нам видны строки письма, заклеенного в плотный конверт, да к тому же опущенного в почтовый ящик. Нам сообщают о содержимом желудка только что отобедавшего человека. Мир показан как нечто, совершающееся во внутреннем и во внешнем. «Здесь я стою, здесь я умираю, говорит любая страница», – писал Дёблин о своем многослойном видении жизни еще в 1917 году. Дальше следовала знаменитая формула: «Если роман нельзя разрезать, как дождевого червя, на десять отдельных частей и каждая часть не будет двигаться самостоятельно, он никуда не годится» [366]366
Döblin A.Bemerkungen zum Roman, S. 448.
[Закрыть].
Эта идея часто понималась литературоведами как требование линейной организации материала, обязывающее делить сюжет на серию коротких сцен. В ней видели принцип «новой эпичности», детально разработанной в театре Брехта, но находившей и множество других параллелей (так был построен, к примеру, «драматический роман» Фейхтвангера «Томас Вендт», 1920). Суть данного приема, однако, для Дёблина состоит не столько в членении сюжета, повышающем внимание к каждой сцене и, напротив, снижающем интерес к итогу-развязке, сколько в содержательности каждого «отрезка», его «протяженности» в глубину. Объясняя свою мысль, Дёблин приводит примеры из мировой литературы. Ганечка Достоевского, бросающий банкноты в огонь, Дон Кихот, сражающийся с ветряными мельницами, – каждая из этих сцен, писал Дёблин, затрагивает глубинные основы человеческой психики в их сцеплении с ситуацией в мире, в каждой полностью выражен характер отношений героя к жизни, так что, по существу, отпадает необходимость в дальнейшем сюжетном развитии, в каждой сжаты прошлое и будущее, истоки и перспективы.
В отличие от многих авторов «новой деловитости» Дёблин постоянно предлагает читателю не ограничиваться объективной данностью, попытаться постичь глубинный смысл жизни. Через все его творчество как некий сигнальный знак проходит многозначительное у этого автора слово «бурить». Можно еще не почувствовать его необычной нагрузки, когда в романе «Три прыжка Ван Луня» мы читаем: «На юго-востоке, над болотом Далоу, уже давно сияла нитевидная каемка облака; но теперь солнце пробурило сквозную дыру воронку, – и оттуда ударили длинные лучи,под которыми зелень травы и деревьев разгоралась все ярче», – можно, хотя фраза переполнена обычной для Дёблина энергией взаимного столкновения. Но и более чем через тридцать лет, в романе «Гамлет», дознание, которое станет вести герой, будет определено все тем же словом. В «Берлин Александерплац» бурят саму площадку города, бурят с особенным рвением в районе Алекса, где скрещиваются пути героев. Земля разворочена и разрыта. Приходится перебираться через глубокие рвы по доскам. Строят метро, подземку. Но эта фактографическая деталь, которая могла бы встретиться в газетном очерке о Берлине 1928 года, имеет у Дёблина и вневременный, символический смысл. Читателю предлагается заглянуть в скрытые под поверхностью жизни бездны.
Но расхождения с «новой деловитостью» не исчерпывают ся этим.
В романе «Берлин Александерплац» Дёблин отчасти отказался от представления о неспособности человека вырваться из железных оков материального мира. Это означало огромный сдвиг в творчестве писателя, проявившийся не только в романе, но и в предшествовавшем ему стихотворном эпосе «Манас».
Дёблин начинал, как мы помним, с полного изгнания всякой субъективности, в том числе субъективности автора и героя. Сознание Ван Луня в романе не было представлено – только реализация этого сознания в поступках. «Мне не нравилась лирика, – писал Дёблин в 1948 году о своем раннем творчестве, – я хотел лишь течения событий, происшествий, образов – каменного фасада, а не психологии» [367]367
Döblin A.Epilog. – In: Döblin A.Die Vertreibung der Gespenster, S. 140.
[Закрыть].
Отменив свои ригористические требования к эпосу, Дёблин ввел в роман «Берлин Александерплац» думающее, чувствующее, страдающее «я» героя и автора. Совершился прорыв сквозь непрозрачную кору действительности, имевший для Дёблина колоссальные художественные следствия. Эпик, задачей которого было, как он считал, обращать внимание на объективное и внешнее, впервые заглянул внутрь. Во взаимодействие с материальной поверхностью жизни вступил поток сознания человека. Главная художественная коллизия творчества Дёблина – столкновение и трение – по-новому раскрылась на этой новой творческой фазе. Но тот психологизм, который разрешил себе автор, без которого он теперь считал невозможным глубокое постижение мира, по-прежнему существенно отличался от психологизма Томаса Манна и Гессе.
Отражение сиюминутности сочеталось отныне в творчестве Дёблина с постоянным присутствием «я». «Слово „есть“, – писал Дёблин в книге „Наше бытие“, – так же не сопоставимо со словами „было“ и „будет“, как никакое другое слово не сопоставимо со словом „я“» [368]368
Döblin A.Unser Dasein, S. 214.
[Закрыть]. В «Берлин Александерплац» Дёблин, по сути, развивал свой старый тезис о непосредственном восприятии жизни, без всяких прослоек и дистанций, – в момент ее течения, вдобавок не кем-нибудь, не другим, не третьим лицом, но именно «мною»: «В мир входят только через ворота „я“» [369]369
Ibid., S.15.
[Закрыть].
Вальтер Беньямин отметил в рецензии на «Берлин Александерплац», что автор долго не дает своим героям слова, лишает их возможности заговорить [370]370
A Döblin im Spiegel der zeitgenossischen Kritik / Hrsg. von Y. Schuster und J. Boder. Bern und München, 1973. S. 252.
[Закрыть]. На первых десятках страниц Франц Биберкопф, действительно, почти не разговаривает – он стонет, охает, мычит, хрюкает, издает, подобно немой скотине, нечленораздельные звуки. Потом его звучащая в диалогах речь то и дело замещается тем, что раздается в его душе. Фиксация такого – не произносимого вслух – слова порой занимает целые страницы. Но внутреннее слово дёблиновского героя совсем не похоже на внутренний монолог Гёте в романе Томаса Манна «Лотта в Веймаре».
Т. Манн и Г. Гecce прибегали к этой технике в момент высокого духовного напряжения героя, когда он прозревал то, чего не было в окружающей материальности, что пока могло осуществиться только как мысль, как работа духа. Параллель к дёблиновскому методу скорее следует искать не у упомянутых писателей, а у Джеймса Джойса. «Поток сознания» создает в обоих случаях эффект присутствия читателя при душевной работе персонажа. Человек увиден не только снаружи, но и изнутри. Отпадает необходимость описывать внутреннюю жизнь или характеризовать ее через «соответствующую» состоянию героя обстановку. Внутренняя жизнь, как и внешние события, при таком методе предстают без опосредований: они просто свершаются.
Читатель вынужден сам разносить отдельные слова и реплики, отзывающиеся в душе героя, по их принадлежности тому или другому персонажу. В тексте дёблиновского романа они часто следуют друг за другом нерасчлененным потоком. «Руки, как лед, ноги, как лед, вот значит кто» (это сознание Мицци за несколько секунд до изнасилования и убийства Рейнгольдом). «Теперь ложись и будь ласкова, как полагается» (услышанная ею реплика Рейнгольда). «Это же убийца» (оставшаяся непроизнесенной ужасная догадка). «Подлец, негодяй!» (то, что только и вырвалось наружу – как оборона, отпор, активное действие). Результатом такой манеры письма стала необычайная энергия стиля, его экономность и многослойность. Были представлены не только действия, но и реакции, трепещущее сознание героев. Благодаря разработанной Дёблином технике ему удается втянуть в калейдоскоп романной действительности десятки персонажей.
В «Улиссе» Джойса поток сознания представлен на нескольких срезах – на уровне бессознательного, на уровне обыденного мышления и, наконец, на уровне высокого интеллектуализма. В романе Дёблина нет интеллектуала, подобного Стивену Дедалу, и внутренняя жизнь его героев уже поэтому менее духовна. Впрочем, что значит менее духовна? Поток сознания запечатлевает порывы низменные, но и высокие, подсознательные и разумные – остающиеся, однако, у необразованных героев Дёблина неготовыми для оформления в слове. Проблема инстинкт / разум у Дёблина не решается однозначно. Во многих своих романах писатель подчеркивал присутствие в человеке бессознательных, темных и страшных движений души, его неспособность сопротивляться воздействующему на него потоку. Представление о том, что человек все-таки способен оказывать сопротивление, появляется и постепенно усиливается лишь в позднем творчестве Дёблина. До этого Дёблин всегда считал, что человек «не сильнее волны, которая его несет» [371]371
Döblin A.Ulysses von Joyce (1928). – In: Materialien zu A. Döblin «Berlin Alexanderplatz» / Hrsg. von I. Prangel. Frankfurt-am-Main: Suhrkamp, 1975, S. 50.
[Закрыть]. «Поток сознания» открывает читателю сложную смесь из мыслей и чувствований героев. Произнесенное же слово в сравнении с непроизнесенным кажется негибкой, застывшей материей, из-за своей однозначности не способной передать богатство оттенков внутренней жизни.
О романе «Берлин Александерплац» нередко писали, что его автор перенял технику потока сознания у Джойса. Сам Дёблин неоднократно признавал свою близость к Джойсу, как и то, что он восхищен Прустом, но при этом с обидой подчеркивал, что не нуждался в заимствованиях [372]372
Об отношении Дёблина к Джойсу см.: Materialien zu Alfred Döblins «Berlin Alexanderplatz», S. 44. 48–52. О М. Прусте Дёблин писал в статье «Mit dem Blick zur Latinität» (1930). – Döblin A.Die Vertreibungder Gespenster. S. 401.
[Закрыть].
Для Дёблина в потоке сознания скрыта своя актуальность. Специфически дёблиновский смысл этой техники сводится к возможности показать трение внутреннего и внешнего пластов действительности, т. е. все то же внедрение жизни в сознание человека («бурение»), «Франц вырывает через стол газету из рук толстухи. Там рядом два снимка, что, что, ужасный омерзительный страх, это я – я ведь, это ведь я, почему же из-за дела на Штралацерштрассе, почему же, омерзительный страх, это ведь я и рядом Рейнгольд, подпись: убийство, убийство проститутки в Фрейенвальде, Эмилии Парзунке из Бернау. Мицци! Что же это такое – я». Содержание отрывка можно обозначить разговорным словом «дошло!». Мастерство Дёблина в том, что он показал, как«доходит». Строй фразы, повторы, прерывистость мысли, спотыкания демонстрируют сопротивление сознания, его неготовность воспринять факт. При этом поток действительности шире «потока сознания» героя. Отрывков, вроде приведенного выше, в романе Дёблина бесчисленное множество. «Поток сознания» никогда не растягивается, как у Джойса и Пруста, на десятки страниц: он то и дело прерывается, перемежается, сталкивается не только с разнообразными формами материальной действительности, но и с представленным короткими врезками сознанием многих других героев, а также, что еще более важно, с потоком сознания автора.
Появление автора на страницах «Берлин Александерплац» особенно значимо. Отчасти авторское сознание централизует, собирает повествование в единый фокус, – такое сознание отсутствовало в «Улиссе» Джойса и в «Ван Луне» самого Дёблина. Вместе с тем задачи этого автора-рассказчика не традиционны.
Повествователь у Дёблина – не скрытый от читателя всеведущий автор. Он пребывает внутри романа, живет в романной действительности. Повествователь у Дёблина – это еще один звучащий в романе голос, еще одно сознание, комментирующее, оценивающее, вслушивающееся и вглядывающееся в главную действительность романа Но, вслушиваясь и вглядываясь, комментируя и оценивая события и героев, дёблиновский повествователь – и в этом его отличие от рассказчиков у Томаса Манна – никогда ничего не описывает, не «повествует» о той реальности, которая ему открывается. Он не может этого сделать хотя бы уже потому, что точка зрения, с которой он видит действительность, все время меняется. Кругозор повествователя то слит с кругозором героев (в совершенно необычной мере), то охватывает иные просторы. Его голос то почти теряется в шуме действительности, то звучит с определенной дистанции.








