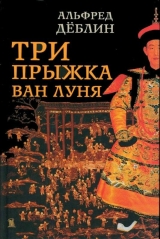
Текст книги "Три прыжка Ван Луня. Китайский роман"
Автор книги: Альфред Дёблин
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 40 страниц)
Среди ночи женщина соскочила с кровати, на прощание махнула рукой спящему мужу, погладила спокойно дышавших детей и вышла в ночную синеву, зашагала по широкому капустному полю, а дальше, за залежным полем, высилась крутая гора, в склоне которой были вырублены ступени, чтобы люди в определенные месяцы могли подниматься к Будде. Наверное, в ту ночь на гору взбирались и другие сельчане, потому что пока женщина лезла вверх, она замечала свежие следы выпачканных в земле босых ног. Она испытывала сильный страх, так как лестница, казалось, не имела конца, – и боялась, что ей не хватит сил. Но она все-таки шла и шла; по пути нагоняла других людей; вдруг они все заскользили вниз, в какую-то впадину, а потом, получив таким образом разгон, стали возноситься выше и выше, вовсе не переставляя ноги. Наверху, на плоской вершине горы, сидел верхом на осле, подтянув колени, Бог, двое – с зонтиками, веерами и фонарями – стояли позади него и держали осла за уздечку; смотрели они дружелюбно. Бог тоже улыбался; у него было узкое удлиненное лицо с козлиной бородкой; ступни он закутал полой серого плаща. Женщина пристроилась в самый конец цепочки паломников и, опустив голову, ждала своей очереди. Когда служители подали ей знак, она нерешительно вступила в круг света; Бог прикоснулся тонкой рукой, которая от света фонарей сделалась прозрачной, словно белый нефрит, к ее волосам и спросил, чего она хочет, наказав ей повернуться к нему спиной и только потом отвечать. Она, запинаясь, начала говорить, и при этом чувствовала себя так, будто и сама была из прозрачного нефрита. Потом снова повернулась к Богу; он нагнулся и шепнул ей на ухо одно странное слово, после чего тихо сказал, что теперь она может вернуться домой – и все будет хорошо. Она сложила ладони перед лицом и так стояла некоторое время, пока один из служителей не проводил ее к лестнице.
Прошло все лето, прежде чем женщина – которая теперь только изредка выходила в поле, а чаще сидела возле могильного холмика – после окончания жатвы крепко прижала к себе детей и потом, отпустив их, опять направилась к лестнице. Карабкаться вверх было приятно: ноги болели, но это приносило чувство удовлетворения; ей казалось, будто она поднимается на гору целую ночь. Она шла совсем одна: в этот месяц не принято было навещать Бога, но она, добравшись до вершины, взглянула в лицо суровому старому стражу и потребовала, чтобы он ее пропустил: она, мол, имеет на это право, которое никто не может оспорить. Страж, опечалившись, повел ее к темной, чудовищных размеров площадке и сказал, что Бог здесь, на месте, – ей надо только обратиться к нему. Она сразу же закричала: назвала свое имя, обвинила Бога в том, что он ей не помог. Он ответил откуда-то издалека: „Чего ты от меня хочешь, женщина?“ Она раздраженно крикнула: „Не ты должен спрашивать, а я. Я хотела умереть. Но ты дал мне утешительное слово, удлинил мою жизнь. Так чего же тыхочешь от меня? Я для того и пришла к тебе. Шла всю ночь, чтобы спросить тебя об этом“. Жестко, теперь совсем близко от нее, тот же голос спросил: „Где ты оставила детей? Кто этим летом заботился о просе на твоем поле?“ „Ты должен мне помочь; с моими детьми все в порядке; что же до поля, то это никого, кроме меня, не касается“. „Мое слово не помогло тебе, потому что ты слишком упряма, женщина“. „Да ты просто все лето водил меня за нос, ты – каверзный бог!“ „Женщина, ты сама не захотела помочь мужу и себе“. Она вдруг захохотала: „И этоты называешь утешением?“ А больше не сказала ни слова. Оттого, что нахмурился его узкий лоб, внезапно возникший прямо перед ней, она вся как-то сникла и камнем полетела в пропасть, до самого подножия лестницы, – а потом, ударившись оземь, взмыла к облакам. И затерялась среди звезд, вде и носится до сих пор, став метеором, – вместе с сонмами других таких же бездомных – перед облачными вратами. Ты меня понял, Ван Лунь?»
Тот сидел с опущенной головой; кивнул: «Я получил от тебя намек и должен его принять. Я не стану давать пощечину собственной судьбе; но поверь, Желтый Колокол: никакие решения не помогут человеку, если он неспокоен. Решениями – силой – ничего в себе не изменишь. Все должно прийти само собой».
Внезапно он поднял посерьезневшее лицо к Желтому Колоколу: «Ты радуешься из-за меня. И я тоже радуюсь, потому что сегодня получил твой намек и у меня опять все будет хорошо. Я чувствую, дорогой брат, что у меня все будет хорошо. Я опять начинаю любить людей. В каком же смятении я пребывал – а теперь опять могу выпрямиться во весь рост, спокойно ходить по земле и носить на руках наше дитя, у-вэй!»
«Горе нам, Ван, что мы вынуждены носить его на руках, не расставаясь с мечами и топорами! Горе тем, кто нападает на нас – нищих, добрых!»
«Это не должно нас заботить, дорогой брат. Они не смогут причинить вреда нашему у-вэй. Мы, только мы идем правильным путем, ведущим на Вершину Царственного Великолепия. Я хочу жить до тех пор, пока смогу защищать наше благое учение. Знаешь, этой ночью я собирался бросить вас и уйти с разбойниками. И я не забуду ее – этой ночи, когда во второй раз очутился на перевале Наньгу!»
Желтый Колокол держал левую руку Вана, вновь и вновь ее гладил: «Это ты, именно таким я хотел тебя видеть – да ты такой и есть, мой дорогой брат. Лихорадка оставила тебя. Нас могут уничтожить; но кто сумеет справиться с нами?»
Они поднялись; по просьбе Вана Желтый Колокол пошел рядом с ним по улицам. Через час они оказались на поросшей низкой травой зеленой поляне, которую пересекал мелкий ручей. Уверенно и широко шагал Ван Лунь; Желтый Скакун висел на веревке, обвязанной вокруг его шеи, – и покачивался, обнаженный, поверх синей безрукавки; островерхая соломенная шляпа прикрывала лоб Вана, перечеркнутый наискось красным шрамом; властные глаза на загорелом лице щурились от солнца. Длинноногий Желтый Колокол тоже делал большие шаги; он шел ссутулившись, в серой куртке и серых штанах, в соломенных сандалиях на босу ногу, как и Ван; ввалившиеся виски, глубоко посаженные глаза с лучистым черным взглядом, развевающаяся борода. Жаворонки и зяблики пели над ними.
Ван показал пальцем на городскую стену, улыбнулся: «В горы Наньгу мы сегодня не пойдем».
Они растянулись на берегу ручейка, помолчали. Желтый Колокол пробормотал: «Немного у меня еще будет таких дней. Недолго осталось мне нежиться в зарослях гаоляна. Когда-то я лежал вот так же в Тяньцзине, с Ма Ноу, и потом, около ламаистского монастыря, тоже ласково светило солнце. Но солевары постучали в ворота, и мы испугались. Лян Ли тогда сидела рядом со мной».
«Ты не забыл эту сестру, брат мой Желтый Колокол».
Полковник махнул рукой: «Когда светит солнце, Желтый Колокол всегда думает о Лян Ли из Тяньцзина; когда же оно не светит, удивляется, почему оно померкло и почему он позабыл свою Лян».
«Она ведь умерла в Монгольском городе…»
«Ван, она сейчас в Западном Раю. Иногда, когда с Запада плывут белые облака, я вижу просвечивающие сквозь них черты ее тонкого и умного лица».
Отдаленные звуки труб. Неопределенный шум из домов, расположенных выше по склону. Непрерывно щебетали птицы – темные, подвижные комочки высоко в небе. Ван подтянул колени, перевернулся на бок, неловко поднялся на ноги и загляделся на птиц, как они падают и опять взмывают в вышину, на маленький ручеек. Он снял соломенную шляпу, вытащил голову из веревочной петли, на которой болтался его меч, потом воткнул меч в мягкую землю, повесил шляпу на рукоять, взмахнул руками и принял такую позу, будто собирался взять разбег: «Вставай, братец Желтый Колокол, я буду прыгать!»
Прыжок – и он очутился на другой стороне ручья: «Сейчас я в горах Наньгу. Ма Ноу осуществляет то, что хотел осуществить я. И все складывается плохо. Я опять должен прыгать».
Он снова перемахнул через ручей, обратно к своему мечу, шляпу порывом ветра снесло на другой берег: «А сейчас я в Сяохэ. Хорошее было время, Желтый Колокол. Плотина, Хуанхэ, Янцзы; я даже женился. Братья пришли за мной, но я еще не с ними, я не могу последовать за ними так быстро. Рази же, мой Желтый Скакун! А сейчас…»
Он в третий раз перепрыгнул через ручей: «Где я сейчас? Опять в горах Наньгу – с тобой, Желтый Колокол. Твой намек был хорош. И разбойники были хороши. Я вернулся из Сяохэ, я снова дома, в Чжили. Прыгай же ко мне, дорогой, дорогой брат: и захвати моего Желтого Скакуна, потому что здесь придется сражаться!» – Желтый Колокол уже стоял рядом с ним.
Они, обнявшись, смотрели на журчащую быстротекущую воду. «Это Найхэ», – засмеялся Желтый Колокол. Они обнялись крепче. Ван опустил голову, тихо вздохнул: «Да, Найхэ. По-другому не выйдет». Желтый Колокол тоже слегка дрожал: «Я надеялся на лучшую судьбу для всех нас. Мне не хочется покидать цветущую Срединную страну».
Вечером того «дня трех прыжков» две благородные дамы, горожанки, потребовали, чтобы их провели к Вану. Первой в тихий ямэнь, где сидел на циновке Ван, вошла элегантная стройная госпожа. Она редко приподнимала левое веко; но все же можно было рассмотреть, что на этом глазу у нее большое бельмо. Другая женщина – полненькая, очень красивая – держалась менее уверенно, чем та, элегантная. Первая дама представилась как Бэй, вторая – как Цзин. Усевшись на циновки, обе ждали, когда Ван обратится к ним с приветствием. И старшая не смутилась, услышав резкий вопрос: чего, собственно, они хотят. Они обе, сказала старшая, родом из Пурпурного города. Но еще до осады Пекина им пришлось оттуда бежать. Они хотят предложить «поистине слабым» свои услуги. Далее госпожа Бэй пространно рассказала о своей судьбе, а под конец объяснила, что она и сейчас может проникнуть в Пурпурный город, чтобы посредством колдовства истребить нынешних представителей Маньчжурской династии. До Вана уже доходили кое-какие слухи об этой колдунье. Некоторое время он сидел молча. Потом спустился с помоста, поблагодарил обеих дам, попросил их оставить ему свои адреса и вызвал двух солдат, чтобы они проводили женщин до дома. В тот вечер Ван долго не мог успокоиться, обдумывал это дело. Сперва он послал за Желтым Колоколом; но тут же отменил свое распоряжение, велел вернуть гонца. Он хотел сам, без чьих бы то ни было советов, прийти к какому-то решению. И в задумчивости расхаживал по двору. Получен новый знак. Предвещающий, совершенно неожиданно, конец маньчжуров. Следует ли ухватиться за такую возможность – или все-таки нет? Значит, им, «поистине слабым», еще не пора отправляться за Найхэ! Но тут вернулось первое ощущение: гадливости. Что-то в предложении двух дам казалось неприемлемым. Предложение и само по себе было гадким, нарушающим осмысленность целого; кроме того, оно пришло извне и даже не походило на тактичный намек, а только мешало естественному ходу вещей. То, что он, Ван, пережил вместе с Желтым Колоколом на берегу ручья, несло на себе печать непреложности, посягать на которую никто не был в праве. Не убивать! Все пути вели к этому.
И еще прежде, чем наступила ночь, Ван послал четырех солдат под началом младшего командира, чтобы они выпроводили дам из города. Пригрозив, что, ежели те еще раз попадутся на глаза, розог им точно не миновать.
Все решено и исполнено, радовался Ван. Он заснул счастливым. И ему приснилось, будто он стоит под сикомором, обхватив руками ствол. Над головой у него непрерывно разрасталась зеленая крона дерева; так что когда тяжелые ветви опустились, Ван оказался запеленутым, спрятанным в прохладную листву – и стал совершенно незаметным для тех многочисленных людей, что проходили мимо дерева и любовались его неисчерпаемой мощью.
ПОСЛЕ ТОГО, КАК
все провинциальные войска цзундуЧжили, Чэня Жуаньли, подошли к Дэчжоу, осажденных повстанцев спровоцировали на вылазку – и разбили. Затем Чэнь Жуаньли вернулся в свою провинцию. ЦзундуШаньдуна и маньчжурские знаменные войска, возглавляемые Чжаохуэем, встречали бежавших «братьев» у западной дамбы Императорского канала. Командующий войсками наместника вступил в серьезный бой с отчаянно храбрыми повстанцами, которые все-таки сумели переправиться через канал и остановились, ожидая дальнейшей атаки противника, на равнине перед городом Линьцином, к востоку от канала. Здесь развернулось новое, более масштабное сражение, в ходе которого солдаты загнали остатки повстанцев в город. «Поистине слабые» заранее укрепили городские стены и ворота, так что правительственным войскам пришлось подвергнуть Линьцин осаде.
Членов союза было теперь не больше, чем когда-то приверженцев Ма Ноу – около пяти тысяч, среди них много женщин. Ван Лунь и Желтый Колокол получили только легкие сабельные ранения. У Го же вся правая рука, до плеча, была раздроблена. Этот красивый человек с трудом держался на ногах, но все равно, готовясь к финальной битве, пытался научиться сражаться боевым топором, замахиваясь левой рукой.
Братья и сестры относились друг к другу с несказанной нежностью. Приверженцы «Белого Лотоса», казалось, вообще исчезли: в ходе последних тяжелых испытаний они окончательно влились в союз «поистине слабых». Над крепостными стенами звенели благочестивые песни о переправе в Западный Рай. В осажденном городе преобладало радостное настроение.
Многие женщины думали, что не вынесут еще раз кошмар рукопашной битвы. Они, словно совершая праздничный обряд, повесились на рыночной площади, на второй день осады.
У некоторых братьев помутился рассудок, когда стало известно, что операция по окружению города неисчислимыми массами солдат уже завершена и что все сектанты неминуемо погибнут. Такие голыми танцевали на улицах, кричали, что знают истинный благой путь и показывают его своим танцем. Или с таинственным видом бродили по площадям, потом опускались на землю и, прикрыв веки, хрипели в горячечном бреду. Иногда наносили себе камушками порезы на руках и губах, как делают служители богов; закатывая глаза, хватали за руки грезивших наяву женщин, и тут же вслед за состоянием отрешенности – или даже в таком состоянии – начинались пылкие объятия, которые никто не осуждал.
Другие – их было немного – бросали на товарищей косые, недоверчивые, злобные взгляды, никак не могли расстаться с последней надеждой, рассчитывали ускользнуть от общей участи, предав своих братьев. Они часто плакали, то и дело взбирались на городские стены, с тоскливым нытьем наблюдали за передвижениями императорских войск. Потом опять принимались расспрашивать всех и каждого, толклись на рынках, тщетно стараясь придать своим растерянным лицам то выражение праздничной безмятежности, которое было характерно для остальных.
То тут, то там поспешно завершалась чья-то неповторимая судьба. Го в свое время присоединился к «поистине слабым», чтобы найти для себя покой. Когда начались гонения, ему пришлось стать одним из руководителей секты, и для него это было истинной мукой. Почти против воли участвовал он в сражениях – но в сутолоке боя, опьяненный наркотиком ярости, чувствовал себя счастливым. Его отвращение к Пурпурному городу еще более усилилось, смешавшись с ненавистью к маньчжурам, которые навязали ему эти сражения. Вряд ли кто-нибудь из «поистине слабых» под конец испытывал такую неукротимую ненависть к императору, как бывший ротный командир Го. Теперь – оставленный, наконец, в покое, освободившийся от своей ненависти, потому что смерть уже приближалась, – он сидел в Линьцине. Он смутно, как бы издалека, слышал песни друзей, видел, как они проходят мимо – отделенные от него непреодолимым пространством. Воспоминания об императоре, о странствиях с Ма Ноу, о его – Го – любимом мальчике пробуждались, но не вызывали никаких чувств. Правая рука у него была раздроблена; он упражнял левую руку, но втайне сознавал, что ему, в общем, все равно, ударит ли он этим топором деревянный столб, императорского солдата или самого себя. Он пытался участвовать в разговорах, искал общества других братьев, но пути назад не находил. Он часто спрашивал себя, не лучше ли было бы – вместо того, чтобы присоединиться к союзу – продолжать любить своего мальчика или любить других, новых; и с таким упоением предавался этим мечтам, что таял от пригрезившейся ему нежности, с робким, но пылким желанием приближался к давно забытому пленительному образу, умолял простить его, Го, за то, что он так долго оставался вдали от своего юного друга, не дарил ему ни духов, ни сладостей. В таком полузабытьи он проводил целые дни. Желтый Колокол, однажды навестивший Го, нашел его изможденным, истерзанным лихорадкой. И ушел от больного потрясенный: такие глаза бывают только у человека, уже заглянувшего в последнюю тьму. Когда Го умирал в пустой комнате, которую предоставили ему братья, он до последнего, в коротких промежутках между ознобом и забытьем, пытался нащупать рукой колени или уши своего мальчика, сжимая челюсти, противился мягкоструящемуся потоку у-вэй, сам искал для себя дорогу, то скептически, то нетерпеливо; вновь и вновь сбивался с нее, что-то бормотал, потом затих.
Войско повстанцев – понесшее огромные потери, совершенно измотанное – было обречено. Его остаткам предстояло провести последние дни с Ван Лунем. Новые братья почти ничего не знали о событиях в горах Наньгу. Но когда Ван сказал, что вернулся к ним после долгого странствия, что прошел путь от Наньгу до Сяохэ и оттуда до Линьцина, они поняли, и кто он такой, и что это хорошо – жить ради идеи у-вэй, а потом попасть в Западный Рай.
В тот первый послеполуденный час, когда императорские солдаты загнали их всех в город, Ван Лунь – с кровавой раной на шее, залитый потом, дрожащий – потянул Желтого Колокола за собой в пустой двор какого-то дома, обнял его и, запинаясь от волнения, с горящими глазами пробормотал: «Брат, мы разбиты. Это конец. Ворота захлопнулись. Кого мне благодарить?»
Желтый Колокол простонал: «Разбиты».
«Ты тоже так думаешь? Я умру охотно. А кроме того, как я говорил тебе в Дэчжоу, иначе и не могло быть. Найхэ – грязно-черная. Но зато я с вами, со всеми вами; здесь, в этих стенах, – единственное, что я любил в своей жизни: Наньгу. Я возвращаюсь к вам. Ворота закрыты. Мы можем молиться; и радоваться. Мы все в одночасье стали свободными».
В ближайшие дни Ван полностью раскрыл, распахнул себя. Он непрерывно бродил по площадям и улицам. Он хотел узнать каждого из братьев в отдельности, просил, чтобы люди рассказывали ему о своих судьбах. Он плакал вместе с ними над умершими товарищами, для которых устроили на рыночной площади одно общее жертвоприношение; он простил императорских солдат, с которыми им предстояло сразиться. Время, когда все предпочтут следовать Чистым путем, еще не пришло. Только обладая смирением и жалостью, может человек терпеть все ужасы жизни, выдерживать железные удары обрушивающегося на него горя.
Когда устраивались моления на рыночной площади, Ван – босоногий и с непокрытой головой – взбирался, приставив доску, на крышу какого-нибудь ларька. И начинал рассказывать о своем бегстве в Сяохэ, о том, как оно оказалось бесполезным; и еще – о тысячах счастливых братьев и сестер, которых Ма Ноу увел на гору Куньлунь. Многих из них Ван называл по имени, описывал, как они выглядели. В другие дни он настойчиво восхвалял судьбу. Он опять находил такие слова, как когда-то в горах Наньгу: слова о том, как мал человек, как быстро проходит все в жизни и как бессмысленно бестолковое мельтешение. Императорские солдаты и маньчжуры, может, и победят, но поможет ли им это? Они, живущие в лихорадочном возбуждении, завоевывают чужие страны и вновь их теряют; все это суета, ничего больше. Волки и тигры – нехорошие звери; тот, кто берет с них пример, пожирает других и сам в конце концов становится чьей-то пищей. Людям пристало думать так, как думает земля, как думает вода, как думают леса: не привлекая к себе внимания, медленно, тихо; принимать все изменения и влияния, меняться в соответствии с ними. Их, которые были поистине слабыми по отношению к благой судьбе, принудили сражаться. Ведь не могли же они допустить, чтобы благое учение было искоренено, смыто как негодная тушь. Но теперь всякая борьба для них закончена, должна вот-вот закончиться: топоры, мечи, косы им придется взять в руки еще только один раз. Идея у-вэйуже укоренилась среди потомков «ста семейств». Она станет распространяться таинственным, чудодейственным образом, когда они, нынешние ее приверженцы, будут гулять по белым облакам в Западном Раю и погружаться по бедра в благовонную амброзию. Они окружены трупами; тени и скелеты нападают на них, и даже самые сильные заклятья не могут совладать с этим злом. Только идея у-вэй– может; потому что она отделяет жизнь от смерти таким простым способом. О нем знали уже те древние старики, молва о которых жива до сих пор. Быть слабым, терпеть, покоряться неизбежности – так зовется Чистый путь. Обретать себя под ударами судьбы – так зовется Чистый путь. Льнуть к событиям, как вода льнет к воде; приспосабливаться к течению рек, к земле, к воздуху, всегда оставаясь братьями и сестрами; любовь – так зовется Чистый путь.
Ван иногда говорил что-то и о том сне, который снился ему из ночи в ночь: будто он стоит у древесного ствола; и сперва ему кажется, что это ствол сикомора. Но постепенно дерево, сохраняя свою стройность, начинает обрастать ветками, роскошно загибающимися вниз, как у плакучей ивы, – и обхватывает его, Вана, со всех сторон, превращаясь в подобие зеленого саркофага. Бывает, что после пробуждения его голова не спешит расстаться с этим сном, и тогда у него возникает ощущение, что тонкий ствол дерева, словно сочное растение-паразит, обвивается вокруг его – Вана – ног, вокруг его туловища и рук, так что он уже не может освободиться от водянистой растительной плоти и оказывается всосанным этим пышно цветущим древом, которое делает счастливыми всех, кто его видит.
После речей Вана площадь вспенивалась, шумела массовыми экстазами. Часто у городских ворот собирались группы людей, которые, воодушевившись услышанным, хотели выйти к вражеским солдатам, поговорить с ними, научить их чему-то. Братья приставали к Вану, к Желтому Колоколу: все, мол, хотят праздника. И вот однажды по городу разнеслись ликующие звуки флейт: из богато украшенного храма вынесли деревянную статую богини, Царственной Матери Западного Рая; статую установили на пустыре, подальше от домов, и начали воскуривать перед ней благовония, прыгать. Братья ходили босиком по раскаленным углям, перед статуей богини, – смеясь и торжествуя, шли через «тлеющее поле» прямо к Царственной Матери [340]340
…торжествуя, шли через «тлеющее поле»…Об обряде прохождения через огонь см.: Де Гроот, Война с демонами…, с. 397–399.
[Закрыть]. Братья и сестры уже давно упрашивали Вана послать к богине духов-гонцов, чтобы те, пав перед ней ниц, вознесли ей хвалу ради благополучия всех, кто почитает священный принцип у-вэй. Теперь, наконец, решили, кто именно будет гонцом, – посредством жребия. Двадцать пять вытянувших жребий мужчин и женщин сложили на «тлеющем поле» костер из досок. И когда костер хорошо разгорелся, они, подстрекаемые обезумевшей толпой, стали прыгать – друг за другом, обмениваясь булькающе-лающими возгласами – прямо в раздувшееся перед кроткой богиней пламя: как цыплята, которые спешат укрыться под крыльями курицы.
Чжаохуэй принял на себя командование войсками, по численности превышавшими силы противника почти в десять раз. Со дня на день ожидали прибытия маньчжурских лучников, которые, согласно императорскому приказу, должны были участвовать в финальной операции. В знаменных войсках, подчинявшихся непосредственно главнокомандующему, служил один молодой командир: Лаосю, сын Чжао и Хайтан. Хайтан сперва выставила из дома Чжаохуэя, чтобы он отмстил за их хрупкую дочь; а вскоре после того – и бездельника-сына, который, впрочем, после смерти сестры очень изменился. Собственно, матери уже не было нужды высказывать ему свое желание – он и сам собирался вступить в действующую армию.
Линьцин делился на Старый и Новый город. Только Новый город был защищен крепкими стенами и, в дополнение к ним, земляным валом; стены Старого города нуждались в основательном ремонте, из сторожевых башен годились для использования лишь две. Инь Цзэду, один из младших командиров подчиненных Чжао знаменных войск, еще до прибытия лучников отобрал две сотни людей, вместе с ними прорвался в восточные ворота Нового города, овладел, почти не встретив сопротивления, стенами и разгромил плохо вооруженных повстанцев. В ходе этой дерзкой операции погибли всего сорок императорских солдат, братьев же и горожан – двести тридцать.
На следующий день пылало красное солнце. Когда оно погасло, Ван приказал всем в Старом городе, кто имел оружие, готовиться к бою и покинуть плохо запирающиеся дома. Братьям следует сосредоточиться в самых больших домах на самых узких улицах. Маленькие отряды лучников и камнеметателей должны с наступлением ночи занять позиции на стенах, в строго определенных местах. Военное руководство осуществлял Желтый Колокол – с холодной деловитостью; благодаря его спокойствию люди совсем не думали о том, что над ними нависла смертельная угроза.
Когда стемнело, кто-то подошел к дому, в котором жил Ван, постучал, передал распахнувшему дверь человеку запечатанную вазу и сказал, чтобы ее ни в коем случае не открывали. Человек, притворив за собой дверь, еще в нерешительности топтался на крыльце, хотел что-то спросить – но посланец внезапно исчез, словно сквозь землю провалился. Человек неуверенно задвинул засов, отнес фарфоровую вазу – которая не показалась ему тяжелой – в комнату Вана и поставил ее на циновку. Вскоре явился Желтый Колокол, хотевший поговорить с Ваном. Он прошел прямо в комнату и увидел, что Ван сидит за столом, с зажженным светильником, повернувшись спиной к двери: он как будто читал. Но тут привратник крикнул со двора, чтобы Желтый Колокол поднимался наверх: Ван Лунь, мол, сидит на втором этаже вместе с другими братьями и уже о нем спрашивал. Перепуганный Желтый Колокол, спотыкаясь, стал взбираться по лестнице; из комнаты наверху доносились голоса и бряцанье оружия: Ван раздавал копья и кинжалы. Желтый Колокол окликнул Вана, который, заметив ужас в глазах полковника, выронил кинжалы и вместе с другом спустился по ступенькам, тихо перешагнул порог той самой комнаты. Привидение все еще читало, сидя у стола; Ван окликнул его; оно обернулось, посмотрело на Вана, который схватился за шею, его же собственным взглядом, потом метнулось к циновке и исчезло. Друзья, дрожа, подошли ближе. Ваза стояла на прежнем месте, закрытая. Желтый Колокол поддержал пошатнувшегося Вана за плечо. «Знаешь, Желтый Колокол, чт о это было?»
Желтый Колокол не ответил, только прикрыл глаза. Ван, превозмогая дрожь, сказал:
«Это значит, что завтра я умру».
Поспешно и растерянно Ван распорядился, чтобы привратник осторожно вынес вазу из дома. Потом еще немного постоял, глядя в пространство перед собой, – и вместе с Желтым Колоколом вернулся наверх.
Штурм начался незадолго до рассвета, со стороны Нового города. Храбрый и наделенный недюжинной физической силой Инь Цзэду был первым, кто через сломанные ворота ворвался в город; он искал Ван Луня, которого хотел задушить собственными руками. Сразу за ним бежал Лаосю с красным плюмажем на шлеме, без щита, с длинными ножами в обеих руках. Вскоре и южные ворота были захвачены провинциальными войсками, к которым присоединились лучники, – потому что в то мгновение, когда Инь Цзэду проник в город через восточные ворота, все защитники стены отступили на улицы и в дома. На южном участке стены атакующие установили чугунную пушку, зарядили ее кровью девственницы, которую зарезали ночью накануне штурма, и выстрелили в город, чтобы очистить воздух от духов погибших повстанцев. Женщины с ужасными возгласами ликования, с душераздирающим визгом выбегали из переулков навстречу солдатам; преграждали проходы к тем улицам, где засели «поистине слабые»; приходилось как-то убирать эти плотные преграды из одержимой яростью человеческой плоти. С периферии города уже приближались, как скачущий конский табун, языки пламени – горели дома.
Начались отчаянные уличные стычки. Братья не позволяли заблокировать их в домах: обитатели одного дома за другим устраивали вылазки. Город сотрясался от убийств. Улицы уже полнились задыхающимися в тесноте солдатами. Но все новые полчища в неукротимом порыве рвались, скрежеща зубами, от ворот к центру. Из центра же города, перекрывая дикий рев сражающихся и резкие единичные выкрики, доносился громоподобный рокот: ликующее пение повстанцев; эти голоса порой замолкали, будто придушенные, но потом опять широкой волной взмывали к небу.
На одной усеянной женскими трупами улочке, которая вела к рынку, несколько братьев, собиравшихся совершить вылазку, приоткрыв дверь дома, увидели, как Ван Лунь большими прыжками несется прочь от рыночной площади: с непокрытой головой, размахивая мечом. Он пробежал мимо них, его залитое потом осунувшееся лицо было неузнаваемым, глаза – пустыми; Вана преследовали по пятам Инь Цзэду и Лаосю, а за ними – целый отряд лучников и копейщиков. Братьям удалось на несколько мгновений задержать солдат. Ван исчез в недрах большого пустого дома, стоявшего в конце улицы. Горстка братьев, вооруженных кинжалами, проскользнув незамеченной вдоль домов, напала на лучников, ломавших последние на той улице ворота. Инь Цзэду, которого прикрывал Лаосю, крякнув от натуги, снял с петель створку ворот. Ван, залезший на кирпичную ограду, тяжело дышал. Инь Цзэду отбил своим мечом удар Вана; они вступили в поединок; маньчжурский командир отнял у главаря повстанцев Желтого Скакуна. Тем временем дюжине братьев удалось проникнуть во двор. Они закололи Лаосю кинжалами, освободили Вана и вместе с ним быстро поднялись на верхний этаж. Там штабелями были сложены доски: драгоценное камфорное дерево; братья, разобрав эту кучу, забаррикадировали лестницу – досками, шкафами, столами. И пока лучники из Гирина пускали в окна стрелу за стрелой, они разожгли наверху костер и сгорели, прежде чем хоть один солдат успел подняться по лестнице.
Инь Цзэду метался по улицам, преследуя бунтовщиков; он яростно размахивал Желтым Скакуном и уложил им не меньше двадцати сестер и братьев.
В южной части города дольше всех оборонял свой дом Желтый Колокол. Когда дом удалось поджечь с помощью обмотанных горящей паклей стрел, бывший полковник, сопровождаемый еще сорока братьями, выскочил на улицу. Он хладнокровна сражался с императорскими знаменными солдатами, которые с недоумением и страхом отшатывались, узнавая в своем противнике весьма уважаемого в казармах командира. Весь город уже перешел в руки громогласно прославлявших победу регулярных частей, а Желтый Колокол еще отбивался, прикрываясь щитом, у передней стены двора. Его опрокинуло наземь попавшее в шею копье; последних из тех, кто сражался рядом с ним, порубили боевыми топорами. Ту сотню сестер и братьев, которые безоружными, распевая гимны, вышли на рыночную площадь, чтобы погибнуть, солдаты окружили, связали попарно и доставили в свой лагерь под стенами горящего города.








