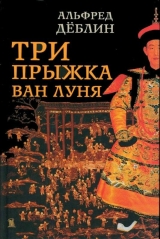
Текст книги "Три прыжка Ван Луня. Китайский роман"
Автор книги: Альфред Дёблин
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 40 страниц)
Ван Лунь с окаменевшим лицом сидел на перевернутой тележке. Длинный боевой меч валялся на полу посреди отбитых золоченых голов. Ван уже понял, чт о произойдет дальше; Ма Ноу – тоже. Им больше не о чем было говорить.
Ван попросил Ма Ноу принести ему воды, чтобы обработать рану, а завтра позвать врача. Ма с помощью двух других братьев притащил в хижину несколько охапок травы. Прежде чем лечь, Ма и Ван взглянули друг на друга, будто прощаясь. Постояли рядом пару мгновений. И затем провалились, опустошенные усталостью, в сон.
ВАН
оставался у «расколотых дынь», собиравшихся вскоре двинуться к югу, четыре дня. Он наблюдал за их жизнью, перезнакомился с большинством братьев. Он не вступал с ними в споры, лишь скупо и туманно намекал, что «поистине слабых» ждут тяжкие испытания. Когда его спрашивали, почему он, если и вправду, как все они, хочет покорствовать судьбе, носит солдатскую куртку и боевой меч, Ван отвечал с улыбкой, что многие люди маскируют свое мягкосердечие, дабы отпугнуть зло. Так происходит, например, в день цзинчжэ [130]130
День цзинчжэ– букв, «пробуждение насекомых», 5 марта.
[Закрыть], в пятый день пятого месяца, когда злобствуют «пять ядовитых гадов» – змеи, скорпионы, тысяченожки, кроты и ящерицы; тогда испуганные матери втирают в уши и носы ребятишкам измельченные серные цветы, смешанные с вином, и рисуют на их лбах знак «тигр» [131]131
…втирают в уши и носы ребятишкам измельченные серные цветы, смешанные с вином, и рисуют на их лбах знак «тигр»…Грубе пишет, что в пятый день пятого месяца китайцы «пользуются серными цветами, которые считаются верным средством против всякого рода вредных влияний. Поэтому в этот день многие пьют эти цветы, растертые в порошок и растворенные в вине. Точно так же детям втирают в уши и нос раствор серного цветка или, что еще полезнее, рисуют этим раствором на лбу знак ван, так как у тигра на лбу якобы есть четыре черных полосы, соответствующие по форме этому знаку; тигр же есть лучшее средство против демонов… а детей, отмеченных таким знаком, демоны примут за тигров» (Грубе, Духовная культура Китая,с. 195–196).
[Закрыть]; но ведь это вовсе не значит, что дети их свирепы как тигры.
В Ване – с того дня, когда он в снежную бурю покинул горы Наньгу, и вплоть до теперешнего мгновения – происходила некая перемена. Ма еще тогда, когда они вместе сидели в комнате с сельскохозяйственными орудиями, в селении Бадалин, заметил, что в Ване укрепляется сострадание к доверившимся ему братьям. С тех пор Ван совершил многотрудное странствие по провинциям Чжили и Шаньдун. И с чем большими трудностями он сталкивался, тем сильнее что-то вытесняло его из роли «поистине слабого», которая обеспечила бы спасение его души. Он все последовательнее занимал позицию защитника своих братьев. И чувствовал, что должен сражаться за всех отверженных китайской земли.
Под Цзинанью его ожидало искушение. Он не смог противостоять порыву, болезненно и радостно теснившему грудь, и, вымазав лицо углем, пошел по проселочной дороге, приближаясь с восточной стороны к Цзинани. Он шагал в одиночестве, потом решил подождать какого-нибудь каравана, чтобы вместе с ним проскользнуть в город. Но в это время дня никаких караванов не было: телеги торговцев растительным маслом, фруктами, овощами, углем приезжали в Цзинань ранним утром. И еще прежде, чем Ван с несвойственным ему легкомыслием попросту подошел к восточным воротам, его заметили двое полицейских; они издали опознали его по высокому росту, по качающейся походке – и с помощью охранника задержали как раз в тот момент, когда Ван, изображая из себя коренного жителя Цзинани, невозмутимо проплывал сквозь восточные ворота.
Сквозь крошечное, не больше ладони, зарешеченное окошко подвала, в который его бросили, Ван видел извилистую торговую улицу с лавками и шумной многоцветной толпой, когда-то служившую подмостками для его проделок и авантюр. С левой стороны, как он знал, располагался рынок: туда выходила улица с храмом великого покровителя музыкантов Хань Сянцзы. Если идти прямо, можно быстро добраться до гостиницы, в которой одно время жил Ван, и до дома Су Гоу, впрочем, давно сгоревшего. Чуть дальше – та самая площадь, где в день убийства дусыупражнялись солдаты провинциальных войск.
Тогда-то Ван и столкнулся с сильнейшим искушением: ему захотелось остаться здесь, спокойно дождаться решения суда, претерпеть казнь через расчленение. Он не отдавал себе отчета в том, откуда взялось это страстное желание. Ему хотелось умереть не где-нибудь на чужбине, а среди мельтешения этих обманывающих друг друга плутов, среди всей этой трескотни, ударов гонга, голосов рыночных зазывал – здесь, на своей родине. В подвале Ван много думал о резких поворотах, случавшихся в его жизни. Как он оставил товарищей с перевала Наньгу, как всего несколько недель назад был гостем на роскошном пиру у Чэнь Яофэня. как погиб дусы, а еще раньше – Су Гоу, и как сам он когда-то обманывал, злобствовал, занимался воровством. Все это представлялось Вану невыносимым; и, напротив, он почел бы за благо, за величайшее счастье прямо здесь и сейчас претерпеть все, что ему суждено, – все до конца.
При задержании полицейские и охранник так суетились, что, заперев Вана, забыли отнять у него меч. Они очень радовались, что поймали опасного преступника. И только после того, как оба полицейских отправились в ямэньи в городскую комендатуру, чтобы сообщить даотаюи воинскому начальнику о необычном задержании и выхлопотать для себя соответствующую награду, старому охраннику, отдыхавшему на скамье, пришло в голову, что меч-то остался у Вана. Охранник взял с подоконника дубинку, которую утром забыл один из погонщиков скота, спрятал ее в рукаве и, шаркая одетыми на босу ногу сандалиями, спустился в подвал; он собирался выкрасть меч у Вана; если оружие окажется дорогим – продать его, если же нет – просто показать в управе и попросить там награду за свое мужество.
Он отомкнул тяжелый висячий замок. Мыши сразу заметались под его опухшими от сырости ногами, прыгали, задевая штанины. Ван сидел на полу и смотрел прямо на старика. Охранник подошел ближе, спросил, как тот себя чувствует, не приболел ли часом, испытующе заглянул в лицо. Меч валялся довольно далеко от Вана, ближе к двери.
Ван поблагодарил за внимание; сказал, что рад был снова очутиться в Цзинани. Спросил, как поживает хозяин ближайшей гостиницы и на каком из рынков лучше всего идут дела.
Хозяину гостиницы, к счастью, жаловаться как будто не на что – тут охранник заметил меч, присел на корточки так, чтобы загородить его, нащупал за спиной рукоять, – что же касается столь любимого прежде Рынка Золотых Лепестков, то он постепенно пришел в упадок, с тех пор как гильдия цветочных торговцев отказалась вносить возросшую арендную плату. Теперь они торгуют на просторном дворе здания своей гильдии.
Удивительно, заметил Ван, как быстро меняется город. Но охранники остаются прежними. Воруют все, что ни попадется под руку. Только этот меч красть, пожалуй, не стоит – раз уж господин охранник был столь любезен, что сам оставил его своему пленнику. Меч – собственность одного человека из восточного Шаньдуна, чье имя он, Ван, охотно назовет, если господин охранник пообещает никому это имя не выдавать и согласится за высокое вознаграждение доставить меч его настоящему владельцу. Охранник, по-кошачьи изогнув спину, уже шептал пленнику, что тот вполне может на него положиться. А если Ван желает, чтобы его пусть тайно, но достойно похоронили, в достаточно благоприятном месте, то пусть лишь намекнет ему, охраннику, – прежде, чем вернутся те двое полицейских с клеткой для транспортировки преступников; он, охранник, уже многим оказывал такого рода услуги.
Тут с улицы донеслись громкие крики и брань. Ван выглянул в окно. Надзиратель над нищими избивал длинной палкой двух бедняков. Чиновник с голубым шариком на шапке наблюдал за этой сценой из своего паланкина и объяснял, что оба незаконным образом просили милостыню у него в доме, хотя дом этот находится не в их районе, – причем дважды на протяжении одного дня.
Ван вздохнул, опять уселся на землю и меланхолично сказал, что нет, город все-таки мало изменился. Потом вдруг с решительным видом поднялся на ноги, отряхнулся и, шагнув к охраннику, рывком приподнял его над землей. Когда тот попытался ткнуть его в грудь дубинкой, Ван подумал, что лишние осложнения ему ни к чему, швырнул завизжавшего старика на землю, лицом вниз, после чего, выскочив на улицу, размахивая мечом и надрывно вопя, обратил в бегство надзирателя над нищими вкупе с чиновником – и покинул негостеприимные пределы Цзинани.
Умирать не имеет смысла. Человек вообще мало что может изменить. Надзиратель неправ, но и нищие тоже неправы. Все трое уклонились от Дао. И все-таки кто-то должен первым ступить на правильный путь.
Начались скитания. Ван искал самые прямые дороги, ведущие к югу от гор Наньгу. Но слухи о нем расползались все шире.
На него устраивались настоящие облавы – после того, как цзунду [132]132
Цзунду —наместник.
[Закрыть]Шаньдуна издал приказ о взимании высоких штрафов с даотаевтех округов, через которые Ван Луню удастся проскочить, не будучи задержанным.
Затравленный, постепенно осознав опасность своего положения – особенно, когда понял, что слава «поистине слабых» уже распространилась по всему Чжили и Шаньдуну, а потому каждый здесь знает, что он, Ван, собирается присоединиться к северо-западным братьям, – Ван стал по возможности отказываться от тактики странствования в одиночку. Он, однако, полагал, что должен двигаться, как и прежде, в северном направлении. Странное суеверие связывало его с мечом: Желтый Скакун, казалось ему, нес его на себе. Во всем мире для Вана существовали теперь только два природных ландшафта: маленькая долина к югу от Наньгу и совсем другой ландшафт, водный, который он преодолевал, распластавшись на спине Желтого Скакуна.
После того, как он два дня не высовывал носа из пещеры, опасаясь быть схваченным крестьянами, которые знали его в лицо, Ван твердо решил: «Все, что происходит вне сферы влияния моего брата, подчиняется другим, собственным законам. Я могу быть поистине слабым, страждущим только среди моих братьев, и я непременно должен до них добраться. Этой же земле, этим рекам я в моих законах отказываю».
И вот недалеко от ворот Цзинани он присоединился к банде жестоких проходимцев, которые занимались тем, что угрозами поджога вымогали контрибуции у целых деревень, захватывали заложников и требовали за них выкуп; которые подобно маньчжурским разбойникам– хунхузам [133]133
Хунхузы, или хунхуцзы («Рыжебородые») – тайное общество в Маньчжурии XVIII в.
[Закрыть]летом носились повсюду, а зимой отсиживались в городах. Судьба, управлявшая переменчивой жизнью Вана, распорядилась так, что он присоединился к опасной банде и начал странствовать с нею именно в то время, когда в другой, западной части Чжили страх перед такими же ордами разбойников впервые стал вторгаться в идиллические сны его братьев.
Полтора месяца Ван подавлял в себе воспоминания о морозных зимних днях; среди нежнейшей весны он совершал одно преступление за другим. И ничто не тревожило его совесть. Но когда всего в трех днях пути от лесистой местности, где разбил лагерь ближайший отряд «поистине слабых», разбойники потребовали от Вана участия в нападении на одного богатого и ученого путешественника, хутухта [134]134
…богатого и ученого путешественника, хутухта… —«В Пекине представителем Далай-ламы является духовный владыка подвластных Китаю монголов, Чжанчжа Хутуку (в совр. написании – хутухта. – Прим. пер.); порядок наследования его совершается точно так же, как и у Далай-ламы путем возрождения» (Грубе, Духовная культура Китая, с. 178).
[Закрыть], который совершал инспекционную поездку по ламаистским монастырям Чжили, он решил с ними расстаться.
И заявил, что не будет участвовать в этой вылазке. Разбойники обступили его – дело происходило ранним утром, в красивой речной долине, – потребовали объяснений, упрекнули в трусости. Ван очень спокойно передвинулся так, чтобы за спиной у него никто не стоял, объяснил, что хочет через три дня присоединиться к своим друзьям, но взять с собой бывших сообщников отказался. В его представлении, мол, все это «ненадежные волны», он же хочет добраться до твердой земли. Недавние приятели Вана принялись насмехаться над мягкотелостью братьев, спрашивали с издевкой, где же Ванова чаша для подаяний – они бы тоже туда что-нибудь положили.
Ван ушел. Но не успел пройти и двух ли, как пятеро бывших дружков преградили ему дорогу, возобновили насмешки, одновременно как-то подозрительно поигрывая тетивами луков. Когда один из них, в засаленной шапке, протянул ему – чтоб помнил, кто есть он и кто такие они, – отрезанную косичку, Ван счел за лучшее перенестись на «землю» посредством одного прыжка.
Он проклял берег, который собирался покинуть, поплевал на свой меч – как поступают с мертвым, которого хотят пробудить к жизни, – поднял его обеими руками и, размахнувшись, вогнал в грудь человека, пытавшегося его запугать. Когда Ван разжал пальцы, он уже был один, если не считать мертвеца на дороге. Он просунул лезвие меж мертвых губ, и берег, только что им покинутый, брызнул ему в лицо жаркой струйкой; Ван лизнул эту обещавшую счастье кровь.
Потом он много часов, без перерыва, бежал, и Желтый Скакун тоже – впереди него. Потом наступил вечер, и Ван, не чувствуя голода, устроился на ночлег в лесу. Через два дня, питаясь одними плодами, сырым рисом и подношениями встречавшихся ему испуганных женщин, он наконец в час заката добрался до луга, с которого доносились пение и слова читаемой вслух сутры. И узнал в сидевшем у костра человеке молодого горбуна с гор Наньгу. В том месте разбил свой лагерь большой отряд.
В ПОСЛЕДНЮЮ НОЧЬ
перед тем, как Ван покинул отряд Ма Ноу, к нему в палатку зашли две девушки. Они осветили желтыми бумажными фонариками бамбуковое перекрытие над своей головой, тихонько поставили палки с фонарями в угол. Потом раскидали солому, в которую зарылся спящий, потерли ему веки и, усевшись рядышком на пол, внимательно наблюдали, как он приподнялся на локте, осторожно подвигал больной ногой – и улыбнулся.
Он кутался в коричневый халат, мозолистые ступни были босыми. Девушки с двух сторон взяли его за руки и потянули вверх, так что в конце концов он обнял обеих и оперся на их податливые круглые плечи. Они же склонились друг к дружке головами и обменялись испуганными взглядами. Младшая, слева, дрожала и все пыталась ухватить подругу за пальцы. Обе боялись, а вдруг этот ужасный колдун поднимется с ними в воздух, проломив крышу, или змеей обовьется вокруг шей.
Но Ван отпустил их, расправил на лбу у одной, потом у другой, аккуратно подрезанные челки [135]135
Челка– отличительный признак девичества.
[Закрыть]. Обе пришли в восторг. Младшая, правда, все еще не оправилась от испуга, тряслась и стучала зубами. Они щипали его за руки, которые он раскинул между ними. Щупали его мускулы, повисали на нем, потом старшая залезла пальцами в вырез халата Вана, а младшая пыталась ее оттеснить. Внезапно младшая (она теперь выглядывала из-за Ванова плеча, царапала ему грудь) наклонилась и вонзила зубки в его запястье, как заигравшийся щенок – в кость; с заинтересованным видом придвинулась поближе, не переставая покусывать неподвижную загорелую руку И искоса посматривала – когда же он вздрогнет от боли; пугалась – почему не вздрагивает. Но от его жесткой плоти у нее самой заболели зубы. Она устало почмокала губами и облизнулась.
Эта маленькая, проворная, болтливая девушка родилась в Шэньси. Она напоминала собачку-пекинеса – или кролика. Много и охотно врала, но как-то по-глупому, когда находило такое настроение. Была, как и ее подруга, рабыней-служанкой в одном загородном имении под Гуаньбином; бежала, когда из-за ее неосторожности в комнате госпожи начался пожар, боялась вернуться назад и, случайно повстречав трех сестер-нищенок, с радостью пришла вместе с ними в лагерь Ма Ноу. Работать она ленилась, ни с кем не ссорилась, но и не поддавалась обучению.
Вторая девушка, ростом не выше первой, но полненькая, не такая курносая и гораздо более изящная, врала не меньше своей младшей подруги, однако в иной, хвастливой манере. Она была склонна к сентиментальности, а также к самовосхвалениям. Периодически – месяцами – страдала от странной тоски, носилась со всякими авантюрными планами и с мыслями о самоубийстве, уже с того времени, как ей исполнилось двенадцать лет. Позже она часто вела себя как мученица, давала понять, будто пережила в жизни нечто необыкновенное, но когда на нее наседали, легко признавалась: все дело в том, что, не имея ни дома, ни родителей, ни родных, она очень страдает от пустоты и безысходности своего существования. Она считала себя особенной, не такой, как другие, но искренне, даже страстно любила подруг, хотя и не всегда с ними ладила, считалась умненькой, красивой, задиристой. Доведись ей попасть не в дом почтенного господина, а к какому-нибудь предприимчивому дельцу, ее давно бы продали в театральную труппу – и, возможно, там бы она нашла свое счастье.
Ван стал надевать штаны и сандалии. Девушки пытались ему помочь. Суетились, без умолку тараторили. Младшая фактически предложила ему себя, сказав, что ей уже больше пятнадцати и что она бы очень хотела присоединиться к такому могущественному заклинателю демонов. Ах, она с радостью срывала бы вместе с ним полевые цветы! Ван ответил, что подумает, и, поскольку они продолжали прыгать вокруг него, легонько толкнул одну, а потом другую. У младшей порвался халат возле ворота и под мышками. Она показала Вану – радуясь и немного стыдясь – свои смешные, еще почти детские грудки. Другая, «сентиментальная», обиженно поджимала губы, потому что малышка все время оттирала ее плечом, просила уйти, вслепую – не оборачиваясь – шлепала по носу.
Когда Ван схватил младшенькую за плечи и стал вертеть над мшистым земляным полом, так что у той закружилась голова, а слишком тесные штанишки лопнули, «сентиментальная» сердито проронила, что в доме их почтенного господина девушек таким глупостям не учат. Ван тогда и ее тоже обнял за плечи. Но она вырвалась и, опустив сверкнувшие глаза, шепнула, что может предложить кое-что получше. А именно: чтобы они с малышкой поборолись, или посоревновались в поднимании камней, или еще в чем-нибудь – как захочет ее подруга. Главное, чтобы померялись силами. Ван согласился и стал подзадоривать их, сам же уселся на солому. Потом привлек обеих к себе, успокоил, погладил раскрасневшиеся лица, которые все еще обиженно отворачивались одно от другого.
Лаская их, одновременно рассказывал забавные истории, услышанные еще в Цзинани.
Угольно-черные глыбы ночи медленно расползались в стороны. Серый газ просачивался в щели, раскалывал ночь на куски, кусок за куском исчезал. И из тьмы выступили катальпы – бараны, нагнувшие рога.
Ван облачился в синюю куртку, на шею повесил меч. Сказал девушкам: пусть быстренько сбегают к себе, захватят чаши для подаяний и прочие мелочи; им троим пора трогаться. Когда Ван зашагал рядом с ними – неторопливо, щадя больное колено, – он не стал объяснять, почему ушел из лагеря потихоньку и куда, собственно, держит путь.
Три недели странствовал Ван по срединной части провинции Чжили, посылал гонцов в крупные селения и города, которым еще раньше, из Шаньдуна, сообщил о том, что у-вэй, возглавляемые Ван Лунем из Хуньганцуни, являются союзниками «Белого Лотоса», – и потому люди должны оказывать им всяческую поддержку. Посланцы Вана выдавали себя за продавцов инжира; в их узких коробах лежал, прикрытый винными ягодами, наследственный меч Чэнь Яофэня, Желтый Скакун, а также письмо Вана, зашифрованное по системе «Белого Лотоса»: после определенного иероглифа, который указывал сам гонец, нужно было читать каждый третий, а с какого-то места – каждый седьмой знак; далее, после оговоренного знака, – каждый второй и потом каждый четвертый. Очень скоро тайная помощь «Белого Лотоса» стала достаточно ощутимой: ибо у всех приверженцев этого союза шаньдунский комитет пользовался огромным авторитетом.
Одновременно Ван Лунь изменил правила, касающиеся образа жизни: он желал, чтобы отныне в более бедных районах братья и сестры рассредоточивались, как бы растворялись среди обычных жителей деревень, селений, городов. Ван пошел на этот шаг, уступив настояниям двух членов «Белого Лотоса», которые довели до его сведения, что не одобряют строгой изоляции «поистине слабых» и их «совиных привычек» [136]136
…и их «совиных привычек»…В Китае существует пословица: «Сова не признает родства».
[Закрыть]; союз, мол, должен существовать не только на бумаге, так пусть же под сладкими винными ягодами «слабые» не прячут клинок раздора. Но Ван все-таки разослал вожакам своих отрядов тайное указание: прежде чем братья и сестры отправятся в обычные поселения, их следует предупредить, чтобы они не смешивались с братьями из «Белого Лотоса», не отождествляли себя с ними полностью. «Друзьями отечества» являются, конечно, и те, и другие, но одни лишь у-вэйвсегда будут оставаться мирными и страдающими – самыми подлинными – детьми своего неимущего народа; а народ этот никто по-настоящему не вовлечет в войну, потому что он как вода – обладает свойством текучести и принимает форму любого сосуда.
После того, как Ван Лунь, пребывая в срединной части Чжили, позаботился о безопасности братьев и сестер, он мог бы воздержаться от всякой дальнейшей деятельности и заняться личными приготовлениями к Великой Переправе. Однако лошадь, раненая стрелой в бедро, не может спокойно щипать траву, а ветер, если он хочет вырвать из рук солдата знамя, ни на мгновение не прекращает своих усилий. В то лето у Вана бывали вечера, когда он, сидя в какой-нибудь чайной на обочине лесной дороги, вдруг задумывался о Ма Ноу – и от одной этой мысли все в нем судорожно сжималось. Однажды, переступив через свою гордость, он послал гонца, проворного молодого человека, с письмом к Ма Ноу: мол, пусть Ма забудет об их последней встрече и вернет ему, Вану, человечьи души, которые ныне одурманены ложью; и пусть сам возвращается вместе с ними. Больше о том гонце никто не слышал.
ПРОИЗОШЛО,
о чем говорил Ма Ноу: никогда еще благочестивое рвение братьев и сестер, их сердечная мягкость, умение радоваться жизни не были так велики, как после того утра, когда они громогласно, ни от кого не таясь, назвали себя «расколотыми дынями». Никто из них больше не общался с «посюсторонним» миром; но в местностях, через которые они проходили, шепотом передавались слухи о том, что над всеми ними витает неземное блаженство.
Однако прежде, чем «расколотые дыни» добрались до отрогов Тайханшаня, что начинаются к северу от Шуньдоу, на бесконечную вереницу братьев и сестер напала банда разбойников. Была вторая половина дня, накрапывал дождь, люди шагали по однообразной лессовой равнине. В обозе тащились телеги, широкие повозки; на них-то и набросились вооруженные бродяги, числом около восьмидесяти, – в надежде на хорошую добычу. Но обнаружив там лишь заготовленные для строительства доски, немного риса, бобов и воды, да плюс к тому больных, они обозлились, перевернули телеги, осквернили воду, забрали мешки с продовольствием. Сопровождавшие обоз братья разбежались; шестерых самых смелых, которые хотели забрать с собой больных, бандиты разогнали сами, пинками и сабельными ударами плашмя. Одному, который попытался было урезонить бандитов, эти последние, смеясь, отрезали язык и привязали на его же лоб. Поняв теперь, с кем имеют дело, они устроили шутовскую облаву на сестер. Под заунывные звуки благочестивой песни, которую затянула от страха – когда ее швырнули на землю – одна из сестер, бандиты наконец поскакали прочь, увозя с собой одиннадцать раздетых догола и крепко связанных девушек.
Между тем, основная часть отряда, возглавляемая Ма Ноу и старейшими братьями, продолжала двигаться вперед. Но и здесь усилилась неразбериха выкриков, гримас растерянности, подкашивающихся колен. Шедшие сзади напирали на вожаков и пытались их остановить. Те же отделывались от непрошеных советчиков: с силой отталкивали протянутые к ним руки, отрицательно качали головами, шли дальше, стряхивая чужие прикосновения со своих спин.
Чего хотят эти братья и сестры! Разве они не знают, в чем состоит драгоценное учение их союза? Не противиться! Или они забыли?
Но братья побледнели именно потому, что только сейчас осознали гибельность своего учения, обрекавшего их на ужасное одиночество. Они беспокойно кружили на месте, с трудом отрывали испуганные взгляды от хвоста колонны, насильно принуждали собственные ноги следовать по стопам Ма Ноу. Затянули – лишь бы заглушить терзавшие их крики – песню, предназначенную для своих же ушей. Призывали на помощь местных духов, утешали друг друга.
Ма Ноу медленно шагал вместе со старейшими братьями под моросящим дождем. Старики, стиснув руки, шептали что-то, переглядывались, вдруг резко останавливались, желая одного – чтобы земля разверзлась и поглотила их всех. Ма Ноу от удивления распахнул, глаза; и окоченел в приступе немой ярости. Что-то уж слишком они взволнованы, может, хотят схватиться за кинжалы и ножи? Различие между этим страданием и любым другим – в чем оно состоит? Различие вообще – в чем оно? Да, приходится принуждать себя, чтобы считать происшедшее хорошим, даже очень хорошим, чтобы боготворить его – потому что это есть судьба. Это-то и есть судьба.
И он принудил себя и их обернуться, издали, через лессовую равнину, наблюдать, как бандиты насильничают над братьями и сестрами, глотать этот горький яд. По его указанию братья – что было неуместно и глупо – запели. Они бросались на влажную землю, в отчаянии прислушивались к долетавшим до них страшным звукам. Потом столпились вокруг коленопреклоненных – возносивших хвалу насилию? – вожаков.
Тишина, затаившие дыхание зрители. Гигантские театральные подмостки, визг связанных сестер, обнаженные нежные тела, палки, с треском обрушивающиеся на головы братьев, рев, конский топот, хныканье больных, пустая равнина, дождь.
Вокруг обломков телег все слиплось в единый ком. Когда промокшие под дождем больные вдруг принимались жаловаться, братья не смели взглянуть в лицо друг другу. Когда кто-то из покалеченных хрипел, разевая кровоточащий рот, они отворачивались.
Вечером, на стоянке в окрестностях торгового села, все обсуждали случившееся; Ма оставался невозмутимым. Вообще говорили немного. Люди расходились со стонами, с перекошенными болью лицами. В кругу братьев и сестер происходило какое-то брожение, нарастало смутное беспокойство.
Пятьдесят братьев ночью собрались вместе и отправились в торговое село, на поиски разбойников. Там они узнали, что эти бандиты угнездились в деревушке, расположенной дальше за селом, и что ни властям, ни частным лицам до сих пор не удалось разорить их логово. Местные жители сообщили также, что троих захваченных девушек сразу увезли в Шуньдоу, восьмерых же пока держат под охраной в деревне.
На следующую ночь братья ворвались в указанные им дома той деревни и вступили в схватку с преступниками, которые, решив с перепугу, что на них напали солдаты, быстро обратились в бегство. Сестер нашли и освободили, убитые же – двое преступников и трое братьев – остались лежать на залитой лунным светом деревенской улице.
Братья настолько воспряли духом, что уже назавтра отправились в город и выяснили, где находятся еще три их сестры: как оказалось, девушки попали в один из подозрительных «домов радости». Вечером смельчаки группами по три-пять человек наведались в тот дом, задержались, выдавая себя за обычных посетителей, до третьей ночной стражи, потом без каких-либо трудностей взломали двери, забрали девушек, весь следующий день прятались вместе с ними у городских нищих, а через неделю, сделав большой крюк, вернулись в лагерь Ма Ноу, в цветущие предгорья Тайханшаня.
Ма Ноу, узнав подробности происшедшего, долго носился с мыслью, что надо бы выгнать строптивых братьев. К тому времени среди сектантов возобладало мнение, что у-вэй, «недеяние», является – и должно оставаться впредь – спасительным «срединным путем». Освободители сами стыдились, что нарушили закон. Всех, чье раскаяние казалось искренним, Ма простил. Но те пятеро, которые легкомысленно хвастались содеянным, были изгнаны.
Внутри союза развернулась ожесточенная борьба между Ма Ноу и его противниками. Однако быстрая победа Ма убедительно показала, какой чудовищной властью обладал теперь этот совершенно изменившийся человек.
В ПЛОДОРОДНОЙ
густонаселенной местности у подножия гор Тайханшань из лона союза родилась священная проституция.
Сестры еще со времени пребывания возле болота Далоу привыкли к тому, что если в уединенном месте, на горной тропе или в лесу к ним приближаются незнакомые мужчины, то лучше самим пойти им навстречу, обменяться дружескими приветствиями; да и от ласк уклоняться не стоит, иначе не ровен час накличешь на себя беду. После нападения разбойников, случившегося близ Тайханшаня, такая манера вести себя стала обычной.
Сестры особым образом снаряжались, чтобы стеной кротости оградить «Расколотую Дыню» от любых посягательств. Они уже не расхаживали по округе в нищенских лохмотьях, но с помощью братьев старались раздобыть для себя яркие одеяния, красиво расписанные ширмы, изящные гребни для волос. Каждый вечер они собирались вместе, и самые опытные учили остальных петь восхитительные любовные песни «пестрых кварталов», играть на лютне– пиба. Встретив рабочих, ремонтирующих императорские дороги, или крестьян, выкапывающих земляные орехи, сестры уже не пугались и не пытались бежать: они пускали в ход свое женские чары и невредимыми проскальзывали сквозь любое препятствие. Среди пяти сотен сектанток нашлось около десятка таких, которые очень хорошо представляли себе положение приверженцев Ма Ноу, навсегда связали свою судьбу с «Расколотой Дыней» и, проявляя ум и решительность, всячески способствовали укреплению этого союза. Священной проституцией занимались, конечно, самые молодые и красивые. Такие говорили, что никто не помешает им достичь Западного Рая кратчайшим путем – теперь, когда они готовы разделить с каждым встречным всё, буквально всё.
В предгорьях Тайханшаня происходило нечто удивительное, сказочное – наивное, как народные песни. Нищие странники воздвигли здесь свои хижины, и мужчины стали регулярно подниматься в горы, где селения лепились одно к одному. Девушки же, обнявшись, отправлялись к размежеванным на шахматные клетки полям. Потом разбредались по узким тропинкам, которые разделяли участки, засеянные рисом или пшеницей. Гниловатая земля проседала под легкими стопами «дарительниц счастья». Среди зелени злаков вспыхивали ярко-красные пятна: на стеблях высотой с трехгодовалого ребенка покачивались тугие круглящиеся цветы – шелковистые головки мака. Девушки все были с челками, прилипавшими к низким лбам. С их пестрых поясков свисали чаши для подаяния. Те красотки, что не привыкли много ходить, просто усаживались на землю и потряхивали палочками с прикрепленными к ним латунными трещотками.
Встретив работающую в поле женщину или девушку, «дарительница счастья», эта нарядная нищенка, всегда ее приветствовала, называла свое имя, говорила, что принадлежит к союзу «расколотых дынь», рассказывала что-нибудь интересное и сама участливо слушала новую знакомую, а на прощание вручала ей подарок – полотняный мешочек с пеплом или бумажный лист амулет с начертанными на нем иероглифами.
Встретив же мужчину, расспрашивала его о ближайшей округе, о благоприятных силовых линиях; если он вел себя почтительно, принимала от него угощение, усаживалась рядом с ним на меже, под софорой, трапезничала, а пока он восторженно смотрел на нее, рассказывала о благочестивых чудотворцах, с которыми теперь живет, и о своей прошлой тяжкой жизни. Потом поднималась и мелкими шажками шла дальше, часто оборачиваясь и кланяясь на ходу. Если же святая проститутка видела человека, который дрожал мелкой дрожью или бросал вокруг испуганные взгляды, она как могла утешала его: садилась в некотором отдалении, пела одну или две песенки – очень короткие, неизвестные в тех краях. Распахнув свободный халат, вынимала красный, спрятанный на груди платок, обвязывала себе лицо. Из-под платка вырывался ее звонкий смех, и так, с закрытым лицом, она позволяла счастливчику делать с ней все, чего он желал. А затем тихо удалялась по тропинке, и больше ее в тех местах не видели.








