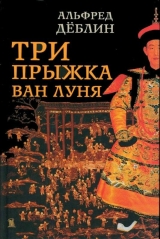
Текст книги "Три прыжка Ван Луня. Китайский роман"
Автор книги: Альфред Дёблин
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 40 страниц)
Чжаохуэй со своими войсками приближался быстрым маршем. Передовой, совсем небольшой отряд его солдат ежедневно беспокоил мятежников с тылу и с флангов, остальные вынуждены были прервать поход из-за недостатка провианта и камнепадов, забаррикадировавших горные дороги.
В тот день, когда победоносные войска Ван Луня взяли приступом внешние стены Пекина, Цяньлун и Цзяцин сидели в Цяньцингуне [305]305
Цяньцингун(Дворец Небесной Чистоты) – первый из «трех тыльных дворцов», резиденция императора и старшей императрицы.
[Закрыть], приватном императорском дворце в черте Запретного города, и молча слушали невероятную музыку – крики и вопли, доносящиеся из Китайского квартала.
Цяньлун, исхудавший, в желтом одеянии, слегка наклонился вперед в своем кресле, пододвинутом к открытому окну: «Когда таши-лама посоветовал мне терпимо относиться к религиозным сектам, щадить их, я не знал, будет ли это правильно с точки зрения моих предков. Когда же все главы ведомств и цензоры объединились, когда меня поддержали и главные царевичи, мы вместе составили указ об уничтожении еретиков».
Цзяцин, не поднимая глаз, пробормотал: «Все правильно. У нас надежные стены. Чжаохуэй вскоре будет здесь».
«Крики способны одолеть стены. Должна установиться справедливость, Цзяцин. Дело вовсе не в моей жизни. Я должен быть справедливым. Не следовало ли мне пойти на уступки?»
«Если бы я осмелился просить моего отца не поддаваться – снова и снова – упадническим настроениям…»
«Я совершенно спокоен, Цзяцин. Я просто хотел бы еще раз все обговорить, для тебя это будет поучительно».
«Мой отец всегда приносил жертвы Небу, подражал великим предкам, в предписанные дни возжигал для них благовония, народ благодаря ему процветает…»
«Народ непроцветает. Мой народ перестал быть миролюбивым, ибо более не чувствует себя счастливым. Видишь пламя пожара к северу от Храма Земледелия: вот какие жертвы приносят мне мои подданные! И я должен их за это любить?»
«Вы сделали для народа столько великого, беспримерного, что я никогда не отважусь сопоставлять какое-либо из грядущих правлений с вашим…»
«Слова, Цзяцин, пустые слова. Народ думает иначе. Я потерял лицо.Мое время заканчивается».
«Убийца Ван Лунь хочет опять возвести на престол Минов – Минов!»
«Это нелепость. После меня будешь править ты. Мне только хотелось бы знать, сделаю ли я – я – все, чего требует настоящий момент, если сейчас отрекусь от престола?»
«Отец, я ведь уже просил… Как я смогу править после вас – я, не имеющий ни заслуг, ни силы духа, ни литературной славы, не способный натянуть лук, вскочить на коня? После вас – когда вы еще не насытились властью?»
«Как вопят китайцы…»
«Они, похоже, ликуют. Стреляют из пушек. Да – и пускают ракеты».
«Чтобы мы их лучше видели, Цзяцин. Какой дикий народ! Совершенно лишенный разума…»
«Я закрою окна, отец, и задерну занавеси».
«Оставь, мне это не мешает. Это поучительно. Ты должен хорошо запомнить эти мгновения. Мы не часто оказываемся в ситуации, когда видим лица людей так близко. Минская династия не вернется – слышите, вы, дурачье? Императоры – не вчерашний обед, который можно опять подогреть. Вам же лучше – в десять раз лучше, – что вместе с маньчжурами пришла Чистая Династия! Вам требуется железная рука. Для такого народа невозможна никакая свобода. Его спасет только любовь, проходящая по улицам строевым шагом, с саблей на боку!»
Цяньлун теперь стоял у окна, угрожающе вскинув кулак. Цзяцин тоже поднялся. Цзяцин, после паузы: «Агуй удерживает Маньчжурский город. Наши валы и стены хорошо охраняются».
«Я знаю, ты не уверен в том, что они охраняются хорошо. Но для здешнего сброда и так сойдет».
«Не лучше ли было бы, отец, перебросить еще войска – часть Маньчжурских знамен, лучников из Гирина [306]306
Гирин– провинция в северо-восточном Китае, при династии Цин считалась доменом маньчжурского дома, до середины XIX в. переселение туда китайцев запрещалось.
[Закрыть]– в Пурпурный город? Потому что ходят слухи о ненадежности некоторых наших знаменных полков».
«Наши полки все надежные. Откуда такие слухи?»
«Я не могу сообщить вам ничего определенного. Мой слуга передал мне подозрительную вощеную табличку с тайными знаками, которую обнаружили в казарме одного из знаменных полков. Я поспрашивал, но мне только сказали, что были и другие подобные инциденты».
Цяньлун язвительно ухмыльнулся: «Какие-то слухи… Подозрительная табличка… Казарма… Моим евнухам следовало бы слушать повнимательнее. Обычные женские сплетни. Только и всего».
«Тем не менее, это тревожит…»
«Я заметил. Тебя это встревожило».
«Царевна и остальные царевичи тоже слышали нечто подобное. И если мы боимся…»
«То вам же хуже, Цзяцин. Не дело царевен думать об обороне Пурпурного города. Ответственность за династию лежит на моих плечах».
Он захлопнул окно: «Задерни-ка занавеси, Цзяцин. На дворе слишком жарко. И шум мне надоел. Расскажи лучше о своих павлинах».
Цзяцин вопросительно посмотрел на него.
«Сколько их у тебя сейчас? Озаботился ли твой слуга, надзирающий за птичником, тем, чтобы получить самцов-производителей от Вана Турфанского? У меня таких самцов шесть – и все редкостной красоты».
Цзяцин промолчал. Император, теперь весь напружинившийся, невозмутимо продолжил: «Ты уже не интересуешься павлинами? Или в данный моментне интересуешься? Это ты зря. Животные и книги одинаково хороши: они не меняются. Те, за стенами, скоро перестанут стрелять. Чем мощнее движение, тем скорее оно выдохнется. А это восстание в пользу Минов – действительно мощное. Так что не тревожься, Цзяцин».
Старый государь расхаживал – с нарочитой жесткостью, почти не сгибая колен – по комнате. Поравнявшись со столом, заваленном бумагами и книгами, взял одну книгу, полистал; нахмурил лоб; его морщинистое лицо приняло задумчивое выражение.
Не отрывая глаз от страницы, он снова уселся к окну: «Да, это так. Именно так. Как хорошо, что имеются книги, которые я сам написал. Я могу сравнивать себя нынешнего с тем, каким был раньше; могу искать, находить… Мне хочется съездить в Мукден. Он очень красив; я когда-то описал его так, как юноша описывает прелести своей возлюбленной: описал горы, леса, бессчетных рыб в Талинхэ и других реках. Охоты; Тайцзун [307]307
Тайцзун —посмертное храмовое имя Абахая (1592–1643), первого императора Цинской династии, который правил под девизами Тяньцун (Покорный Велению Неба) и Чундэ (Накопленная Благодать) в 1626–1643 гг.
[Закрыть]не даром говорил: „Сражайтесь! Это единственный вид отдыха, достойный маньчжуров; наши горы поставляют нам врагов особого рода: охота должна быть для нас подобием войны“». Император опять погрузился в чтение; Цзяцин тихонько поднялся, неуверенно направился к выходу. Цяньлун окликнул его, улыбнулся: «Побудь со стариком. Он, может быть, тебя успокоит. Не ходи к женщинам, не то совсем потеряешь голову». Цзяцин послушно вернулся; император смотрел на него, все так же улыбаясь.
Пока Цзяцин сидел рядом с императором и опять безуспешно пытался убедить его вызвать в Пурпурный город дополнительные войска, а Цяньлун холодно и насмешливо возражал, в огороженном пространстве между дворцовыми павильонами царило смятение. У стен волновалась толпа, представлявшая собой непривычное смешение евнухов и военных. Евнухи пересчитывали солдат, затыкали себе уши при каждом новом выкрике ликования, доносившемся из охваченного пожаром Китайского квартала, бегали к павильонам, чтобы рассказать последние новости перепуганным дамам и высокопоставленным чиновникам, которые там заперлись. Самые жирные евнухи собирались группками, дрожали от страха, напяливали на себя шлемы, хватали мечи и щиты. Некоторые – более почтенного возраста – имели при себе шелковый шнурок или листочек золотой фольги, чтобы в крайнем случае умереть легкой смертью. Один добродушно настроенный солдат с черным петухом под мышкой показывал свою орущую птицу пробегавшим мимо евнухам и утешал их: пусть не волнуются – он готов пожертвовать кровь из гребня этого трехлетнего самца, чтобы облегчить их душам путь до могилы [308]308
…пожертвовать кровь из гребня этого трехлетнего самца, чтобы облегчить их душам путь до могилы…Считалось, что петух отвращает демонов и что в случае внезапной смерти следует с помощью трубочки влить кровь из гребня петуха (желательно – черного) в нос умершего (см.: Де Гроот, Война с демонами…, с. 51).
[Закрыть]; вот только оплатят ли они ему заранее такую услугу? Ближе к вечеру, но еще до наступления темноты Цяньлуна пронесли в паланкине вдоль стен Маньчжурского города: в течение часа он инспектировал воинские части и проверял, как охраняются разные ворота. Держался он с устрашающим хладнокровием. На ночь Цзяцина вызвали к императору. Принц – вне себя, чуть не плача – умолял отца как можно скорее перебросить дополнительные войска в Запретный город. Цяньлун нетерпеливо прервал его, заметив, что негоже прятаться от судьбы, уж коли она желает испытать Чистую Династию. Разве царевич сомневается в том, что фанатичные приверженцы Минов непременно – непременно! – разобьют себе лоб? И далее Цяньлун принялся терзать Цзяцина перечислением охраняющих Пекин военных подразделений, по мнению царевича слишком немногочисленных.
Как и ожидалось, посреди ночи распоясавшиеся мятежники начали штурм Маньчжурского и Императорского городов. В этой атаке, похоже, не было никакого порядка: крики штурмующих доносились одновременно со стороны обоих северных ворот, Фучэнмэнь и Аньдинмэнь, и трех южных – Шунчжимэнь, Хатамэнь и Цяньмэнь [309]309
Шунчжимэнь, Хатамэнь и Цяньмэнь…Все перечисленные выше ворота расположены по периметру Маньчжурского города.
[Закрыть], от которых начиналась большая Императорская улица. Натиск мятежников был необычайно сильным. Для того, чтобы взломать ворота, убить или оттеснить караульных, им потребовалось совсем немного времени. Вначале маньчжурские войска отступили, но затем стали упорно и ожесточенно обороняться на улицах и в казармах. Сметая все на своем пути, толпа мятежников хлынула, прямо по трупам павших, через просторные ворота Южного города. Массы повстанческой армии смешались с торговцами из Китайского квартала, которые быстро присоединились к победоносным знаменам с минской символикой.
Коротконогие и широкоплечие маньчжурские солдаты сражались с высокорослыми уроженцами северных равнин, жаждавшими отмстить за ужасную засуху: крестьяне бесстрашно врывались в казармы, размахивая молотами для отбивки кос или свистящими молотильными цепами, – и падали с простреленной грудью. «Братья» и «сестры», предпочитавшие драться отдельно от других, изрыгали, подобно чудовищам, смерть – и сами ею давились.
Ослепительное бело-красное море огня на востоке Маньчжурского города дополняло эту картину подвижными перекрестиями легких световых бликов и тяжелых теней. Новый зерновой амбар на севере тоже полыхал. Дождь искр пролился на благодатную почву – расположенный чуть южнее огромный рисовый склад [310]310
…огромный рисовый склад…Новый зерновой амбар и рисовый склад обозначены на карте Пекина (Маньчжурского города), воспроизведенной в изд.: Meyers großes Konversations-Lexikon.Bd. 15. Leipzig und Wien, 1906, S. 543.
[Закрыть]– и за несколько минут превратился в гигантский, беснующийся на ветру цветок мака. Под этими праздничными огнями сталкивались, проникая друг в друга, судорожно дергающиеся комки человекомассы. Гротескно-беспомощные трепыхания, ломаные контуры, мельтешенье рук, прыгающие силуэты, призрачный гон по затененным казарменным дворам и переулкам. Жужжание, треск, хруст в перегретом воздухе: доносящиеся со всех сторон, заглушающие более привычные звуки – традиционную игру в вопросы и ответы между смертью и человеческой жизнью.
Больше часа, двойного часа, продолжалась борьба, а потом и маньчжуры, и мятежники скатились в зловонный северный ров перед Запретным городом: ров этот – угольно-черный и не движимый – ждал их за стеной.
Настороженное оцепенение нарушилось здесь в тот миг, когда с башен Верхних северных ворот [311]311
…с башен Верхних северных ворот…Ворота Шэньумэнь, северный вход в Запретный город.
[Закрыть]грянули пушечные залпы и зарево большого пожара перестало освещать кроны туй и кипарисов [312]312
…кроны туй и кипарисов…Непосредственно за воротами во второй, параллельной первой, северной стене Запретного города расположен сад Юйхуаюань.
[Закрыть]; но через несколько минут тишины такое же сияние поползло меж стволами, по земле, подбираясь к оранжереям в северной части сада. Мятежники сломали Верхние северные ворота. Их перекошенные лица, зловонные испарения рва и окраинных переулков влились в жесткую изложницу Запретного города.
Здесь темнели каре надежных гвардейских полков. Опустевшие женские павильоны дрожали от топота мятежников, которые крушили все вокруг. Маленькая сокровищница в восточной части сада была взломана; на ступени выплеснулись широкой струей слитки серебра, сундуки с драгоценностями, шелковые отрезы; вазы вдребезги разбивали свои выпуклые бока.
Зажатые в тесном проходе между северной и другой, тоже поперечной стеной, защищающей императорские дворцы, противники намертво сцепились друг с другом. Из горящего Маньчжурского города никто больше не мог протиснуться в это до отказа заполненное пространство. Опьяненные борьбой женщины задыхались под аркой ворот.
Ван Лунь, опередивший товарищей, оставлял провалы в сомкнутых рядах гвардейцев. Он стонал, орудуя длинным мечом. Обнаженный до пояса, трудился, почти теряя сознание, не чувствуя механически поднимавшихся и опускавшихся рук. Время от времени отскакивал назад, замирал, уронив голову на грудь и обливаясь п о том: неподвижный словно бронзовый бык в набегающей человеческой волне, которую он крушил уже одним своим видом – налитыми кровью глазами; набухшими, будто они были в перчатках, кистями рук; лицом, непомерно раздувшимся под глиняной маской. Потом – опять начинали работать шарниры железных колен, плечи и локти вклинивались в супротивную человечью массу. Желтый Скакун поблескивал, перемешивая кровь с кровью в ступе императорского цветочного сада.
Го, залитый кровью, сражался неподалеку: буравил чужую плоть коротким обоюдоострым мечом; расщеплял направленные на него деревянные копья. Щель за щелью прорубал он в мягкой живой стене, вокруг него бурлил водоворот из человеческих тел.
Перед дворцовой стеной порхали над головами мятежников стройные мотыльки: стрелы; садились на зиявшие им навстречу щеки, плечи, шеи; украшали – шатающихся, бессмысленно улыбающихся.
В то время как в Маньчжурском городе целые площади наперебой надрывали глотки, здесь, между двумя стенами, лишь изредка раздавался одинокий вскрик. В не разрываемой вспышками света тьме фыркала, грохотала, опускала свой поршень невидимая машина. Измельчали что-то ее зубья. Таяли каре гвардейцев. Еще немного – и вторые ворота в Запретный город откроются. Горестный стон пронесся над рядами защитников. И тут императорские солдаты вдруг подались в стороны, дождь низвергающихся со стен стрел разом прекратился. Из Запретного города громогрохочуще вылетел через эти ворота свежий кавалерийский полк, клином вонзился в упругий комок мятежников, который немедленно раскололся.
И внезапно в Маньчжурском городе ликование сникло, отшатнулось – из-за пронзительного свиста маньчжурских всадников, из-за раскачивающего землю топота их коней. Тысячеголосый вопль тоски и ярости между обеими стенами. Медленное, шаг за шагом, отступление за пирамиды трупов. Верхние северные ворота стиснули, перемешали, вытолкнули беглецов. Запретный город выблевал мятежников. И они покатились в ров. А на той стороне, в Императорском городе, сразу очутились под копытами гнедых коней. Зажатые в клещи, посылали предсмертные крики к небесам. Кривые маньчжурские сабли кромсали их лбы и спины.
И тогда безвольная человеческая масса встрепенулась.
С шипением выпустила воздух.
Как взорвавшийся паровой котел.
Фронт всадников в мгновение ока был прорван.
Последнего всплеска ярости как раз хватило на то, чтобы разметать преследователей-маньчжуров.
В нетерпеливом порыве мятежники устремились к горящим амбарам и мимо них – через не охраняемые уже восточные ворота, Дунчжимэнь и Чжихуамэнь [313]313
Дунчжимэнь и Чжихуамэнь– ворота в восточной стене Маньчжурского города.
[Закрыть], прочь из Маньчжурского города, прочь из Пекина.
Их вынесло на безмолвную и прохладную ночную равнину, к околицам маленьких деревень.
Дегтярно-черным казался Запретный город. Цяньлун вздохнул у окна, рядом с которым на узком столике тускло мерцал светильник. Император все еще держал в руке свое стихотворение о красотах Мукдена. Цзяцин молился, распростершись перед статуэткой Конфуция, поставленной на бронзовый цоколь. Император холодно наблюдал за ним. Когда царевич поднялся, старый насмешник хлопнул в ладоши и что-то тихо сказал подбежавшим евнухам. Цзяцин увидел на двух деревянных блюдах головы обоих предателей – начальников караула.
ЧЕРНЫЕ ЗНАМЕНА
«Белого Лотоса» и «поистине слабых» развевались к северу и к востоку от столицы. Неучастие в штурме мятежных императорских полков быстро разъяснилось. Цяньлун, которого предупредили о заговоре, накануне вечером велел арестовать подозрительных младших военачальников и держать их под охраной в Запретном городе. Они находились в северной части города, как раз в той, что подверглась нападению; все были освобождены во время штурма; пятеро погибли, а четверо других – в их числе и Желтый Колокол – покинули город вместе с потоком беженцев. Перепуганные солдаты мятежных полков ночью напали на своих же товарищей и одержали победу. Оба начальника караула, которых таким изощренным способом привлекли на сторону восставших, были, кажется, сразу после задержания убиты по приказу Цяньлуна.
Три вождя – Ван Лунь, Го, Желтый Колокол – вскоре объединились. Ван бушевал, негодуя на собственных солдат. Некоторых он велел обезглавить еще в ходе отступления – потому что они, как было доказано, сеяли панику. Весь пыл его ярости обрушился на только что разбитое войско. Лишь благодаря его твердокаменному упорству мятежники уже через два дня смогли в боевом порядке двинуться в северо-восточном направлении – навстречу выступившим против них солдатам Чжаохуэя. Шесть тысяч человек под командованием Го остались на месте, чтобы прикрывать тылы. Была достигнута договоренность с независимыми отрядами мятежников: о том, что отныне они будут согласовывать свои вылазки и грабежи с планами повстанческой армии.
Чжаохуэй отклонил предложения помощи со стороны командования провинциальных войск. Получив сообщение о разгроме мятежников в Пекине, он стянул в один кулак остававшиеся под его началом разрозненные воинские части.
И под громами и молниями первой грозы того лета, через десять невыносимо знойных дней после бегства повстанцев из столицы, два враждебных войска встретились на холмах Инпина. Сопение и хрюканье в небесах, потряхивание гривой, скрежет зубов, удары хвоста, выкачивание глаз – благодарных зрителей для этого спектакля не нашлось. Из черного воздуха на невидимом шнуре свисал – висел над обеими армиями – гигантский гонг, его удары раззадоривали противников. Два снежных барса прыгнули друг на друга. Ветераны джунгарской войны со сладострастием утоляли жажду крови. «Поистине слабые» позволили разгоряченному врагу зажать их в кольцо своих лап – и потом сломали ему хребет.
Чжаохуэй, гарцевавший на сером жеребце, наблюдал за ходом сражения сверху, с холма. Ван Лунь же катил свою молотилку понизу, по дороге, обмолачивая человекозерно. Потом чернота неба с треском разорвалась, и из трещины посыпались градины, затанцевали на головах. «Поистине слабые» даже в слепящем хаосе бури сражались с ледяным спокойствием. Не обращая внимания на раны. Им было все равно, умрут они или останутся в живых. Огонь, поначалу воодушевлявший джунгарских ветеранов, не пожрал себя до конца – начал чадить, колебаться. Мятежники не предпринимали стремительной атаки: одолевали врага постепенно и невозмутимо, не столько тесня его, сколько сами теснимые железной необходимостью.
Когда Чжаохуэй со своими сломленными солдатами наконец обратился в бегство, мятежники преследовали его по пятам. Однако преследуемыми были и те, и другие. И те, и другие бежали, бросая убитых, сломанные повозки, лишенные мускульной силы мечи и топоры – как будто все это годилось лишь на удобрение для полей.
Потерпевший поражение императорский полководец затворился в городе Шаньхайгуань.
ЖЕЛТЫЙ КОЛОКОЛ
и Ван Лунь, оба на конях, проехались вдоль стены, защищавшей западную, обращенную к морю часть города.
Красный дворец военачальника сверкал как лезвие алебарды, к югу от него широко расставила ноги серая мемориальная арка; табличка на ее лбу восхваляла давние победы над монгольскими князьями.
Отсюда, с возвышенности, можно было видеть грязно-желтое море, белые паруса джонок, парившие над волнами. Город соскальзывал в море, усеивая дельту реки и укрепленное побережье домами-лодками; если бы не метровой ширины стена с дозорными башнями, этими хищными твердокаменными челюстями, мятежникам хватило бы одной атаки, чтобы опрокинуть императорских солдат в прибрежные воды.
Желтый Колокол задумчиво смотрел на серые крыши с отблесками неяркого солнца. Он вспоминал ту ночь полнолуния, когда они с Ваном стояли на опушке леса перед другим, полуразрушенным городом. Лист книги перевернулся. Много ли пройдет времени, прежде чем и эти стены встретятся со своей судьбой?
Ван дотронулся до руки друга. Сказал, что, если бы речь шла о нем, он бы предпочел штурмовать город немедленно. Но какими сильными, каким бесценным сокровищем были братья и сестры, погибшие в Монгольском квартале, – какую силу духа они проявили!
«Знаешь ли ты, Желтый Колокол, как выглядит судьба? Как труп: с ней нельзя заговорить, ее нельзя ни умилостивить, ни рассердить; можно только приманивать ее душу вымпелами – укрепив их в саду, и на крыше, и перед дверью, и во дворе!
Много ли осталось в живых тех братьев, что были свидетелями случившегося в горах Наньгу? Ни в одну эпоху, думается мне, земля за такой короткий срок не приняла в себя стольких несравненных воинов; страна наша благоухает, потому что по ней бродят д у хи этих дорогих для нас мертвецов. Я же пока жив и должен вести своих людей к победе. Но что я делаю – вновь и вновь? Пожираю чужие жизни, насыщаю землю драгоценными человеческими телами – в окрестностях Хуацина, в Пекине, в Инпине. Меня онине пожелали взять с собой. Передо мной громоздятся жертвы, да я и сам уже труп – который земля пока не хочет принять, не позволяя мне присоединиться к тем, дорогим жертвам. Так что какое-то время я еще побуйствую на этой земле; имя Ван Лунь будут произносить как имя одного из богов преисподней; а потом – где-нибудь, когда-нибудь – я засну, так и не узнав, почему все это случилось».
Они спустились к ильмовой роще, привязали коней, уселись на мху.
Желтый Колокол, с болью во взгляде, погладил Вана по плечу: «Что с тобой? Что?»
«Мы должны завоевать для себя царство. Должны возвести на престол Минов, которые станут нашими императорами. Я не вправе допустить, чтобы случившееся оказалось напрасным. Ма Ноу говорил, что его братья и сестры спаяны в одно кольцо; он не желал быть спасенным мною. И теперь я говорю то же самое. Мы не должны допустить – даже если потерпим поражение, – чтобы у нас отняли это: что мы восстанавливаем империю Минов. Во мне, дорогой брат, все беспорядочно кружится. Но в этот железный стержень я вцепился зубами: путь уже предопределен; обо мне вопрос вообще не стоит».
«Что ты имеешь в виду, Ван, – когда говоришь, что о тебе вопрос не стоит?»
Ван с таинственным видом повернулся к высокому полковнику: «Существует разница между тобою и мною. Я – почва, из которой произросло движение у-вэй, присвоившее часть моего духа. Раньше я думал, что должен приготовить для „поистине слабых“ красивое, богатое, чистое жилище в Чжили – и суетился, носился повсюду с Желтым Скакуном; теперь „поистине слабые“ обрели собственный голос, собственную озвучивающую этот голос глотку; они вздыхают, словно являются духом моего тела, – и я обязан предоставить им прибежище, место успокоения внутри меня самого. Они смеются надо мной, как смеялся Ма Ноу. Ма Ноу, ты когда-то рассказывал мне о добрых, отводящих взгляд буддах, но как много с тех пор обрушилось на мои плечи! Теперь, дорогой брат, все ждут от меня каких-то слов, и лица у них такие странные, удрученные. Жена моя осталась в Сяохэ и не проливает слез; но мой сын, которого я произвел на свет без жены, у-вэй, – тот непрерывно плачет и зовет меня. Ты ведь понимаешь, чт о я хочу сказать. Мой сын способен плакать. Я должен защищать братьев и сестер, как делал всегда. Мы призваны восстановить империю Минов».
Полковник отвел взгляд, собираясь с мыслями, потом сказал: «Ты не похож на Ма Ноу, совсем не похож. Ван Лунь, мой брат, идет правильным путем, но – страшась и вопреки своему страху. Желтый Колокол мало что знает о трудной судьбе Ван Луня. Желтый Колокол просто думает, что нужно быть смелым, нужно бороться. Мы все – дети „ста семейств“, и я повторю за тобой: разве дело во мне? Мы ведь, дорогой брат, хотим очистить наш общий дом, чтобы нам всем было хорошо».
Ван нежно дотронулся до его руки: «Поедем дальше, брат! Смешно – я, с тех пор, как вернулся из Сяохэ, во всем путаюсь. Помню только, что родом я из Хуньганцуни, что имею крепкие кости и здоровенную пасть – а больше я о себе ничего не знаю. Когда-то я познакомился с одним мусульманином и с бонзой. Оба были моими друзьями… Да не слушай ты так серьезно мою болтовню! Ты прямо как Го – тот тоже все качал головой».
Они быстро подскакали – на расстояние полета стрелы – к стене, которую патрулировал один из отрядов осажденных. Им было видно и то, что делалось за стеной: заполненные народом улицы; на рынках, между продавцами и покупателями, – группы шатающихся без дела горожан. Жеребец Ван Луня загарцевал; на лице всадника проступило радостное любопытство; хитрые глаза привычно разбирали по частям группки прохожих. Услышав окрик Желтого Колокола, Ван повернул коня: солдаты на стене натянули луки. Друзья поскакали дальше.
И мгновенно терзавшие Вана мысли куда-то отступили. Да, он убил в Монгольском квартале Ма Ноу и «расколотых дынь» – будто подвел черту под убыточным счетом. Он поверил Ма Ноу, который затем сам, без его участия, осуществил на практике учение у-вэй; с тревогой и ужасом смотрел Ван на то, как все это развивалось и чем закончилось; он по праву решил судьбу движения, ибо оно, по сути, было его детищем; он не хотел допустить, чтобы человеческая низость омрачила умирание этой мечты. Обуянный жаждой мести, он не бросил меча, когда бежал, предрекая смерть врагам, с поля, усеянного мертвецами, – но в глубине души уже тогда знал, что здесь, собственно, и мстить-то не за что, что нет никакого врага, с которым он мог бы сразиться, ибо такой конец секты был неизбежен. И когда Го рассказал ему о смерти Ма Ноу, с него будто страшным рывком сорвали уютное одеяло мстительности: он был побежден, уничтожен, задушен, еще хуже, чем когда-то – дусы. Пришло отвращение: с у-вэйвсе кончено! И тогда вынырнули Сяохэ, решимость уйти в себя, хитростью – всего на несколько месяцев – вырванный у судьбы покой; крестьянин, всегда таившийся в Ване, казалось, медленно выбирался на волю. Между тем, его учение в Чжили не умерло, а пожирало ту пищу, которую находило вокруг; и Ван не мог долго притворяться глухим и слепым, отрясая с себя, как прах, свое прошлое; гнев на императора снова откупорил его; движение у-вэй, пусть и отклонившееся далеко в сторону, оставалось для него самым кровным, самым дорогим делом. Он вернулся без особой охоты, но мощное движение увлекло его за собой; он сам часто не знал, в чем состоит его долг, мечтал о мягком пути «недеяния» и видел, что вовлечен в бесконечную, безнадежную череду убийств. Он не находил дороги к самому себе. Теперь, заглядывая через стену Шаньхайгуани, он видел кишащие людьми рынки, улицы; и внезапно им овладело радостное возбуждение; в нем дернулось, как рычаг, решение, ничем не обоснованный порыв: «Туда, туда – и без оружия!» Он не понимал, что перед ним возникло подобие давно покинутой им Цзинани, что изо всех его пор капельками пота рванулась наружу приверженность принципу у-вэй. Терпеть, терпеть, страдать, но выдержать все! Не противиться! Как Су Гоу! Впервые за долгое время он опять любил жизнь. Ликующе вскинул руки навстречу городу. Поддался слабости – снова больше всего на свете хотел быть городским шутом.
Войско мятежников полностью отказалось от первоначального деления на две части: боевое братство связало «Белый Лотос» и «поистине слабых» неразрывными узами. Крепкие мужчины и женщины бегали по лагерю, разбивали палатки, толкали тележки с провиантом, работали топорами и мечами; хлопали на ветру черные знамена; о том, что будет дальше, никто не думал. Нужно победить, изгнать маньчжуров, восстановить золотую Минскую династию… «Поистине слабые» ничем не отличались от членов тайного общества – разве что больше гордились собой, в сражениях совершали чудеса храбрости, на лагерных стоянках устраивали для забавы опасные поединки между двумя или четырьмя противниками, всем своим видом демонстрировали грозную уверенность в себе.
Повстанческая армия расположилась широким полукругом вокруг Шаньхайгуани, отдыхала после последних битв; ожидала подкреплений, которые уже выступили из Шаньдуна и Ганьсу. Судя по сообщениям из Чжили и соседних провинций, там собирали провинциальные войска; прибывавшие оттуда люди говорили, что численность этих правительственных формирований резко возросла. Но сообщения подобного рода вызывали у повстанцев только блаженный смех.
Услышав о том, что мятеж расширяется, из Нанкина [314]314
Нанкин– центр провинции Цзянсу.
[Закрыть]прибыли двое мужчин, которые утверждали, будто принадлежат к роду Минов. Они присоединились к повстанцам на следующий день после пекинского разгрома и вскоре проявили большое мужество в сражении с солдатами Чжаохуэя. Они были двоюродными братьями: старший – крестьянин лет пятидесяти; младший – юноша лет двадцати с небольшим. Свойственная им серьезность и приятная, благородная манера поведения нравились их новым товарищам. Братья, конечно, могли подтвердить свою принадлежность к прежней династии лишь собственными рассказами весьма фантастического толка, но люди им верили. Вернувшись после конной прогулки вокруг города, Ван спросил младшего из «Минов», женат ли он. Тот ответил, что нет. Ван окинул взглядом красивого загорелого юношу и сказал, что, пожалуй, тому пора бы подумать о женитьбе. Молодой человек улыбнулся, смущенно отвел глаза: он рад, что у Вана хорошее настроение; он припас для Вана гостинец – коробочку засахаренных фиников; почему бы им не полакомиться вместе? Ван эту мысль одобрил, спросил, где его собеседник раздобыл финики. Они уселись перед палаткой, сосали сладкую мякоть, выплевывали косточки, довольно поглядывали друг на друга. Он уже давно не ел засахаренных фруктов, задумчиво пробормотал Ван, – в последний раз пробовал их в Шаньдуне; это было давно. В городе Бошань его однажды пригласили к купцу, который возглавлял «Белый Лотос»; там-то он, Ван, накушался таких сладостей вволю, от пуза. Да, согласился Мин, в здешних краях их нечасто встретишь, особенно теперь. Так что, он правда еще не женат? – продолжил прерванный разговор Ван; в военное время жениться – значит проявить мудрость: после свадьбы, возможно, родится сын, а тогда и умирать будет не так страшно. Да-да, не надо удивляться! Короче: желает ли молодой Мин жениться на дочери маньчжурского военачальника Чжаохуэя? Если желает, то получит ее без всяких хлопот: Ван сам возьмет на себя роль свата. Молодой человек решительно отказался: пусть Ван не обижается, но он, Мин, таких насмешек не заслужил; ясно же, что его родственные связи с прежней династией в данный момент никого не интересуют. Ван не отставал. Как, мол, его приятель не понимает таких простых вещей: если военачальник отдаст свою дочку – считай, он уже на стороне повстанцев; не отдаст – ну, тогда будет видно. Минам не следует лезть на рожон, им пристало обезоруживать врага своей спокойной уверенностью, мыслить дипломатично. «Мин», сбитый столку, покраснел, промямлил что-то неразборчивое. Значит, договорились, подвел итог Ван, прежде чем оба отправились к котлам с пшеничной похлебкой: Мин, пока не имеющий невесты, уполномочивает Вана быть его сватом. И должен сейчас написать для Вана памятку с указанием года, месяца, дня и часа своего рождения [315]315
…памятку с указанием года, месяца, дня и часа своего рождения.Такая памятка с восемью иероглифическими знаками нужна была, чтобы астролог, сравнив ее с соответствующими данными о невесте, мог составить прогноз о том, насколько удачным будет брак. См.: Grube, Zur Pekinger Volkskunde, S. 11.
[Закрыть].








