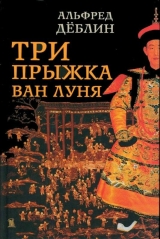
Текст книги "Три прыжка Ван Луня. Китайский роман"
Автор книги: Альфред Дёблин
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 40 страниц)
Однако пылкая страсть к женщине нарушила чистую безмятежность его помыслов. Эта женщина, правда, была одной из «сестер», но она еще не до конца преодолела себя, чтобы направить свой дух к ясно обозначенной цели. Ее, девушку хрупкой красоты, с хрипловатым голосом и мечтательными раскосыми глазами, сперва отдали из отцовского дома сорокалетнему цинику – торговцу мехами, от которого она через два года сбежала, так как думала, что он уличил ее в неверности. Муж разыскал ее и вернул назад, но она снова его обманула, после чего ей пришлось покинуть родной город. Она была счастлива, что нашла приют у странствующих сестер и братьев; могла теперь, не подвергаясь опасности, удовлетворять неистовые потребности своей плоти, от которых больше всего страдала сама; и уже почти научилась управлять желаниями.
Тут-то она и повстречалась с углежогом; она не отвергла его притязаний, но он сам вскоре отдалился от нее, больше не хотел ее видеть; помрачнел. Однажды утром, когда она пришла на задымленную поляну за селением, где он занимался своей работой, и запела, он объяснил ей, что уже много дней не в силах думать ни о каких возвышенных вещах, что он мучается – и просит ее остаться с ним навсегда, принадлежать только ему. Молодая женщина, едва он начал говорить, заплакала и закрыла красивое лицо покрывалом, ибо сразу поняла, чт о он скажет. Когда же он кончил, она оглянулась – не подслушивает ли кто; уселась с ним рядом у дымного костра, ласково обняла его, отвернувшегося, – приблизив полные щеки и ненасытные губы к мальчишескому затылку; и омочила слезами и поцелуями его косичку. Разве он не знает, что такое желание оскверняет драгоценные принципы, – а если знает, то что намеревается делать, когда другие братья проведают о его непростительном поступке?
Нун медленно повернул к ней овальное лицо, от боли утратившее всякую соразмерность черт: что случится, когда братья уличат его, он не знает; он не желает осквернять драгоценные принципы, ибо сие было бы грехом против Ма Ноу, их отца; но и не представляет, каким иным способом мог бы себе помочь. Отвратительный демон самоубийства, одетый в широкие шальвары, уже нападал на него – и в эту ночь, и в три предыдущие. «Что же мне делать, дорогая? Как твоему брату Нуну бороться с самим собой?» Они теперь сидели, не разговаривая и даже не думая ни о чем, в гадком дыму; его перепачканные сажей руки касались ее черных завитых волос.
Молодая женщина, хотя и боялась разоблачения, последовала за ним, как он желал. Они поселились в хижине, принадлежавшей углежогу, который нанял Нуна в помощники. Этот сильный, словно кряжистый дуб, но снисходительный к другим человек пытался предостеречь влюбленных, но они его не послушались.
Между тем, прошла уже добрая часть года; жители Острова готовились к празднику цинмин, Дню Душ [154]154
Цинмин, праздник «чистого света» (День Душ), приходится на конец 20-го лунного месяца (105-й день после зимнего солнцестояния, т. е. 5 апреля); он посвящен поклонению душам умерших и празднованию прихода весны.
[Закрыть]. Повсюду на свежем воздухе сооружали качели, украшенные пестрыми шнурами [155]155
Повсюду на свежем воздухе сооружали качели, украшенные пестрыми шнурами.Ср.: Wilhelm Grube. Zur Pekinger Volkskunde.В., 1901, S.65.
[Закрыть]. Колыхались на ветру поблекшие листья каштанов. На могилы насыпали холмики из свежей земли [156]156
На могилы насыпали холмики из свежей земли.Ibid., S. 64.
[Закрыть]. Начали, как обычно, выпекать всякие лакомства. По дорогам расхаживали женщины с вербными сережками в волосах – чтобы в другой жизни им не пришлось родиться в обличьи желтой суки [157]157
По дорогам расхаживали женщины с вербными сережками в волосах – чтобы в другой жизни им не пришлось родиться в обличьи желтой суки.Ibid.
[Закрыть]. Мужчины в расшитых золотом куртках, с золототканными поясами, гордо прогуливались по аллеям или сидели в чайных, играя в кости и домино.
Поблизости от храма городского бога располагалось кладбище для проституток [158]158
Поблизости от храма городского бога располагалось кладбище для проституток…Это было типично для китайского города: ibid., S. 65.
[Закрыть]; женщины из «Расколотой Дыни» хоронили там и своих сестер, с гордостью и с состраданием к ним. И вот когда утром в день праздника Цинминони поодиночке и группами устремились на это кладбище – ибо Ма Ноу разрешал своим приверженцам соблюдать все народные обычаи, – влюбленная молодая женщина, подруга Нуна, встретилась у кладбищенских ворот со знакомыми сестрами, и те запретили ей входить. Не было произнесено ни единого худого слова; сестры просто объяснили, что она уже не может причислять себя к ним – с тех пор как живет с Нуном, словно законная жена.
Опозоренная женщина прибежала домой и рассказала Нуну, у которого от волнения начали дрожать колени, что ее дух, когда она умрет, не найдет успокоения рядом с другими сестрами; она пробормотала сквозь слезы, что ее выгнали «из круга», что она больше не может так жить и должна вернуться к своим. Их хозяин – сутулый, но крепкий углежог, – услыхав эти слова, прогудел: «Знать, так тому и быть».
Нун после ее ухода целыми днями, не замечая ничего вокруг, работал у костра или в саду. Спал он не раздеваясь, на голой земле, лицо больше не мыл, к еде почти не притрагивался. Как-то утром он отправился к ограде кладбища проституток и стал поджидать там любимую. Уже под конец того дня Нун увидел, как она идет под дождем вместе с каким-то «братом»; он бросился к ней, чужака оттолкнул, а ее схватил и, несмотря на пронзительные крики, принялся таскать за волосы. Сбежавшиеся крестьяне освободили «сестру», его же хорошенько отколошматили.
Но, однажды ступив на кривую дорожку, Нун уже не мог повернуть назад. В союзе было еще много таких, кому тяжело давалось соблюдение драгоценного принципа, запрещавшего обладание женщиной как собственностью. После нелепого нападения на возлюбленную Нун часто говорил об этом с приятелями и многих сумел склонить на свою сторону. К ним присоединились и товарищи по работе из числа селян. Эта компания, собиравшаяся под ивами, послала представителя к Ма Ноу, чтобы тот разрешил некоторые отклонения от драгоценного принципа. Три царя-законодателя приказали бросить посланца в тюрьму. Упорствуя в своем желании обладать молодой женщиной – хотя та уже сбежала в столицу, к Ма Ноу, – Нун за четыре дня набрал отряд из селян, которых он убедил в нетерпимости и деспотизме царя, и из тех «братьев», которые его поддерживали. Утром они заполнили улицы столицы, чтобы принудить Ма Ноу принять их требования. Но царь-священнослужитель и его советники опередили Нуна, призвав его и тех, кто последовал за ним, подумать о своем будущем и покинуть город.
Тогда молодой Нун – грязный, босой, в разодранной одежде – явился в бывший ямэнь, служивший теперь царской резиденцией. Остановившись, с распущенными волосами, на пороге раскрытой двери, он крикнул в полумрак зала, у дальней стены которого сидели Ма Ноу и три царя-законодателя, что они должны удовлетворить его желание, иначе он воспользуется своим луком. Поскольку ответом ему было молчание, он выпустил первую стрелу, которая застряла в деревянной стене прямо над головой Ма Ноу; вторая стрела пронзила одному из царей-законодателей руку, а третья – пущенная сзади – поразила в плечо самого юношу. Застрявшая в теле стрела подрагивала, Нун рычал. Горожане разогнали возмутителей спокойствия и окружили ямэнь, самого Нуна и нескольких его приверженцев заперли во дворе. Нун при задержании яростно отбивался и даже кусался, поэтому его заковали в деревянные шейные колодки, отправили в городскую тюрьму. Цари-законодатели – сам Ма с равнодушием отказался от участия в разбирательстве – приговорили юношу к смертной казни через расчленение на куски.
Нун знал, что после такой казни его духу уже ничто не поможет. И вел себя как злой демон, стремящийся скорее попасть в подземный мир: поносил братьев и сестер, которые встречались ему на пути к судебному присутствию, насмехался над «отцом», ради которого жертвовал собой, а на месте казни так издевался над священным союзом, что палач не сумел исполнить приговор, предполагавший медленную смерть, и по требованию возмущенных зрителей задушил гнусного святотатца.
Все виновные братья, а также их пособники, были подвергнуты тяжким наказаниям и затем изгнаны. Этот мятеж и его отвратительные, невыносимые для человека последствия грянули над «расколотыми дынями» как нежданная тяжкая беда. Многим братьям казалось, что их, перенесших столько страданий, теперь заставляют терзать – рвать на куски – друг друга. Многие впали в уныние и шатались без дела, даже подумывали о бегстве за пределы Острова, мучились от нелепого ощущения пресыщенности жизнью. Другие рассматривали недавние беспорядки как процесс очищения, неизбежный в любом новом начинаний, утешали себя и других, старались воспринимать мир в более светлых тонах.
На сельских ярмарках и в столице происходили трогательные сцены. Однажды нечто в таком роде случилось и во дворе царского ямэня: подъехала двухколесная повозка, некая благородная дама с трудом вылезла из нее, засеменила к гонгу, висевшему у лестницы, и распростерлась в земном поклоне. Когда к ней вышел не то Ма, не то один из царей-законодателей, она встала на колени, покаялась в своих грехах, попутно обвинила в них родной город и собственную семью, а потом под крики сбежавшихся зевак стала снимать и складывать на ступени, одно за другим, свои украшения – браслеты, цепочки, кольца, птичьи перья; сорвала с себя пестрые шелковые одеяния, разодрала на длинные полосы нижнюю юбку, позволила сестрам, которые ее обнимали, распустить ей изящно уложенные волосы.
Присутствуя при подобных сценах, Ма обычно прикрывал глаза левой рукой. Но иногда, если кто-то снаружи ударял в гонг, он сбегал вниз по ступеням, прежде чем посланник успевал его позвать, и заглядывал в лица столпившихся возбужденных людей. Он искал среди них Ван Луня и Желтого Колокола.
ПО ПРОШЕСТВИИ МЕСЯЦА
после учреждения нового царства в столичном городе устроили праздник. Этот праздник потом многократно описывался; о нем слагались стихи, и даже Цяньлун в некоторых своих поздних виршах ссылается на него. Но почти все сохранившиеся отображения носят фантастически искаженный характер.
Всякая работа, вплоть до пограничной воинской службы, была тогда приостановлена на шесть двойных часов. На улицах столицы с утра зазвучали трубы. То были глубокие, страшные, бередящие душу звуки, начисто лишенные музыкальности – тревожные крики испуганных теней, зовы умерших о помощи, обращенные к живым; и они все более набирали силу, так что казалось, будто «взывающее» может в любое мгновение обрести материальность, влажно прилепиться к плечам прохожих. Звуки то приближались, то удалялись, доносились отовсюду сразу, и напрашивалась мысль, что город окружен ими.
Из переулков выскальзывали странные, закутанные с ног до головы существа. Они выныривали как из-под земли среди принарядившихся гуляющих, шныряли вдоль стен домов, преграждали дорогу паланкинам, жестами показывая, что проход закрыт. Там и тут в толпе раздавался смех – когда обезьяноподобные коричнево-черные твари запрыгивали на плечи порядочным горожанам, скрещивали тонкие ножки на груди своей жертвы, а потом с удовлетворенным блеяньем хватались за стропила крыш, подтягивались и раскачивались в воздухе.
По большой улице, которая называлась улицей Желтых Балок, прогуливались зажиточные горожане. Братья и сестры, расположившись в середине опустевшей рыночной площади, занялись музицированием. Тихие, но отчетливые вздохи юциня, «лунной цитры», гипнотически сладко и монотонно звучали в осеннем воздухе; затем к этому струнному инструменту присоединилась суаньцинь, «восьмиугольная цитра»: стрекотание, равномерно оборванные аккорды, которые словно тонкая золотая застежка замкнули всю цепочку, рассыпались зернышками риса по мягкой земле.
Пока сестры хором пели под этот аккомпанемент, и их голоса поднимались и опадали как волны, некоторые почтенные горожане, выбравшись из носилок и поприветствовав друг друга, успели преобразиться в потешных сине-красных «львиных собачек» [159]159
…успели преобразиться в потешных сине-красных «львиных собачек»…Имеется в виду фантастическое животное сечжи, похожее одновременно на льва и на собаку.
[Закрыть]– и стали бегать на четвереньках, драться между собой, комично подвывать в такт праздничной музыке. Двое приятелей вели церемонную беседу, прислонившись к стене торговой лавки; внезапно один из них как-то странно осел, набросил себе на спину «черепашью шаль» и, ковыляя на согнутых ногах, удалился. Все это время музыка не переставала играть. Теперь зазвучали бамбуковые флейты; в новой песне были такие слова: «Голоса как нити шелка упруги».
По улицам кружили акробаты, атлеты-тяжеловесы, фокусники, гротескные ряженые. Грохот, треск, гнусавые подвывания рожков. Сухопарый человек без косички, с набеленным лицом, в длинном и узком белом халате, подпоясанном черным шарфом, сидел на низкой скамеечке. Вокруг него расселись три взрослых снежных барса, которых он держал на пестрых тонких поводках. Звери потягивались, скребли по земле когтями. Тут от внезапного крика люди шарахнулись в стороны. И барсы большими прыжками рванули прочь, увлекая за собой человека в белом, не выпустившего поводки. Тот еле-еле удерживался, чтобы не упасть, рот его от страха стал совсем круглым. Перед Тигровой колонной на углу барсы остановились, принюхались и все трое уселись рядком, не пошевелились даже тогда, когда к ним подошли два храбрых мальчугана; потом незаметно сплющили спины и животы, переплели лапы – и превратились в картинку-силуэт, вырезанную из белой в черный горошек бумаги их набеленным хозяином, препоясанным черным шарфом; последний теперь перекосил свой неприятно подвижный рот, одна щека у него подрагивала, и выглядел он как живое воплощение смеха.
Пока акробаты крутились вокруг вертикально укрепленных шестов, жонглеры балансировали, удерживая зубами знамена с колокольчиками [160]160
…жонглеры балансировали, удерживая зубами знамена с колокольчиками…У Грубе описываются жонглеры, которые подбрасывают в воздух укрепленное на шесте знамя с двумя колокольчиками и ловят его лбом, носом, зубами: Grube. Zur Pekinger Volkskunde, S. 66.
[Закрыть], вооруженные мечами фокусники сражались в зеркальных выгородках, якобы отрубая друг другу головы и руки, усердно изображали кровожадность, а потом, выйдя к зрителям, раскланивались и собирали монеты, один ловкий паренек в высокой красной шапке сидел в деревянном киоске и неустанно указывал всем проходящим мимо на полированный ларчик, перед которым пела канарейка; по команде хозяина она открывала клювом эту крошечную шкатулку, вынимала из нее и подавала клиенту записочку.
Марионетки танцевали на гладкой доске перед простодушными крестьянами, смешившими горожан своими уродливыми веерами и бамбуковыми зонтами. С неменьшим удовольствием это мужичье толпилось, разинув рты, и возле разукрашенных прилавков, на которых дрессированные мыши и крысы карабкались по выстланным коврами миниатюрным лесенкам, попарно бегали в крутящихся колесах, прыгали сквозь подвешенные на шнурках кольца, ударяли в жестяные гонги.
Дикая сутолока царила на базарах, вокруг специальных огороженных участков; за канатами ограждения стояли глиняные горшочки с проделанными в них прорезями; посередине таких площадок устраивались сверчковые бои, и возбужденные зрители бились об заклад, пытаясь заранее угадать победителя.
В домах и маленьких храмах приносили жертвы и возжигали благовония всем духам, от которых можно было ожидать добра: угрожающе гремели гонги, трещала барабанная дробь: город пыжился, чтобы одним дуновением отогнать от себя злых духов и голодных демонов. Перед всеми дверьми были вывешены длинные красные таблички с отвращающими зло иероглифами, посыльные передавали пожелания счастья – от одной семьи к другой. Нескончаемое, суетливое, необычное движение. В больших «чайных домах» [161]161
В больших «чайных домах»…Так назывались в просторечии городские театры, где во время представления можно было закусывать, ходить по зрительному залу, разговаривать, даже подпевать актерам.
[Закрыть]и в борделях даже показывали комедии.
«Братьям» и «сестрам» в тот день дозволялись любые радости и излишества. Во многих домах они участвовали в семейных трапезах; самые предприимчивые садились на открытых местах, перед храмами; около них постепенно скапливались пиалы с белоснежным рисом, чаем, женьшенем, лапшой, всякого рода паштетами; они рассказывали своим слушателям удивительные истории, а иногда и угощали их. Самые молодые и красивые «сестры» щеголяли в дорогих нарядах из разноцветной парчи, подаренных им богатыми горожанами; их лица были великолепно накрашены; они выступали в театральных представлениях, исполняли экзотические танцы, если хотели, посещали «расписные дома», где другие женщины им прислуживали.
Миновал полдень. Владельцы ларьков, жонглеры и уличные торговцы покинули рынки. На площади Цзу, на окраине, где, хотя и в черте городских стен, к домам вплотную придвигался еловый лес, вершину одного из холмов разровняли, превратив в четырехугольную площадку. Именно здесь, возле темных развалин маленького храма, воздвигнутого в память о каком-то давно умершем добродетельном чиновнике, договорились встретиться братья и сестры из «Расколотой Дыни». И вновь загудели трубы, все громче, все настойчивее. Улицы уже опустели, ужасные звуки замирали на ветру: никакого спасения, никакой жалости; город замурован в жесткое кольцо своих каменных стен.
На фоне черного задника из хвойных деревьев разыгрывался необычный спектакль встречи братьев и сестер. Спиной к городу, обратив лицо к деревьям, сидели длинными рядами члены союза; а за ними, выше них – горожане и бесчисленные крестьяне. На плоских крышах тоже теснился народ; да и в окнах, в раскрытых дверях мелькали веера и зонты. Смешанные возгласы, непрерывное жужжание голосов; но над ними, прежде них – черное безмолвие елового бора. И – белые караваны облаков в сером небе.
Земля начала вибрировать. Из-за деревьев показалась длинная цепочка всадников: они приближались галопом, вырастая на глазах, к плоскому холму перед «амфитеатром»; разделились на две группы, устремились навстречу друг другу. Зрители вскоре разглядели, что один из отрядов имел одежду и вооружение императорских знаменных войск: цвета – желтый с красной каймой; во главе – офицер высокого ранга; за ним – копейщики с бамбуковыми копьями и треугольными военными вымпелами. Люди на крышах указывали друг другу на подлинные – с вышитыми леопардами и медведями – нагрудники командиров; кое-кто кричал, что и оружие, и одежды явно были захвачены на поле боя, другие с ликованием отвечали, что и сами воины тоже были захвачены: все они – пленники, взятые в приграничном районе; их дальнейшая судьба чрезвычайно волновала зрителей. Это действительно была плененная императорская рота. Другие всадники носили простую крестьянскую одежду: соломенные шляпы огромных размеров, соломенные же сандалии, серые куртки; вооружены они были как попало – мечами, косами, молотильными цепами. Числом эти всадники раз в десять превосходили маньчжурских солдат. Сперва две группы бесшумно смешались, потом опять разделились, потом – уже с большей решимостью – помчались друг на друга, на скаку выкрикивая проклятия; потом крестьяне внезапно перешли в атаку и погнали своих противников к лесу, который со всех сторон – и позади тоже – был оцеплен другими конными крестьянами. Ряды крестьян рассыпались, разгоряченные всадники метались по всему полю, размахивали мечами, бежали по земле рядом со своими лошадьми, на ходу запрыгивали в седла.
В эту-то пестро-нестройную массу и вклинились пленники-маньчжуры. Теперь с тех мест «амфитеатра», что были отведены сектантам, вскочили двадцать, тридцать, пятьдесят бедно одетых братьев; они, казалось, просили о чем-то погруженного в свои мысли и не слушавшего их Ма Ноу – а потом царей-законодеталей, которые произнесли в ответ пару слов и согласно кивнули. Просившие страстно желали принести себя в жертву, ибо не могли долее удерживать свои души. Они молниеносно подняли волосы на затылок, закрепили их узлом и, пробежав между крестьянами, крепко ухватились за наборные уздечки маньчжурских коней. Опять два отряда смешались, не вступая в сражение, но братья уже рвали из рук маньчжуров их копья; некоторые сектанты-добровольцы сразу были растоптаны конскими копытами и теперь бились в судорогах на земле. Пронзительный многоголосый рев, вырвавшись из окон и с крыш, качнулся над полем, и ему отозвалось эхо со стороны бора; люди махали зонтами, шапками, поясами, шарфами; страшно кричали те, кто в своем возбуждении оступился и упал со ступеней. Женщины визжали, требуя крови врагов. Шум, всегда присущий человеческой массе, уплотнился до смутного гула, который висел над лесом как оглушающий туман.
Теперь два отряда заняли позиции на противоположных сторонах квадратной площадки. Знаменная рота построилась в круг; маньчжуры отчаянно жестикулировали и о чем-то спорили. Насмешки, бранные слова… Можно было видеть, как две их лошади топчутся одна против другой; всадники отбросили копья, боролись, перегнувшись с седел, упали и покатились по земле. Когда со стороны города загремели оскорбительные выкрики – подобные железным прутам, которыми дразнят хищников, – маньчжуры обратили к «амфитеатру» распухшие от ярости лица, привстали на стременах и яростно затрясли копьями, собираясь метнуть их в зрителей.
Но уже бежали через поле братья, быстро оттаскивали подальше покалеченных конскими копытами товарищей, пританцовывали – безоружные, с непокрытыми головами, босые – вокруг застывших в ожидании маньчжуров, под предостерегающие возгласы зрителей: «Нет, нет, нет!» И вот уже первые из них вспрыгивают на спины лошадей, пытаются отнять копья у звероподобных всадников; их сбрасывают пинками и ударами кулаков. Когда они схватились за дорогие уздечки, так что кони поднялись на дыбы, оба офицера отдали короткие команды – и ряды всадников разомкнулись. Силачи маньчжуры, обхватив тщедушных братьев за горло, поднимали их высоко в воздух, как поднимают за ручку ведро, – и потом на скаку отшвыривали от себя, затаптывали. Ни один из впавших в буйство всадников более не узнавал другого: они кидали своих врагов на землю и кололи их копьями, свесившись ниже голов и грив скачущих галопом коней.
Неистовая, жаждущая крови и убийства орда – перекошенные разинутые рты, задыхающиеся бронхи, напрягшиеся руки, выпученные глаза, взмыленные конские морды – покатилась им навстречу; тысячеголосый лихорадочный вой нависших над их спинами зрителей обрушился на плечи, лишая последних сил. Сверкание мечей, удары молотильных цепов, протяжные стоны пронзенных копьями, топоры, рассекающие воздух, грезящие наяву братья, крестьяне, деловито вершащие ратный труп, хрипы умирающих, ржание коней, бессловесные корчи, железные руки, протягивающиеся от седла к седлу, пот, пыль, кровь перед почти ослепшими глазами, стрелы, летящие со стороны города. У распахнутых окон домов, на крышах, на ступенях «амфитеатра» – безвольные всхлипывания, прерывистое дыхание, короткие вспышки ярости, объятия, неудачные падения. Ибо ни один маньчжурский пленник уже не гарцует на коне.
Кто-то из царей-законодателей, перегнувшись вперед, подал знак. И прямо перед ним, в предыдущем ряду, грянула барабанная дробь, а из черного леса-задника завыли трубы; громоздкие запряженные волами телеги со скрипом двинулись через поле. Потешная битва закончилась. Теперь надлежало заняться уборкой, согнать в один табун разбежавшихся коней.
Прошел час; зрители успокоились. На лица горожан легла печать удовлетворения. Тогда с плоского холма, наподобие театральных подмостков возвышавшегося посреди равнины, зазвучала тихая мирная музыка: мелодия, которая выплеталась свободно, вновь и вновь возвращаясь к своему истоку. Ее старательно выводили бамбуковые свирели и флейты; в паузах стрекотали цимбалы, звенели бронзовые колокольчики; в качестве сопровождения щелкали кастаньеты. Через некоторое время к музыкантам-мужчинам присоединилась длинная вереница сестер – в дорогих украшениях, с развевающимися красными шнурами, прикрепленными к матерчатым шапочкам; их шелковые наряды шелестели; они размахивали четками и магическими мечами – умиротворяли растревоженных духов поля. Остановившись у подножия холма и отвернувшись от города, они запели под аккомпанемент оркестра.
Все братья, сестры и горожане увлеченно слушали это пение, и в души их проникала сладкая печаль. Музыка захватила всех; мало кто, опуская в восторге глаза, помнил еще о недавнем шуме сражения. Люди разжимали кулаки, устраивались поудобнее, отвернувшись от поля битвы, подпирали руками головы. Бронзовый колокол деликатно отбивал такт.
Потом опять раздались призывные крики, и расслабившиеся было зрители вновь встрепенулись, выпрямились. К холму приближались ряженые. Начиналась новая игра. Сидевшие в «амфитеатре» братья и сестры перешептывались; их слова передавались по рядам вверх: к нам, мол, пожаловали Восемь Бессмертных.
Исполнявшие эти роли братья не особенно тщательно подбирали себе костюмы: некоторые, хотя и прикрыли лица масками, а в руках держали священные эмблемы, остались в своих же поношенных халатах и шли босиком. На холм поднимались старики, с жестяными обручами на головах вместо нимбов.
Седобородый Чжун Лицюань [162]162
Чжун Лицюань– глава Восьмерых Бессмертных, по преданию жил во времена династии Чжоу (1122-249 гг. до н. э.). Считается, что он обладал секретом изготовления эликсира жизни и порошка перевоплощения. В молодости, до вступления на путь Дао, он был полководцем. Его изображают с веером, с помощью которого он оживлял души усопших.
[Закрыть]тащил огромный деревянный меч, конец которого с трудом поддерживали два мальчугана; горбатая старуха обмахивала его нелепым веером размером с раскрытый зонтик. Этот старик когда-то изготовил эликсир бессмертия, потом являлся на земле во многих обличиях, умел ходить по воде; и никогда не расставался со своими волшебными атрибутами – веером и мечом.
За ним шагал Патриарх Люй [163]163
Патриарх Люй, или Люй Дунбинь, – один из Бессмертных; он в совершенстве овладел магией и получил волшебный меч, при помощи которого в течение четырехсот лет убивал драконов и других чудовищ во всей Поднебесной. Он считается покровителем парикмахеров.
[Закрыть], именуемый также Гостем Преисподней; его маска изображала добродушное улыбчивое лицо; он волок за собой тележку, в которой покачивались низкий стул и подставка с красным полотенцем, фарфоровым тазиком, широким бритвенным ножом.
Дальше следовали Цао Гоцзю [164]164
Цао Гоцзю.Он был сыном премьер-министра первого императора династии Сун (Тай-цзу, 960–976), стал отшельником. Его изображают в придворной одежде и головном уборе, с кастаньетами в руках. Он считается покровителем театра и актеров.
[Закрыть]и все остальные. Два последних бессмертных сидели боком на мулах [165]165
На белом мулевсегда ездил Чжан Голао – Бессмертный, который всякий раз, достигнув цели путешествия, складывал своего мула как бумагу и помещал в бутылку из тыквы, а потом по мере надобности снова оживлял, спрыскивая водой.
[Закрыть].
Взойдя на холм, старики встали в кружок и поприветствовали взмахами рук музыкантов, а также всех остальных братьев и сестер; кое-кто из ряженых, чтобы унять дрожь в коленях, уселся на песке.
Радостный ропот со стороны города. Из леса вынырнул изящный экипаж, запряженный жеребенком; в двухколесном кузове, который казался выточенным из цельного куска нефрита, сидел, держа поводья, бородатый карлик; за первым экипажем медленно катился второй, тоже запряженный жеребенком: из кузова-раковины выглядывала маленькая девочка, в руке она беспечно сжимала высокий стебель, напоминающий зеленую водоросль; один длинный лист свисал вниз.
Толпа зашумела, громкое «Ах» прошелестело над рядами зрителей, выпорхнуло из окон, поплыло над крышами: то было растение чжи, дарующее бессмертие. Горожане и крестьяне колебались между желанием увидеть редкое зрелище и интересом к тому, как поведут себя братья и сестры в нижних рядах: они понимали, что на площадке разыгрывается действо, непосредственно касающееся их самих, но вместе с тем хотели подкрепить ощущение святости, наблюдая за членами секты.
Для тех же все было подлинной реальностью, а не игрой. Они смеялись и протягивали руки, с нетерпением ждали осуществления своей мечты, и слезы счастья стояли в их глазах. Ведь сами бессмертные махали им с холма!
Теперь музыка прекратилась; и тут же зазвучала снова, но уже по-другому, в стремительном ликующем ритме: к прежним инструментам прибавились барабаны и тарелки. И под этот аккомпанемент со стороны леса приближалась торжественная процессия. Бессчетные глашатаи в желтых куртках, люди с опознавательными знаками, с гонгами в руках. Восемь носильщиков несли украшенный знаменем и изображением дракона паланкин с плотно задернутыми желтыми занавесями; далее следовали два паланкина поменьше и замыкающий эскорт.
Сама Божественная Матерь, Царица Западной Горы Сиванму возвращалась в свое облачное царство.
Над холмом, над рядами «амфитеатра» повисла тишина; потом всё разом зашелестело, зашумело: зрители – неисчислимое множество – шесть и еще шесть раз коснулись лбами земли.
А шествие Божественной Матери не кончалось. За паланкинами шли ликующие мужчины, женщины; они размахивали красными шнурами; босые, беспорядочно бегали и прыгали вокруг; танцевали, задорно кувыркались на песке, носили друг друга на плечах; мужчины обнимали женщин, брали на руки малышей. Их пение сперва казалось нестройным, неразборчивым; но когда процессия приблизилась, все услышали, что это песни проституток – те самые, которые сестры часто исполняли под цитру, чтобы привлечь внимание крестьян.
В «амфитеатре» братья и сестры внезапно вскочили с мест, толкались, что-то кричали друг другу, показывая пальцами на процессию, выкликали имена – мертвых друзей и подруг, погибших в схватке с бандитами и позже, во время пожара в монастыре. Это были они – их маски; люди узнавали каждого по отдельности; и радостно приветствовали их – а те отвечали, – и звали по именам, и приглашали к себе. Сестры распустили волосы, приветственно махали охапками травы. Братья, не помня себя, закрывали ладонями лица, плакали, обнимая друг друга, скидывали на землю халаты, сандалии, шляпы, чтобы поскорей добежать до участников шествия. А там, внизу, умершие братья и сестры собрались вокруг паланкина Желтой Царицы Западного Рая, которая теперь раздернула занавеси и обращала на все стороны света свое надменное накрашенное лицо.
Чудовищный крик десяти тысяч глоток; глаза всех, кто еще оставался наверху, чуть не вылезли из орбит, люди руками пытались смахнуть пурпурно-красную пелену, застившую – от возбуждения – их взгляд. И боялись вздохнуть.
А в самом хвосте шествия сектанты несли на вытянутых руках что-то, оставлявшее за собой черный кровавый след; другие братья побежали обратно в лес – и вынесли еще сколько-то неподвижных человеческих тел; с этим жутким грузом они неловко поднимались на холм. То были умирающие и уже умершие добровольцы, которые во время недавнего потешного сражения принесли себя в жертву.
И когда эту страшную ношу, добычу смерти, под музыку и пение опустили перед паланкином Божественной Царицы, которая тут же вышла из носилок; когда музыканты, потеряв самообладание, отбросили инструменты и распростерлись на земле – тогда и Ма Ноу уже не мог более сдерживать своих чувств. Он зарыдал, махнул рукой в сторону холма и побежал вниз по откосу, на равнину. Братья и сестры тоже рванулись со своих мест; в мгновение ока ступени амфитеатра, окна, проемы дверей, крыши городских домов опустели. Люди лавиной устремились вниз, опрокидывая и затаптывая друг друга, но даже не замечая этого. Железную решетку ограждения сломали – просто сорвали с петель всю целиком; после чего братья, сестры и горожане хлынули по напитавшейся кровью равнине к плоскому холму, с неистовыми криками окружили его; как утопающие тянулись они к нему – как утопающие, которые еще надеются вынырнуть из морских волн и увидать нежную улыбку Царицы Западного Рая.
В ТОТ ЖЕ ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ
на северо-восточной границе крошечного государства произошло еще одно – тяжкое, чреватое мрачными последствиями – событие: победоносный прорыв провинциальной армии.
Ночью сельские жители из приграничной области бежали в столицу. В новом сражении, которое произошло через несколько дней, разрозненные отряды Ма Ноу, занявшие оборонительную позицию у городских стен, были наголову разбиты. Эта битва переросла в штурм, и солдаты императора сумели очистить город от мятежников. Горожане и члены секты вырвались из горящей столицы и, обратившись в беспорядочное бегство, покатились на юг; понеся большие потери, они – в количестве примерно четырех тысяч – добрались до укрепленного города Яньчжоу.








