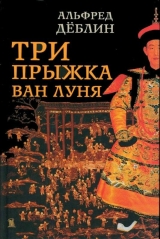
Текст книги "Три прыжка Ван Луня. Китайский роман"
Автор книги: Альфред Дёблин
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 40 страниц)
Письма Альфреда Дёблина Мартину Буберу
Мартину Буберу
Берлин, 18. VIII. 12
Уважаемый господин,
Господин Эренштейн сказал мне, что Вы, возможно, разбираетесь в китайской религии и философии и тому подобном и что у Вас имеются книги по этой тематике. Я был бы Вам весьма благодарен, если бы Вы поделились со мной тем, что у Вас есть; я работаю над китайским романом и собираю любые так или иначе доступные мне материалы (особенно о сектах, о даосизме). Заранее благодарю.
С совершенным почтением,
д-р Альфред Дёблин
Берлин Блюхерштр. 18
Мартину Буберу
Берлин, 13.Х.12
Уважаемый господин,
Я возвращаюсь к китайским делам, по поводу которых писал Вам, когда Вы были в Италии.
Ergo: я знал обе вещи, которые Вы мне порекомендовали. Но так как Вы человек сведущий, я бы хотел попросить Вас назвать мне еще какую-нибудь китайскую литературу (я с трудом ориентируюсь в большом каталоге Кордье). Для «находящегося в работе» романа (Вам, наверное, будет небезынтересно узнать, что он выйдет в начале 1913 г. в издательстве Георга Миллера в Мюнхене; там же в самые ближайшие недели или даже дни выйдет известный Вам том моих новелл) мне нужны всевозможные китайские подробности, гарантирующие правдоподобие. Все, что так или иначе было мне доступно, я уже прочитал. Но, возможно, многое упустил из виду.
Нравоописания, повседневный быт, проза, в особенности 18 века (период Цяньлуна): об этом, разумеется, мне хотелось бы узнать больше. Не знаете ли Вы каких-нибудь приличных биографий Цяньлуна? Я перерабатываю судьбу секты У-вэй(под предводительством Ван Луня); не известны ли Вам монографии об этой или подобных ей сектах)?
Я завалил Вас вопросами. Если отвечать письменно Вам кажется чересчур утомительным, быть может, я мог бы еще раз порасспрашивать Вас обо всем – как-нибудь вечером в Café des Westens или в другом удобном для Вас месте?
С почтением,
д-р Альфред Дёблин
Пловец в потоке судьбы:
о повествовательной стратегии Дёблина
(Татьяна Баскакова)
…голос Калафа страшно выныривал и тут же вновь пропадал…: однообразно гудело внизу народно-серое, всё перемалывающее море; в то время как на поверхности, наполовину уже задушенное, пыталось сопротивляться искусство.
Арно Шмидт, Каменное сердце
С точки зрения народной психологии, китайская народная религия в высокой мере поучительна именно тем, что тут особенно ясно обнаруживается, как чистые продукты фантазии, раз только они приняли характер навязчивых представлений, могут в практической жизни получить несравненно более высокую степень реальности, чем все реальные силы действительности.
Вильгельм Грубе, Духовная культура Китая
Настоящий поэт во все времена сам был одним из фактов.Дело поэта – показать и доказать, что он есть факт и кусок реальности…
Альфред Дёблин, Структура эпического произведения
Тридцатипятилетний врач-психотерапевт Альфред Дёблин в 1913 году закончил очень странный роман: по всем признакам, вроде бы, исторический, но совершенно не похожий на то, чего обычно ждет от подобных произведений читающая публика. В этой книге не было ни захватывающего сюжета, ни любовной интриги, ни любования историческими корнями – идеальной, пробуждающей ностальгические чувства картины Германии, или Европы в целом, или хотя бы прародины европейской культуры, античного Средиземноморья. Вместо всего этого – малознакомый для немецкоязычного читателя муравейник китайской цивилизации, отвратительные сцены массового насилия, зловонная мертвая голова в ведре с солью, которую непонятно для чего волокут на ручной тележке через три провинции и обратно… Множество персонажей, множество ненужных, казалось бы, подробностей, отступлений от основного сюжета… Да и вообще – в чем он, этот сюжет, состоит? Или, хотя бы, кто является главным героем – героями – книги? Ван Лунь и его друг-соперник Ма Ноу? Император Цяньлун и его собеседник, тибетский таши-лама? А может, персонажи второго плана – Го, Желтый Колокол, Красавица Лян Ли? Или же те, чьи судьбы так ярко запечатлены в двадцати, или только в пяти, или в трех предложениях? Спившаяся беглая проститутка? Мать избалованного мальчика-урода? Безымянные бандиты, ставшие на перевале Наньгу свидетелями и участниками создания союза «поистине слабых»? Философ Лецзы, упомянутый лишь однажды, – ведь весь роман, как сказано в Посвящении, есть «поминальная жертва» этому человеку?
Ответить на эти первые вопросы не так уж трудно. Достаточно присмотреться к композиции, к тому, о чем идет речь в каждой из частей книги, чтобы увидеть: сквозной стержень романа образует не судьба какого-то человека или нескольких людей, а судьба массового движения, история секты «поистине слабых», сыгравшая (так это представлено Дёблином) ключевую роль в позднейшей истории китайской империи [390]390
Такая точка зрения вполне согласуется с мнением многих современных китаистов. Они пишут о том, что с конца восемнадцатого века (с правления Цяньлуна) начался упадок китайской империи, отчасти обусловленный взрывообразным увеличением населения, нехваткой ресурсов, появлением огромного количества безработных, постоянно перемещавшихся из одной части страны в другую. Этот период был отмечен мощными народными движениями: восстанием Ван Луня (1774), крестьянской войной с участием союза «Белого Лотоса» (1796–1804), восстанием секты «Восьми триграмм» (1813) с попыткой штурма Пекина, унесшим 70 000 жизней (в романе эти три события смешаны, соединены в одно). См. сайты: A Short History of China(By Tim Lambert) и What were the problems China faced in the first quarter of the nineteenth century?(в Интернете). По мнению профессора Лейпцигского университета, специалиста по китайским народным религиям Хуберта Зайверта, именно после восстания Ван Луня начался процесс (продолжающийся до настоящего времени) непрерывной и все более ожесточенной конфронтации между сектантами (раньше, в 16–17 вв., не ставившими перед собой политических целей) и правительственными силами: «Ликвидация лидеров [народных движений] приносила только временную передышку, потому что невозможно было истребить всех сектантов и очень скоро появлялись новые лидеры» ( China's Repression of Folk Religions,by Hubert Seiwert. – в Интернете).
[Закрыть]. Секта проходит в своем развитии четыре фазы: возникновение (книга первая); раскол, приведший к конфликту с государственной властью и уничтожению отколовшихся (книга вторая); процесс перерастания мирного сектантского движения в крестьянскую войну (книга третья); ход войны и поражение мятежников (книга четвертая). Относительно же героев впечатление складывается такое, что для Дёблина все они одинаково важны. Что для него нет неинтересных людей. Однако полнота описания того или иного персонажа зависит от того, насколько большое влияние он оказывает на историю движения – поток общей судьбы. Потому что каждый из переломов в истории секты в романе связывается с определенными решениями конкретных людей. Дёблин, собственно, изображает не просто массовый процесс, а узлы пересеченияэтого процесса, противостоять которому очень трудно, с индивидуальным человеческим сознанием, человеческой волей. И самое удивительное, что единичное сознание, сталкиваясь, так сказать, с мощным потоком истории, или всеобщей судьбы, у него никогда не оказывается бессильным. Вот как выглядит распределение основных действующих лиц по структурным частям романа:
Книга первая (возникновение секты): основатель секты Ван Лунь и те люди, которые оказали влияние на формирование его личности, – бонза Toy, Ма Ноу, Су Гоу;
Книга вторая (раскол): виновник раскола Ма Ноу и его «оппонент» Ван Лунь;
Книга третья (переход к вооруженному конфликту): император Цяньлун, принявший решение о преследовании сектантов, и тибетский таши-лама, который пытался такое решение предотвратить;
Книга четвертая (война). В данной стадии процесс нарастания насилия с обеих сторон становится неуправляемым; на этот процесс уже невозможно влиять, но, по Дёблину, каждый человек до концасохраняет возможность отстраниться от него или, по крайней мере, из него выйти. Таким выходом для Ван Луня становится самоубийство. В самом конце романа в фокус попадает еще одна героиня, Хайтан (жена подавившего восстание военачальника), которая, уже после разгрома мятежников, пытается принять решение о мести – или отказе от мести – за своих погибших детей.
До сих пор речь шла о главных персонажах, «сильных личностях», влиявших на судьбы многих (исключение тут – Хайтан, чье решение коснется только ее самой). Но если посмотреть, в каком ракурсе изображены все другие, даже самые «мелкие», персонажи, то станет очевидно, что Дёблина интересует почти исключительно следующее: причины, толкнувшие этих людей на присоединение к секте; на участие в насилии; на решение остаться вместе с обреченными на смерть, хотя, как подчеркивается, например, в рассказе о гибели приверженцев Ма Ноу, возможность спастись бегством – для всех сектантов, но если бы они действовали поодиночке, – была реальной.
Диалогс прошлым
В предисловии к роману Дёблин находит нужным специально сформулировать свое представление о соотношении между настоящим и историческим прошлым:
…людей на тротуарах я знаю. Их беспроволочный телеграф – действительно новшество. А вот гримасы Алчности, недоброжелательная Пресыщенность с выбритым до синевы подбородком, тонкий принюхивающийся нос Похоти, Жестокость, чья желеобразная кровь заставляет сердца дрожать мелкой дрожью, водянистый кобелиный взгляд Честолюбия… Эти чудища тявкали на протяжении многих столетий, и именно они подарили нам прогресс. […]
Да, но я хотел о другом —
В жизни нашей земли две тысячи лет проносятся, как один год.
Приобрести, захватить… Один старый человек сказал: «Ты идешь, не зная куда, стоишь, не зная на чем, ешь, не зная почему. Во вселенной сильнее всего воздух и сила тепла. Как же можешь ты обрести их и ими владеть?»
То есть, по его мнению, существует технический прогресс, но природа человека на протяжении веков не меняется, а интересует Дёблина именно эта человеческая природа, и, значит, возможен некий диалог, ведущийся напрямую через века, – например, со старцем Лецзы, создателем одной из канонических книг даосизма. Или, иными словами: роман о Ван Луне, жившем в Китае конца восемнадцатого века; может быть ничуть не менее «актуален» для современников Дёблина, чем, скажем, роман о Германии начала двадцатого столетия. Казалось бы, сказанное мною есть общее место, и вряд ли кто-либо стал бы оспаривать право Дёблина написать роман о чем угодно – хоть о Древнем Китае, хоть о путешествии на Луну. Все это так, только Дёблин, относившийся к своему писательскому труду чрезвычайно серьезно, понимал идею диалога (общения) с прошлым буквально. Диалог возможен лишь при наличии реального собеседника. Дёблину нужен не выдуманный, а настоящий Китай, с которым он, романист, хочет обращаться так, как обращался бы с современной ему Германией: не нарушая правдоподобия характеров и среды и соответствия одного другому. Он хочет – как художник – осмыслить реальныйисторический опыт, пусть и отдаленный от нас во времени.
Что берет Дёблин в свой роман из «настоящей» истории и что привносит в него «от себя»?
Очень многое указывает на то, что Китай казался Дёблину идеальным местом действия для романа о насилии и ненасилии, о терпимости друг к другу: потому что это страна, где издавна бок о бок существовали разные народы, разные идеологии. Дёблин выбрал эпоху, от которой осталось множество документов, целые архитектурные комплексы. Он знакомился с китайской культурой по весьма обстоятельным немецко– и англоязычным трудам этнографов и историков религии, по качественным фотографиям и музейным коллекциям. Роман построен так, что в нем зримо представлены детали быта, трудовых процессов, праздников и т. п., причем, насколько это удалось проверить, все они соответствуют действительности. Но детали эти обыгрываются таким образом, что создают нужное Дёблину впечатление культурного многообразия, сосуществования в культуре разных, порой – казалось бы – взаимоисключающих элементов. Такая контрастность присутствует, скажем, в подробном описании храма и расположенных рядом с ним (что типично для Китая) театральных подмостков:
Перед молитвенным залом, посреди гигантского двора, возвышалась открытая сцена. Ее создатели использовали все средства, чтобы она выделялась своей избыточной роскошью нафоне сдержанного великолепияхрама; она поднималась с земли, словно обворожительная танцовщица, которая, медленно обводя зрителей томным взглядом, заставляет их забыть обо всем на свете. […] Мощно стоял храм, не слушал музыки, доносившейся с театральных подмостков, утаивал все движения гордыни, как бы в насмешку над ней пропускал совсем мало света в собрание духов и богов, которым предоставил убежище [391]391
Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, курсив в цитатах мой. – Т.Б.
[Закрыть].
Свадьбу Най и затем, позже, ее похороны Дёблин описывает очень подробно, в мельчайших деталях воспроизводя соответствующие данные, собранные в исследовании Вильгельма Грубе «Пекинские народные обычаи» [392]392
Wilhelm Grube. Zur Pekinger Volkskunde. В., 1901.
[Закрыть]. Но его повествование, в отличие от текста Грубе, отличается повышенной эмоциональностью и подчеркивает тот факт, что в самой китайской культуре запечатлена некая цикличность: противоположность жизни и смерти, радости и скорби, вновь и вновь переживаемая в обрядах, выраженная в красках, в характере музыки. Вот как, например, он передает звучание погребальных мелодий:
Под хныканье дудок, под монотонную барабанную дробь утром в день похорон вышли из гордого дома мальчики; шелестящая музыка хваталась за стены неуверенными руками чахоточного больного…
Второй пласт подлинных исторических материалов, который очень активно использует Дёблин, это сведения о различных религиозных идеологиях. Структурообразующую роль для формирования замысла романасыграло исследование Де Гроота «Сектантство и религиозные преследования в Китае» (1904) [393]393
De Groot. Sectarianism and Religious Persecution in China.Vol. 1–2. Amsterdam, 1904. И Вильгельм Грубе (1855–1908), и Яан Якоб Мария де Гроот (1854–1921) были крупнейшими синологами, чьи труды не утратили своей значимости до сих пор. О них см.: Китайская философия. Энциклопедический словарь.М., 1994, с. 71–72.
[Закрыть]. В первой части этой двухтомной работы особенно подробно описываются две секты [394]394
См.: De Groot, Sectarianism…,S. 185–231.
[Закрыть]. Верования той и другой носили синкретический характер и были результатом адаптации заимствованных буддийских идей к китайской народной религии, сильно окрашенной даосскими представлениями [395]395
Об особенностях восприятия буддизма в Китае см.: Буддийский взгляд на мир.СПб., 1994, с. 237–267 (Глава 3. Взаимодействие буддийских и традиционных китайских представлений о мире).
[Закрыть]. Члены первой секты, У-вэй(«Недеяние»), сочетали почитание «Трех Драгоценностей» буддизма (Будда, учение, община) с культом различных божеств и святых, как буддийских так и даосских, и духов предков. Они стремились согласовать поведение человека с «Путем мира» (Дао) и отказывались от храмового культа, от поклонения рукотворным кумирам, потому что считали, что «небеса и земля, горы и реки суть образы Будды» (и так далее, Дёблин почти дословно воспроизводит эту аргументацию в том месте, где рассказывает о собрании приверженцев Вана и союза «Белого Лотоса» перед началом решающего этапа вооруженной борьбы). Вторая секта, Лунхуа(«[Учение] Цветов дракона»), хотя и считала себя очень близкой к первой, сделала еще один решительный шаг по пути вульгаризации идей буддизма, приспособления их к потребностям народных масс. В этой секте идея нирваны, то есть нравственный идеал, была заменена идеей достижения (в результате соблюдения определенных внешних обрядов и правил поведения) Западного Рая; наряду с Буддой Шакьямуни особым почитанием пользовались будды Майтрейя и Амитаба, а также богиня Гуаньинь, причем их культ был очень наглядным, конкретным и выражался в многочисленных праздниках, описание одного из которых – Переправы богини Гуаньинь в Западный Рай (сожжения корабля) – Дёблин дважды воспроизводит в своем романе (оба раза – в эпизодах, связанных с Ма Ноу). В Китае существовало множество сект, но эти две носили парадигматический характер, и в романе Дёблина разница во взглядах между ними лежит в основе сложных взаимоотношений сторонников Ван Луня, с одной стороны, и Ма Ноу – с другой.
В романе достаточно полно представлены взгляды не только сектантов, но и приверженцев других важнейших для Китая идеологических систем: тибетского буддизма (панчэн-лама), конфуцианства как государственной религии (император), даосизма в сочетании с народной «низовой» религией с ее практицизмом, верой в демонов и колдовство; бегло упоминаются даже китайские мусульмане (Су Гоу). И, опять таки, Дёблин очень хорошо ориентируется во всех этих идеологиях: мы не просто узнаем что-то о теоретических доктринах, но видим, как они претворяются в практику, как преломляются в сознании разных и всегда далеких от совершенства людей; Дёблин умеет, например, представить этапы буддийской медитации так, что они кажутся адекватным, хотя и упрощенным (очищенным от специальных терминов) отражением классических руководств по буддизму [396]396
В этом можно убедиться, сравнив описание видения Ма Ноу в первой книге «Ван Луня», например, с трактатом Васубандху (см.: Буддийский взгляд на мир, с. 173–176) или книгой Чже Цонкапы (Чже Цонкапа. Большое руководство к этапам Пути Пробуждения. С-Пб., 1994, т. I с. 366–368, 374, 378).
[Закрыть]; изображение в романе народной религии, представлений о демонах опирается на многотомное исследование Де Гроота [397]397
De Groot. The Religious Systems of China. Vol. 1–6. Leiden, 1872–1921. В романе использовано множество материалов из этой работы.
[Закрыть], и т. д. Роман, фактически, представляет собой диалог между разными религиозными сознаниями – не имеющий аналогов, насколько я знаю, в мировой литературе. Своеобразие его заключается в том, что эти сознания раскрываются изнутри: фокус все время смещается, мы видим события то глазами буддиста, то глазами почитателя демонов – и демоны органично входят в реалистическое, как будто бы, повествование, миры реальный и фантастический смешиваются, граница между ними оказывается очень зыбкой (как, например, в сценах, где Цяньлун, а еще прежде его сын, видят ведьму, подталкивающую старого императора к самоубийству). Еще один пример такого раскрытия изнутри чуждого для европейца сознания – одно из обвинений, которое Ван Лунь предъявляет Ма Ноу: «Я тебя встретил, Ма Ноу, два дня назад. Это был ты, не правда ли, – ну признайся! У пруда, меж двумя ивами. Ты был тем журавлем, что никак не хотел отвязаться от меня, а все расхаживал поблизости на своих кичливых ногах, ярко-пурпурных, и выхватывал из травы лягушек». При всей невообразимости для нас подобной реплики, она – как становится очевидным в контексте романа – не бессмыслица, а просто результат иного способа восприятия и описания реальности (в данном случае речь идет о реально присущем Ма Ноу качестве – высокомерии, которое делает его непригодным для роли вероучителя).
Да и вообще, по мнению Дёблина, само воображение тоже есть реальность, реальная сила, а «реальность» в обычном понимании относительна (ибо в каких-то пределах этой силе подчиняется); поэтому о сектантах, наблюдающих за своими товарищами, переодетыми в «Восьмерых Бессмертных», он может сказать:
«Для тех же всё было подлинной реальностью, а не игрой. Они смеялись и протягивали руки, с нетерпением ждали осуществления своей мечты, и слезы счастья стояли в их глазах. Ведь сами бессмертные махали им с холма!»
Неважно, считаем ли мы возможным общение с близкими нам умершими; важно, что такое общение реально для Цяньлуна – и потому влияет на принятие императором решения, которое оказывается судьбоносным для всей страны.
Третья особенность дёблиновского обращения с историей связана с его попыткой создать истинно китайские характеры, отразить китайский менталитет. Ван Лунь, император Цяньлун и его сын Цзяцин, панчэн-лама Палдэн Еше, военачальник Чжаохуэй – исторические фигуры. Но в намерения Дёблина явно не входило создание академически выверенного очерка крестьянской войны или точных портретов ее основных протагонистов. Он, похоже, больше доверял не единичным историческим феноменам, но повторяющимся орнаментальным узорам на историческом полотне, на полотне народной культуры. И в своем романе хотел представить все главные элементы «китайского орнамента». Поэтому, изображая восстание Ван Луня (1774 года), одно из многих в ряду подобных движений, он добавляет эпизод штурма Пекина – действительно имевший место, но немного позднее, в 1813 году (при Цзяцине) [398]398
Оба восстания подробно описаны в книге Де Гроота о сектантстве: De Groot, Sectarianism…, vol. 2 (главы X и XIV). В главе о восстании 1813 г. упоминаются – как участники заговора – царевич Мэнькэ и главный евнух Шан (с. 423), которых Дёблин сделает персонажами эпизода покушения на императора.
[Закрыть].
Центральные персонажи романа представляют определенные идеологии: Цяньлун – конфуцианство в его «огосударствленной» форме; панчэн-лама – буддизм; Ван Лунь и Ма Ноу – две формы народного синкретического сектантства; Чжаохуэй – взгляды служилой, зависимой от императора, относительно безразличной к религии прослойки т. д. «Исторические» Цяньлун и Палдэн Еше таким ролям соответствуют. И Дёблин воспроизводит их подлинные высказывания или действия (подобные случаи отмечены в комментариях), в то же время очищая образ императора от всего лишнего, неинтересного для задуманного романа. Так, в романе совсем не упоминаются многолетние бесчинства Хэшэня, могущественного временщика Цяньлуна, – эпизод, о котором Дёблин вряд ли мог не знать, но который демонстрирует лишь «случайные» слабости императора. И наоборот, очень точно пересказывая события, относящиеся к визиту панчэн-ламы в Китай, Дёблин добавляет от себя один эпизод, который мгновенно и великолепно высвечивает суть расхождений между Палдэном Еше и императором (как между буддистом и тем, кто воспринял буддизм лишь поверхностно): эпизод с «трупами цветов», на которые панчэн-лама не желает наступить. Роль победителя Ван Луня Дёблин передает Чжаохуэю, который на самом деле не участвовал в подавлении этого восстания [399]399
Подавлением восстания Ван Луня занимался как раз временщик Хэшэнь; неудачи этого генерала в борьбе с мятежниками стали одной из главных причин его падения, см.: Rebellion and Revolution. Section a 3. The White Lotus Rebellion(в Интернете).
[Закрыть], но прославился крайне жестокой расправой над жителями Джунгарии – и как раз его джунгарские «подвиги», готовность выполнять функции палача многократно упоминаются в романе. Что касается исторического Ван Луня, то о его биографии и человеческих качествах почти ничего не известно, а то, что известно, Дёблин за ненадобностью отбрасывает (подлинный Ван Лунь занимался тем, что лечил больных методом дыхательных упражнений и преподавал боевые искусства – последнюю характеристику Дёблин передает менее значимому персонажу, Го; члены семьи Ван Луня и восемнадцать его приемных сыновей участвовали в восстании и все погибли; восстание продолжалось всего два месяца [400]400
Подробное описание восстания Ван Луня сейчас можно прочитать на сайте: Rebellions and Revolutions in Chinese History.
[Закрыть]).
Чтобы правдоподобно обрисовать психологию своих героев, Дёблин прибегает к очень интересному методу: он приписывает им те качества, которыми сами китайцы (прямо или косвенным образом, через систему символов) наделяют своих богов, императоров, священных животных и пр. Так, один из многочисленных способов характеристики императора в романе – простое «соположение» его образа с образом черепахи, одного из четырех самых почитаемых в Китае животных (наряду с единорогом, фениксом и драконом):
…И тогда из-под панциря высунулась серая ороговевшая; голова – удивительная бесстрастнаяголова на морщинистой шее, покрытой чем-то вроде сухой рыбьей чешуи. Как у ожившей царской мумии: медленно вытягивалась поблекшая шея, с насмешливой, невозмутимостьюповорачивался треугольный череп. Равномерно и уверенно, как рубанок, заработали челюсти. Ноздри – будто пробитые сверлом. А с боков – лишенные век, неподвижные, умные (мудрые) глаза: окна охладевшего разума.
Этот зрительный образ становится лейтмотивом того портрета Цяньлуна – «человека, смертельно уставшего от жизни», – который рисует в своем романе Дёблин.
Образ Ван Луня, вероятно, вообще родился, как большое растение вырастает из зерна, из такого созданного народом символического образа: образа единорога (оленя с волчьей мордой). Единорог в Китае – символ доброты и сострадания ко всем живым существам. Эти качества Ван Лунь приобретает, хотя и не сразу (ср.: «Он все последовательнее занимал позицию защитника своих братьев. И чувствовал, что должен сражаться за всех отверженных китайской земли»). Но провозвестие его будущего обращения – тот факт, что, едва прибыв из родной деревни в крупный город Цзинань, он поселяется на улице Единорога. А в сцене, почти непосредственно предшествующей основанию союза «поистине слабых», бег Ван Луня к хижине Ма Ноу (где и произойдет его внезапное обращение) изображается так:
Прежде чем он сообразил, что с ним, его руки уже раскачивались как деревяшки, а изо лба вырос серп, которым он рассекал ночь. Он прыгал по утесам Шэнъ-и. Его тело двигалось, ничего не ощущая; он мчался вперед, все так же ровно дыша, оседлав собственные пружинистые ноги. Он радовался тому, что нечто увлекло его за собой и теперь скачет вместе с ним. По холмам, вверх по скалам. К Ма Ноу, к Ма Ноу. Тому же, должно, быть, мерещился перестук маленьких копыт серны, которая приближалась к его хижине, выбираясь из тенет разлегшейся на горе Ночи.
Еще важнее то, что на образ единорога накладывается другой, тоже связанный с народной культурой: образ оленя-Шивы. В Цзинани Вану дарят тибетскую ритуальную маску оленя (маску бога Шивы [401]401
См.: «Tsam» Dancing in Mongolia(в Интернете). На этом сайте имеется и фотография маски Шивы-оленя.
[Закрыть]), с помощью которой он потом совершит переломный для его жизни поступок – убийство дусы. Но Шива – воплощение необузданных сил природы (и человеческой души? неокультуренной души простолюдина?), любви исмерти; по китайским представлениям – один из помощников бога преисподней («…имя Ван Лунь будут произносить как имя одного из богов преисподней», – говорит о себе Ван после штурма Пекина). Необузданность, сочетание противоречивых порывов (но и подлинная любовь к жизни, к людям, порой оборачивающаяся «бесполезным» шутовством и игрой) – главные особенности Ван Луня, каким его изображает Дёблин:
Решительно нахмуренный низкий лоб; под ним глаза – то печальные и полные беспокойства, то вдруг вспыхивающие слепой яростью. И широкий крестьянский рот с выпяченной нижней губой производил такое же впечатление: иногда раззявливался, как голодная волчья пасть, но чаще оставался вялым, безвольным.
Они [бродяги] представляли его человеком мягкосердечным, но наделенным огромной физической силой, которую он не знал как употребить. Время от времени им овладевают опасные демоны, которых, однако, он научился усмирять.
Впрочем, благодаря прогулкам в долину Ван уже вновь обрел свою дерзкую, по-детски непосредственную веселость. […]
Решающим преимуществом оказалось его умение обращаться с людьми как бы играючи. […]
Люди постарше его побаивались. Их поражала его способность по-детски заигрываться […]
В портрете Вана, конечно, образ единорога/оленя – лишь каркас, на который наслаивается многое другое (Ван вообще – самый сложный, именно в силу наличия у него множества потенциальных способностей, тщательнее других выписанный персонаж романа); и все же умение Дёблина разглядеть за религиозным образом чувства людей, отлившиеся в этот образ, свидетельствует о его неординарном историческом чутье.
Что касается Ма Ноу, то он в романе отождествляется с драконом, это как будто бы следует из двух мест в тексте. Первый раз дракона – в не очень понятной связи – поминают «братья», встретившие Ма Ноу в тот час, когда их младшие товарищи насиловали женщин:
И потом гулкие мужские голоса в долине: «Ма Ноу, Ма Ноу, дракон летит! Ма Ноу, там ведь наши сестры!»
В другой раз Ма Ноу сравнивается со «зверем», который не называется, но чье описание соответствует китайскому «дракону облаков»:
Его [Ма Hoy. – Т.Б.]лицо приняло сходство с ликом крылатого зверя, чья голова, глаза, перья в полете непрерывно меняются под воздействием ветра; когда же он опускается на ветку дерева, черты его становятся неразличимыми: потому что нет уже ни ветра, ни полета.
Однако с этим отождествлением все не так просто, потому что в Китае дракон – самый распространенный символ власти, а значит, в некотором смысле «драконом» можно считать и Ван Луня, и императора, и всех вообще «лидеров», обладающих властью над жизнями людей. Действительно, Ван говорит о себе: «…я сам пуст внутри, я – пожелтевший лист, бумажный дракон, пестро раскрашенный и с сиреной в утробе, наподобие тех, которых на юге носят впереди похоронных процессий». И в другом месте, имея в виду свое повстанческое войско: «У меня – чешуйчатое тело дракона, растянувшееся на сотню ли. И я буду волочить его по земле, пока не найду красивую и теплую пещеру!»
Фраза о Ма Ноу и летящем драконе, похоже, может быть понята в свете классической «Книги Перемен». В самом начале этой книги, в комментариях к первой гексаграмме, сказано:
(5)… Сильная черта на пятом месте.
Летящий дракон находится в небе.
Благоприятна встреча с великим человеком.
(6) Наверху сильная черта.
Возгордившийся дракон.
Будет раскаяние.
При действии сильных черт смотри, чтобы все драконы не главенствовали.
Тогда будет счастье [402]402
См. Ю.К. Шуцкий. Китайская классическая «Книга Перемен», в: Конфуций. Уроки мудрости.М.-Харьков, 2000, с. 661–662.
[Закрыть].
Тема ответственности человека, облеченного властью, – одна из центральных в романе Дёблина. Разница между Ма Ноу и Ваном не в том, что первый – «дракон», а второй – нет (единорога тоже китайцы иногда называли «лошадью-драконом» [403]403
Энциклопедия восточного символизма. М., 1996, с. 113.
[Закрыть]), но в том, что Ма Ноу – «возгордившийся дракон». В эпизоде встречи двух предводителей сектантов Ван определяет основные качества Ма Ноу как «Тщеславие и Властолюбие», и хотя сам Ма Ноу прибавляет сюда третье определение, тоже справедливое – «Не Неверный», – первые два качества играют очень важную роль в его судьбе.
Образ (двух) драконов, борющихся за жемчужину, – мотив, чрезвычайно часто встречающийся в китайском изобразительном искусстве. При этом жемчужина (которая ассоциируется с луной и женским началом инь) понимается по-разному, просто как сокровище, или как Дао, или как мудрость, или как просветление, или как бессмертие [404]404
См., например: Der chinesische Drache (Ióng): Symbol für das Gute und Edle; Chinesische Glückssymbole auf deutschen Porzellan von 18. jahrhundert bis heute; Wer ist Quan Yin auch als Kwan Yin bekannt(три сайта в Интернете). «Жемчуг просветления» и дракон как символ духовности, ума, силы, способности к трансфор мации специально ассоциируются с богиней Гуаньинь.
[Закрыть]. Но даосизм истолковывает любую борьбу за обладание теми или иными благами (и любое притязание на владение высшей мудростью или истиной) как нечто бессмысленное; эта идея выражена, например, в той фразе из трактата «Лецзы», которую Дёблин цитирует в предисловии к роману и которая определяет главную тему книги:
«Ты идешь, не зная куда, стоишь, не зная на чем, ешь, не зная почему. Во вселенной сильнее всего воздух и сила тепла. Как же можешь ты обрести их и ими владеть?» [405]405
Начало этого отрывка звучит так:
«Ограждающий спросил своих помощников:
– Могу ли обрести путь и им владеть?
– Собственным телом не владеешь, как же можешь обрести путь и им владеть! – ответили ему»
( Дао. Гармония мира.Харьков, 2000, с. 46).
[Закрыть]
И неслучайно образ жемчужины всплывает в видении Ма Ноу, безрезультатно пытающегося приблизиться к ней:
Что-то серое, большое стремительно приближалось к нему – Яйцо, гигантская Серая Жемчужина. Когда он увидал это, в нем шевельнулось безумие; он застонал, собрался с силами, побежал по колосящемуся полю, поплыл, напрягая силы, вокруг Жемчужины – и потерялся где-то напротив нее, в слизнувшей его волне.
Неслучайно так жалок впадающий в безумие император, когда он пытается собрать, удержать в руке рассыпавшиеся по полу жемчужины. «Жемчужину» нельзя схватить, нельзя ни к чему принудить – но она как будто является сама, в самом конце романа, истерзанной горем Хайтан; является и проплывает мимо – то ли богиня, то ли внезапное озарение, то ли просто жемчужный лунный свет:
Что-то прошелестело. Лужица света растеклась по земле. И в сиянии только что выглянувшей луны мимо нее проплыла узкобедрая Гуаньинь, Перламутровая Белизна. Диадема на вьющихся волосах сверкнула изумрудно-зеленым, когда наклоненная голова чуть-чуть повернулась. Богиня, улыбнувшись, взглянула на Хайтан и сказала: «Хайтан, пожалей свою грудь. Дети твои спят у меня. Надо быть тихой, не противиться – да-да, не противиться».
Организация диалога: «поминальная жертва»
В «Ван Луне» множество поразительных, неожиданных для западного читателя особенностей. Но более всего поражает, пожалуй, серьезность намерений автора, проявляющаяся, среди прочего, в неразрывной слиянности идей и формы. Идеи становятся формой, прорастают сквозь нее, обретают осязаемость вместе с ней. Диалог Запада и Востока, современности и прошлого на уровне формы выражен в смешении приемов архаического, еще не отделенного от мифологии и религии, и самого современного на момент написания романа – экспрессионистского? какого-то иного, только зарождающегося? – искусства.
В романе есть место, где император Цяньлун рассуждает о поэзии (какой она представляется китайскому эстету и верующему конфуцианцу). Глядя на работающую в поле крестьянку, он говорит:
…И нет как будто никакого повода, чтобы запечатлеть это мгновение в стихотворении; оно просто наличествует – и не может быть превзойдено. Но, допустим, я поддамся искушению, захочу его воспеть; тем самым я приму на себя обязательство – по отношению к этой реальности […] Обязательство обходиться с духом этого мгновения почтительно и бережно, принести ему жертву, как положено приносить жертвы порождениям земли[…]
Итак, я должен выбрать самую красивую, самую мягкую бумагу; и приготовить красную и черную тушь самых насыщенных тонов. Только теперь я начинаю рисовать иероглифы. Это совсем не сообщения, хотя они могут служить и для сообщений; это округлые, исполненные смысла образы, отклики на книги мудрецов; каждый знак красив сам по себе, и они красиво соотносятся друг с другом. Такие образы суть крошечные души, к существованию коих причастна и бумага.
Но ведь и Дёблин, уже от своего имени, в предисловии к роману утверждает:








