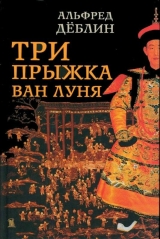
Текст книги "Три прыжка Ван Луня. Китайский роман"
Автор книги: Альфред Дёблин
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 40 страниц)
Отчаявшимся беглецам, лишь частично вооруженным, удалось захватить врасплох стражу у ворот, перебить ничего не подозревавший гарнизон – два десятка солдат – и проникнуть в ту часть города, которая, располагаясь внутри городских стен, была отгорожена от остальных кварталов стеной: в остатки древнего монгольского поселения. Здесь и забаррикадировались потерпевшие поражение приверженцы Ма Ноу.
«Священное царство» перестало существовать. Братья и сестры бродили по Нижнему городу, и горожане из симпатии к «расколотым дыням» снабжали их продовольствием, хотя не собирались оказывать им вооруженной поддержки и даже не пускали в свои дома.
В то время как части провинциальной армии продолжали преследовать мятежников и постепенно концентрировались вокруг Яньчжоу, посланцы Ван Луня – продавцы инжира – заявлялись в палатки к военачальникам. Во всех доставленных ими письмах значилось одно и то же: к военачальникам таким-то и таким-то обращается Ван Лунь, предводитель «поистине слабых», которые не принимали участия в последнем мятеже. Он просит на один-два дня прекратить военные действия и встретиться с ним, Ван Лунем из Хуньганцуни, для важных переговоров. Он придет один, без каких-либо провожатых. В качестве опознавательного знака пришлет в палатку, где соберутся военачальники, свой меч: Желтого Скакуна, на клинке которого имеется инкрустация из семи латунных кружочков, а ниже рукояти – выложенный серебряной сканью цветок лотоса. Военачальники показывали друг другу письма, гадали, чт о бы они могли значить, и в конце концов пришли к выводу, что просьбу этого пользующегося дурной славой проходимца нужно удовлетворить, но одновременно позаботиться о том, чтобы, ежели он станет выдвигать слишком дерзкие требования, его на возвратном пути убили. В день переговоров военачальники еще успели получить от некоего важного лица, которому доверяли, предупреждение, чтобы они ни в коем случае не вздумали посягнуть на жизнь этого человека, и настоятельный совет: согласиться с его планом; совет подкреплялся намеком на тайные корпорации, стоящие за спиной Вана.
Четыре военачальника жили в доме сельского старосты недалеко от Яньчжоу; в полдень, как и было обговорено, в бедную сельскую канцелярию им принесли меч, спрятанный в коробе с инжиром, – короб передал привратнику один местный торговец. Примерно через час привратник доложил, что у ворот дожидается оборванный бродяга-солдат, который говорит, будто час назад прислал им свою визитную карточку. Военачальники распорядились, чтобы его пропустили, предварительно проверив, нет ли у него при себе оружия.
Верзила Ван Лунь, не знающий, куда девать руки, казался еще более громоздким в этой тесной комнате, где военачальники сидели за столом как судьи и даже не вышли навстречу своему гостю. Его грубоватое суровое лицо на мгновение осветилось; он прислонился спиной к дверному косяку, прикрыл створки двери и сказал с лукавой усмешкой: «Я, значит, и буду Ван Лунь из Хуньганцуни; а вы, как я понимаю, – военачальники Сына Неба: первый, второй, третий, четвертый. Я приветствую высокочтимых господ. Решив не противоречить желанию Ван Луня, они поступили мудро: ибо высокочтимые господа – всего лишь гости на этой земле, и я, Ван Лунь, весьма сожалею, что не смог их лично встретить, когда они ступили на мою территорию, не смог засвидетельствовать столь уважаемым полководцам мое почтение».
«Садись рядом с нами, Ван, оставь дверь в покое: тут у нас слухачей нет».
«О, я их вовсе и не боюсь: люди, которые подслушивают, – мои братья».
«Ты нам прислал короб с инжиром и вложил туда письмо. Мы тоже написали тебе письмо. Ты передал в качестве опознавательного знака свой меч. Так чего ты хочешь?»
«Выходит, господа военачальники, я не ошибся, думая, что знаю, чего вы хотите. В этом округе. Вы хотите войти в Яньчжоу – хотя фактически уже победили, – изничтожить „расколотых дынь“ и моего бывшего брата Ма Ноу, вообще стереть их с лица земли».
«Да, так это и будет еще до новолуния».
«Ван не сомневается в стратегических способностях высокочтимых господ и в боевой выучке их солдат. Более того, он верит в судьбу, которой Ма Ноу бросил вызов и которая теперь неизбежно покарает его. Его, но и вас тоже – десятилетием раньше или десятилетием позже. Так что – вы уничтожите „Расколотую Дыню“ и Ма Ноу?»
«Ты уже слышал ответ. Однако любезный господин, сожалеющий, что не мог поприветствовать нас, когда мы пришли в его родные места, еще не объяснил, зачем онприслал нам свой меч и письма».
«Вы, значит, уничтожите „расколотых дынь“ и Ма Ноу. Они, правда, достойнее вас – и в последующих рождениях будут жить в более совершенных обличьях, чем вы. Но к нашему делу это не относится. Вас пять тысяч, вы хорошо вооружены; они же не прикасаются ни к боевому луку, ни даже к палке или камню. Вам хватит мужества, чтобы убить беззащитных братьев и сестер, хотя они уже стократно и тысячекратно искупили свои прегрешения. Вы хорошо знаете, кто виновен в том, что они захватили монастырь у озера; для столь прекрасно осведомленных господ, разумеется, не осталось тайной и то, кто снарядил банду убийц, которая напала на „расколотых дынь“ у Тайханшаня. Военачальники столь высокого ранга знают, конечно, и имя даотая, который послал в монастырь, где затворились „расколотые дыни“, полицейских и сельские отряды самообороны, чтобы – да, собственно, чтобы что? Ведь братья и сестры ни на кого не нападали. И даже сами подставляли выи под мечи убийц. И в молитвенном зале монастыря они вели себя так, что чэн-подобровольно покинул монастырь, снизойдя к их нужде; а вот полицейские, которых даотайпослал за ними, чтобы ему было легче отчитаться за кровавую бойню у подножия Тайханшаня, предпочли сжечь их живьем. Так что же должно случиться теперь? „Расколотые дыни“ оторвались от мятежников этого района; они не вправе были отчаиваться, уж лучше бы дали себя убить, ибо отчаяние притягивает злую судьбу. И им пришлось дорого заплатить за это. Но я думаю – Ван Лунь из Хуньганцуни думает, – что теперь крови уже довольно. Вы достаточно поиграли с судьбой, мудрые господа. Законы против еретиков не являются основанием для убийств и насилия – не являются достаточнымоснованием. Наша земля мирная, и вы, дорогие гости, ищите себе врагов где хотите, но только не на моей родине!»
«Наш великодушный хозяин, конечно, опирается на большое войско, коли позволяет себе так пренебрежительно говорить о нас, чужаках? Но он все-таки нас переоценивает. В самом деле, кто такие эти ничтожные букашки, сидящие перед ним? Они имеют при себе приказы из столичного военного ведомства, имеют инструкции цзундуЧжили. Они охотно одобрили бы все, что предлагает их добросердечный хозяин, который, правда, никак не соблаговолит уважить их, присев с ними рядом. Если бы не эти исписанные листочки бумаги у них в карманах, которые разгоняют кровь по жилам куда сильнее, нежели их собственные живые сердца».
«Господа, как я вижу, совсем не кровожадны, да и Ван Лунь совсем не кровожаден, одни только бумаги кровожадны. Впрочем, как известно, даже бумаги могут быть кровожадными только по отношению к врагам. Значит, когда „Расколотая Дыня“ перестанет быть врагом ваших бумажных полосок…»
«Это случится в то мгновение, когда она перестанет существовать».
«Или когда она распадется как союз и станет неотличимой от народа. Для того-то я и посылал к любезным господам моих гонцов с коробами инжира. Позвольте спросить: приказы, лежащие в ваших поясах, повелевают вам что – одержать победу или уничтожить „расколотых дынь“?»
«Согласно нашим бумагам и нашему собственному мнению, это одно и то же».
«Я не сажусь рядом с вами, чтобы вы не подумали, будто я напрашиваюсь в друзья или хочу просить вас о чем-то. Эти две вещи – не одно и то же, чего вы с вашей тонкой проницательностью не можете не понимать. Я не поддерживаю дружеских отношений с „Расколотой Дыней“; но я хотел бы избавить этих несчастных, сбитых с толку своим вождем, от наихудшего – от встречи с вашими солдатами-мясниками, с этими привилегированными палачами. Братья и сестры должны перестать существовать как целое. Они не достигнут наивысшего блага, ибо позволили увлечь себя на неверный путь. И вы могли бы удовлетвориться этим».
«Откуда Ван Лунь почерпнет силу, чтобы осуществить то, на что намекает? А если он ужеобладает такой силой, то почему не применил ее раньше? Тогда ему не пришлось бы сетовать на кровавую бойню, на пожар в монастыре, и он не предъявлял бы нам никаких обвинений».
«Я не распоряжаюсь судьбой. И не обещаю вам слишком многого – ничего такого, что превышало бы мои силы: мне лишь кажется, что именно вот в этот момент я мог бы вмешаться в ход событий. Вы посм о трите, что из этого получится. За три ближайших дня я испытаю свою силу. И потом вновь предстану перед четырьмя высокочтимыми господами, моими дорогими гостями, – встану у этого же дверного косяка и все вам расскажу».
«А до тех пор мы должны воздерживаться от военных действий – ты этого хочешь? Нам говорили, Ван Лунь, что ты обладаешь великой – сверхъестественной, как считают простолюдины, – силой. Мы, опытные солдаты, не прочь были бы узнать, как ее можно использовать при штурме крепости. Я сообщу тебе наше решение. Мы не станем терять из-за тебя время. Это могло бы стоить нам головы, а собственная голова каждому из нас гораздо дороже, нежели Западный Рай. Мы будем стягивать имеющиеся в нашем распоряжении войска вокруг Яньчжоу – до определенного момента, о котором ты узнаешь через два дня; но мы наверняка не начнем штурма крепости прежде, чем закончится третий день. Так что ни ты, ни мы ничего не теряем. Если на четвертый день ты встанешь у этой двери и повторишь нам то, что мы и так знаем, – что ж, это будет для нас хорошим уроком».
«Ван Лунь и не просил большего у высокочтимых господ. Он только хотел бы, чтобы у ворот канцелярии ему вернули меч и короб с инжиром».
Военачальники поднялись, показывая этим, что разговор закончен. Ван на прощание взмахнул длинными ручищами и, перепрыгивая через ступеньки, сбежал с крыльца.
ВОРОТА
Монгольского квартала в Яньчжоу днем оставались открытыми около шести двойных часов. Дом Ма Ноу стоял на углу гигантской, заросшей травой рыночной площади. На десятый день их пребывания в Яньчжоу, дождливым осенним вечером, брат-привратник, пригнувшись, заглянул в дверь и крикнул в пустоту оцепеневшего в неподвижности здания, что некий человек хотел бы поговорить с Ма Ноу.
Пройдя в полутемную комнату, Ван бросил на пол соломенную шляпу и соломенную накидку, снял меч, затем поприветствовал поклоном и взмахом рук Ма Ноу, который сидел на табурете и только равнодушно кивнул в ответ.
«Вот я и пришел к тебе, Ма Ноу. Мы не виделись с весны».
«С весны?»
«С весны этого года».
«Ах да, у болота Далоу… На сей раз тебе, чтобы найти меня, не понадобились светляки. На сей раз ты мог довериться своему носу. Мертвые, которые умирали с надеждой на райское блаженство, тоже смердят».
«Когда я гостил у тебя в последний раз, у меня болело колено. Оно зажило. А как обстоят дела у моего гостеприимного хозяина?»
«В точности так, как у всякого, кто направляется на прогулку – правда, не совсем безобидную – и по пути теряет один сгусток крови за другим, одну косточку за другой, один клок шкуры, и еще один, и еще. Возможно, мой гость пожелает теперь спросить, как я себя чувствую? Должен признаться, достаточно приятно и комфортно: потому что иного трудно было бы ожидать, раз уж ты путешествуешь с таким небольшим багажом. Зато ходить – пешком – без груза гораздо легче».
«Вас было много, когда вы двинулись из Шэньтина на юг».
«Потом мы повернули на север. Нас становилось все больше. Я сделался царем государства, бесценные блага которого могла перевесить только его хрупкость. Потом я перебрался сюда. Ты еще не пересчитал носом всех умерших из числа наших братьев и сестер? Мы их хоронили в пяти общих могилах – по двести в каждой. Теперь нас осталось мало. И именно теперь Ван Лунь сидит рядом со мной, сводит счеты».
«Я не свожу никаких счетов, Ма. Не взваливай на меня ответственность за судьбу».
«Как и ты – на меня».
«Тебе, Ма Ноу, виднее. Когда какое-то дерево хочет упасть, его могут и подтолкнуть. Но я не хочу больше говорить об этом перед моим учителем; лучше расскажу о себе, если он позволит. То, о чем я хочу тебе поведать, уже поблекло даже для меня самого и не пробуждает во мне никаких чувств. Ты, впрочем, и сам все знаешь. В странствии от Хуньганцуни до западной части Шаньдуна мне пришлось и голод испытать, и жажду, и претерпеть всякий срам. В Цзинани, большом городе, я, когда служил помощником у бонзы Toy, и обманывал, и воровал, и совершал другие грехи. Меня гоняли по всему Чжили, ты меня встретил на перевале Наньгу, мне тогда было плохо. Но я переломил себя, и вы мне поклялись: больше мы не пойдем против судьбы; с этим нужно кончать. Что до меня, то я этой цели достиг. Многие испытали в жизни то же, что и я, и думали так же; я помог им принять правильное решение. Вот я и завершил свой рассказ. Ты тогда тоже поклялся своим „незнающим“, как ты выразился, сердцем. Но сейчас, когда Ма Ноу сидит передо мной, прикрыв глаза, он уже не выглядит так, будто его сердце чего-то не знает. Так скажи, Ма Ноу, если еще любишь меня, – что теперь будет?»
Ма Ноу отнял руку от глаз и долго смотрел на Ван Луня, придвинувшегося к нему ближе.
«Существует определенная разница между моим другом Ваном – той поры, когда он на перевале Наньгу принял некое решение, – и мною».
«Какая же? Никакой разницы нет. Существует лишь то, что я тогда горячо и от всей души пожелал себе: чтобы кто-то стоял со мной рядом – как мой двойник – и все в жизни мне облегчал. Я сейчас за тебя хватаюсь как за соломинку. И я понимаю тебя. Я – широкий кошель, в который ты можешь бросить, что пожелаешь».
«Мне не нужен широкий кошель».
«Ты мой брат, Ма Ноу. Ты, только ты стал для меня настоящим братом. Как подумаю о Су Гоу: кто он мне, в сравнении с тобой? Ты меня мучаешь, лишаешь воздуха – всякий раз, когда отворачиваешься от меня. Где, брат Ма Ноу, найдешь ты двух людей, чьи жизненные испытания были бы так похожи, как мои и твои? Если тыне нуждаешься во мне, то яв тебе нуждаюсь – потому что люблю тебя. И перестань предаваться мрачным мыслям – увы, со мной тоже так было, – и пусть у тебя не дрожат пальцы. Лучше повернись ко мне, брат мой Ма, и посмотри мне в лицо. Я ведь единственный, кто способен выдержать твой взгляд. Я твой гость, и я хочу пробиться к твоему сердцу! Какдолжен я говорить, чтобы ты поверил моим словам? Чтосделать, чтобы ты мне доверял?»
Ван подсел к Ма Ноу на краешек табурета, обнял Ма за плечи. Ма тоже положил руку на плечо Вана и долго не двигался. Потом произнес глухо, медленно:
«Я и не надеялся, дорогой мой брат Ван, что ты мне доставишь такую радость. Дай собраться с мыслями. Я говорил о разнице между нами – да, о разнице. Я должен объяснить. Тебе тогда было плохо, но, поверь, мне сейчас еще хуже, а ты с тех пор стал счастливее. У тебя есть выбор, ты можешь принять какое-то решение. Я же перешел через этот рубеж. У меня не осталось возможности принять решение. Со мной уже все произошло. В этом городе и вокруг него все, что могло случиться, уже случилось. Не хватает лишь внешнего толчка, завершающего жеста, скрепляющей печати. Несущественное – вот то единственное, что еще может произойти».
«Ван Лунь пока не сказал своему брату, зачем он искал его в городе монголов».
«Ты, надо полагать, предлагаешь нам помощь».
«Может, и так, Ма. Я вступил в переговоры с командующими, которые стягивают войска к Яньчжоу и уже окружили вас. В ближайшие три дня ничего серьезного они предпринимать не будут. На эти три дня мне предоставили свободу действий, чтобы я мог договориться с тобой и твоими людьми».
«Я благодарен этой неблагодарной миссии, ибо она привела ко мне моего брата Вана».
«Я не допущу, чтобы палачи-военачальники и кровожадные солдаты набросились на вас и за ваш счет удовлетворяли свою скотскую жестокость. Вы были моими братьями и сестрами, и я от всего сердца говорю, что сегодня ты опять стал мне братом. Вы не попадете им в руки. Вы только перестанете существовать как союз – это я и вызвался передать тебе, вызвался тебя уговорить. Не гневайся! Ты должен распорядиться, чтобы ударили в колокол, собрали людей, и потом сказать: ужасная судьба так прижала нас, что мы теперь свободны не более, чем сверчки в горшке. Никто посторонний не может судить, правильным ли путем мы шли. Мы шли правильным путем. Но теперь мы должны разделиться и разбрестись в разные стороны, чтобы нас не перерезали как телят. Отпусти их всех: они вздохнут с облегчением, когда ты им это предложишь, и солдаты не помешают им уйти. А что делать тебе, брат Ма Ноу, ты теперь тоже знаешь».
Ма Ноу безмятежно улыбнулся.
«Может, ты сам ударишь в колокол и потом поговоришь с братьями и сестрами?»
«Но они ведь твои приверженцы».
«Уже нет. Сходи на базар, созови их, поговори с ними, это будет тебе уроком. Они теперь не слушают никого, как и я. Они безнадежно… – пропащие. Как и я».
«Ты опустился, Ма. Вы все выглядите вялыми, опустившимися. Я прошу, умоляю тебя, дорогой брат, я бью пред тобой челом: пойди со мной на базар, ударь в колокол, поговори с ними и сошлись на меня. Я вас всех люблю, а что значишь для меня ты, я, наверное, и выразить не могу. Долгие месяцы этого ужасного года я так страдал из-за тебя и так по тебе тосковал, как ни один влюбленный не тоскует по своему возлюбленному. Ты же не повесишь на меня такую беду: если ты отошлешь меня прочь, случится то, что ты и сам знаешь, – это звериное отродье перебьет мягкосердечных, уповающих на лучшее братьев и сестер – разве твои люди подготовились к смерти, Ма, разве они готовы? И еще ты украдешь у меня себя самого: жемчужину моей души. Заставишь меня бродить по этой земле без всякой надежды – у меня ведь и рук не хватит, чтобы приносить вам всем поминальные жертвы. Да не стой же ты так безучастно, будто ты не со мной, хоть раз приди мне на помощь!»
«Как настойчиво ты уговариваешь меня! Какой почет мне оказываешь! Даже когда я был царем моего прекрасного, прекрасного Острова, я не получал таких почестей. Меня очень радует, что ты теперь на моей стороне. Но я, Ван, уже ничего не могу изменить».
«Почему мой брат не может ничего изменить?»
«Сотни и сотни наших убитых не позволяют. И мы все это знаем. Обманутые духи не оставили бы нам ни единого спокойного часа. Если онине успели подготовиться – то мы успели. Мы все исправим. Мы позовем их, соберем со всех дорог, возьмем с собой. И мы уже не можем кончить иначе. Я не хочу, чтобы мы кончили иначе. Мы все спаяны в одно кольцо, дорогой мой брат».
Ван, потеряв самообладание, в отчаяньи бросился на землю.
«Что мне сказать о тебе в Западном Раю, Ван? Что ты любил нас, что показал нам путь?»
«Ты ничего не должен там говорить. Ты должен остаться здесь, вы все должны остаться».
«Мы не боимся этих орд».
«Да, но солдаты —!»
Ван приподнялся, в его неподвижных глазах блеснули светлые точки. Он выпрямился во весь рост; тяжело дышал, смотрел в пол.
Потом хрипло выдавил из себя: «Мне пора – ты, возможно, прав. Где мой меч? Куда, дорогой брат, подевал я своего Желтого Скакуна?»
Ма поднял меч, повесил на шею Вану.
«Об этом я там не стану упоминать – что ты повсюду таскаешь с собой Желтого Скакуна».
Они обнялись. Ма все еще улыбался.
«Много ли пройдет времени, прежде чем я увижу в Западном Раю моего любимого брата Вана?»
КОГДА ВАН,
выйдя на площадь, оглянулся, ему стало ясно: солдатам наместника Чжили не придется брать штурмом стены Монгольского города.
В темноте он наугад пробирался по улицам, пока не очутился у внешней городской стены; там проскользнул в незапертый дворик разрушенного дома и в каком-то сарае бросился на землю, чтобы немного поспать. Ранним утром, едва закончилась эта кошмарная ночь, он покинул город.
Среди спаянных в одно кольцо жителей погибшего царства, которые укрылись в Монгольском квартале Яньчжоу, было около трехсот крестьян и горожан. Стены и сторожевые башни пришли в плачевное состояние, однако эти люди, призвав на помощь родичей из Нижнего города, спешно заделывали бреши, углубляли и наполняли водой высохшие крепостные рвы, раздобывали луки, стрелы, деревянные щиты и складывали их в башнях. За обшитыми железом воротами, чуть в стороне, они приготовили громадную кучу каменных блоков, доставленных из деревни, которая находилась на расстоянии одного лиот Яньчжоу, чтобы в случае штурма забаррикадировать ворота.
Эти работящие, совсем не авантюрного склада мужчины и юноши были охвачены боевым задором, отнюдь не нарочитым, не показным; по сути, у них не было оснований, чтобы позволить запереть себя вместе с сектантами в Яньчжоу, но они все-таки последовали за «расколотыми дынями», движимые особой – благочестивой, если можно так выразиться, – заботой о себе. То, что провинциальные войска преследуют членов союза, казалось им чудовищным; скорая и ужасная гибель виновников этой ситуации – неизбежной. По их мнению, было только вопросом времени, когда именно доведенные до крайности братья и сестры призовут на помощь жуткие подземные силы. Пока это не произошло, лучше не портить отношения с сектантами, а заранее обеспечить себе причастность к их будущему могуществу. Сюда еще прибавлялось сознание важности собственной роли, которое их подстегивало. Они часто обсуждали возможность – если обстоятельства сложатся удачно – воссоздания старого «царства» или обретения нового. Для достижения этой цели оставалось лишь убедить Сына Неба в низости цзунду– или добиться широкой народной поддержки. Ибо одно вытекало из другого: если бы, скажем, Сын Неба одобрил деятельность наместника Чжили, то прорвалась бы наружу та враждебность народа к Чистой Династии, на которую так часто делали ставку тайные общества.
В то время как эти люди – бывшие солевары, возчики, грузчики – возводили каменную кладку, работали лопатами и своим уверенным энтузиазмом обеспечивали союзу сочувствие жителей Нижнего города, братья и сестры понемногу излечивались от страха. Их раны затягивались, лед отчаяния таял. Они вспоминали жестокие удары, которые им нанесли, – и пытались расправить плечи. Они – поскольку не могли покидать свой улей – были обречены на полное бездействие. И сидели на улицах, на площадях, в большом красивом храме Богини Черной Оспы [166]166
…в большом красивом храме Богини Черной Оспы…Эта популярная у китайских простолюдинов богиня упоминается у В. Грубе: Grube. Zur Pekinger Volkskunde, S. 59.
[Закрыть], около городских стен, где шли ремонтные работы, – ждали. А около полудня и по вечерам собирались вместе на рынке.
Ма Ноу, в простом коричневом халате, стоял перед ними. Неподвижный сутулый человечек с покатым лбом. Они молились. Почитание, граничащее с идолопоклонством, привязывало толпу к Ма Ноу – сильнее канатов. Он казался им наделенным сверхъестественной силой: залогом того, во что они верили. Имя Ван Луня здесь почти забылось; никто не знал, жив ли он еще.
Красавица Лян благополучно пережила бегство. Про себя она уже давно просила прощения у Ма Ноу, за многое. Она пыталась оторвать свои мысли от всего человеческого, стремиться только к божественным вещам. Но каждый раз ей что-то мешало, что-то в ней разверзалось: пустота, стеснение в груди, зевота, тошнота. Она могла думать о божественном только в моменты близости с мужчинами. Могла приблизиться к возвышенному только на таких колесах. Она пробовала стряхнуть странное наваждение, убегала от себя, крутилась вокруг Ма Ноу.
И однажды вспомнила о своей давней жизни в родном городе – с глубоким изумлением, ничего не понимая. Лян поклялась бы, что то была не она. Отец, ребенок, муж виделись ей смутно – образы из книжки с вымышленными историями, если бы не то, что, стоило им всплыть на поверхность, как Лян тут же, не в силах этого вынести, отворачивалась от них. По тянущей боли в зубах, по странному – наподобие бегающих мурашек – ощущению в нижней челюсти она заранее чувствовала, что они вот-вот появятся.
Еще со времен лагеря у болота Далоу многие братья и чужаки жаждали погружения в нее, и она никогда не отказывалась удовлетворять это их священное право. Ее женственность не была похотливой. Однако после пожара в монастыре, когда она чудом спаслась вместе с Ма Ноу, Лян, повинуясь беспокойному томлению своего тела, стала чаще лежать в объятиях кого-нибудь из братьев и таким образом – хотя бы на время – обеспечивала себе внутреннюю невозмутимость. В городе монголов ее неуравновешенность крайне возросла; она часто вспоминала о недомоганиях после родов, ибо и теперь никак не могла подавить в себе потребность плакать, заламывать руки, непроизвольно стонать и бесцельно бродить вокруг. Она теперь чаще испытывала желание вернуться в родные места, но всякий раз быстро отказывалась от этой мысли. Произносить молитвенную формулу, впадать, как положено, в экстаз – ее тошнило от всего этого; о чем она тысячу раз бесстыдно заявляла: громко, во всеуслышанье – днем, жалобным шепотом – ночью. Ее пробовали лечить целебными напитками, золой, заклинаниями. В конце концов невежественные крестьяне, у которых она жила в те дни, прямо посреди ночи – с лицами, опухшими со сна – потащили вопившую женщину к Ма Ноу. Тому немногими словами и прикосновениями рук – к ее губам, к груди – удалось привести все в норму. Лян преодолела кризис. Совершенно успокоившаяся, бледная и худая, она теперь воспринимала некоторые внешние особенности Ма Ноу – отсутствующий взгляд, привычку прикрывать глаза левой рукой, жадно хватать ртом воздух – как своего рода талисман.
Один из братьев Лю – старший – еще жил. Другой же, всегда во всем сомневавшийся Трешка, во время памятного столичного праздника присоединился, следуя внезапному порыву, к тем братьям, которые позволили маньчжурским пленникам их убить. После этого несчастья старший Лю превратился в записного шута. Но кувшинчик с киноварью он все еще носил на поясе, показывал каждому встречному, посмеиваясь над собой. Если в каком-то переулке Монгольского квартала вдруг раздавались взрывы хохота, это чаще всего означало, что перед одной из дверей стоит Лю, держа двумя пальцами дохлую крысу или отвалившуюся подошву, и произносит комическую надгробную речь. Или что он раскачивается над улицей, ухватившись за стропила, и развлекает прохожих своими байками. Этот человек не сомневался, что в новом «царстве» все они будут жить еще лучше, чем прежде, и что потом их духи единой могучей стаей воспарят к горнему раю. Он думал, что гонения, коим они подвергались, были обусловлены завистью; императора даже не стоило упрекать в этой зависти, братья и сестры не имели оснований для жалоб: ведь тот, кто идет по темной дороге с зажженным фонарем, сам приманивает разбойников.
В маленьком доме на углу опустевшей рыночной площади сидел Ма Ноу.
Он погрузился в себя. Его высокомерие дудело в медные трубы – с грозной силой, так что сотрясался пол комнаты. Внутри него разворачивалось императорское шуршащее знамя. И Ма совершал обход вокруг этого знамени. Он не подпускал к себе никого, ибо хотел непрерывно слышать шуршащее полотнище. Ван Лунь полагал, будто Ма уже достаточно созрел, дабы осознать преподанный судьбой тяжкий урок. Но ведь судьба не нападала на священнослужителя. Он сам алчно притягивал к себе беду, словно безумец, не умеющий отличить съедобную пищу от яда. И с насмешливой гримасой глотал эту беду, которая – пока – его лично не затрагивала. Он не корчился в муках. Он был самодостаточным мешком с человеческой плотью и наслаждался собой. Вещи, мелькавшие вокруг, не имели в его представлении ни запаха, ни звука. Только на заднем плане маячило что-то значимое: Западный Рай, к которому он тянулся иссохшей рукой. Он продолжал – немилосердно и равнодушно – насыщаться своей виной.
Он будто окаменел. Полотнищем имперского знамени шуршала его гордость. Он был уверен, что Ван Лунь признал его правоту. И что цветущая Земля Четырех Озер за всю свою историю не видела ничего, что могло бы сравниться с «Расколотой Дыней».
И все-таки иногда у него бывали моменты ужасных самоистязаний, когда он разоблачал себя как неудавшегося монаха с острова Путо, как человека, который не знает удержу в экстатических практиках и потому нуждается в контроле со стороны. Он сдирал с себя кожу, обнажал белый клубок нервов, подводил неутешительный итог своей жизни: вечные попытки удержаться на зыбком клочке земли, вечное копание в содержимом собственного черепа с целью найти там какую-то точку опоры – среди человеческих смертей, разрушения целых городов. Он ничего не добился, он лишь увлек за собой людей – увлек к гибели. Остров Путо все еще маячил на горизонте – как крепость, которую он, Ма, так и не сумел захватить. И этот ужасный образ не давал ему покоя. Он сам притянул к себе такую судьбу. И во всем случившемся не было ничего иного, кроме нечистот, гнили, тщеславных умствований. А тысячи людей снаружи – обычные неудачники; что значит лишняя тысяча попрошаек или преступников в гигантском людском муравейнике? И он, Ма, такой же, как они: неудачник, который поскользнулся и плюхнулся в выгребную яму, наглотавшись говна по самые бронхи, – это так глупо, так глупо, что даже не вызывает жалости, а только презрительный смех.
Ма Ноу, весь в поту, изводил себя подобными ужасами несколько минут. Потом его руки и колени вздрогнули: снаружи стучали молотки, топал привратник, шипел и потрескивал вспыхнувший в Нижнем городе пожар. Ма тяжело вздохнул, выныривая из мрачного оцепенения, и без особой радости поплелся на рыночную площадь. Там пели сестры. Женщины смотрели на него с благоговением – спокойными доверчивыми глазами. На них уже не было дорогих украшений, свадебных цветочных гирлянд. Скрипки и цитры давно растоптаны в грязи. Девушки, бедняжки, больше не выворачивают наизнанку всю душу, чтобы раскрыться, отдаться целиком: у них ничего не осталось, а ведь опасность еще не предотвращена. Шеи, конечно, у них имеются – и вскоре склонятся под ярмо. Этого требует судьба, и это правильно. Ведь они стали как вода, которая приспосабливается к любому сосуду. Но только, видно, и этого недостаточно, чтобы не умереть, а продолжать жить.
Ма Ноу прошаркал мимо застывших в вялой неподвижности братьев, которые тут же вскочили, обратили к нему глиняные, в мелких трещинках, лица, благоговейно столпились вокруг. Чт о на него нашло – с какими ночными химерами он боролся? Это закабаляющий Путо врезался в его мозг, до сих пор не желает отпускать своего бывшего раба. А ведь здешние братья и сестры идут более строгим путем: тяжким, единственным в своем роде. Им навязали убийственный – ничем не прикрытый – ужас человеческого бытия; и они, не прячась, приняли на себя этот ужас: всё, всё испытали сами, как Сидхарта, наследный принц. Если Западный Рай когда-нибудь раскроет свои врата, то лишь для него, Ма Ноу, и для его людей. Знамя Царственного Великолепия реет над их отрядом. И они стремятся к Вершине со скоростью выпущенных из лука стрел.








