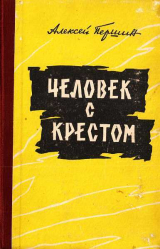
Текст книги "Человек с крестом"
Автор книги: Алексей Першин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 20 страниц)
Глава 10
«Ненавижу!»
Проханов немедленно выехал в Кранск, чтобы на месте выяснить, что стряслось с отцом Никитой и нельзя ли оказать ему какое-то содействие? Не об Афонине забота, который был его учеником, – в данном случае петровский настоятель думал только о себе.
Проханов вспомнил, что в Кранске у него есть знакомые; они помогут ему.
И знакомые не обманули его ожиданий. Вскоре Проханову принесли письмо отца Никиты, адресованное некоему Егору Ивановичу. Афонин с детства дружил с этим человеком, работал с ним на железной дороге, но потом в их отношениях наступил разрыв, так как приятель Афонина не желал иметь дело с «попом-батюшкой», потому что с юных лет не жаловал церковь и до старости лет прожил безбожником.
…Проханов развернул смятый листок, вырванный из школьной тетради, взглянул на неровные, налезавшие друг на друга строчки, разметавшиеся на листке вкривь и вкось. Он поежился, предчувствуя недоброе… Писались эти строки слабеющей рукой, когда смерть, казалось, отнимала последние минуты жизни.
«Егорушко, любимый мой товарищ, умираю. Будешь читать – меня не будет. Умираю опозоренный, разбитый, без веры в душе.
Егорушко, скажу тебе по совести, нет никакого бога. Я обманывал людей. Казню себя, и нет мне утешения. Все надорвалось, перевернулось после суда, меня пожалевшего. Не жалеть меня нужно, а сжечь, как лютую змею.
За что я перечеркнул хорошую мою жизнь трудовую? Эх, Егорушко! Не увидел я тебя, стыдно было. Рассказал бы, что такое преподобные отцы Василии…»
У Проханова перехватило дыхание – это же о нем!
Нет, никогда отец Василий не праздновал труса, но тут руки его задрожали.
«…Если бы ты знал, Егорушко, как я попал в-их сети. Да что там «попал». Сам пришел, а меня и скрутили. Будь они прокляты и будь проклят день, с церковью мя породнивший!
Прощай, мой товарищ. Береги от церкви внуков своих и правнуков. Заклинаю тебя. Нет больше моих си…»
Дальше слов разобрать было невозможно…
Проханов опустил письмо и вытер свободной рукой крупные капли пота, выступившие на лбу.
Так вот каков отец Никита! Предал! Предал, чтобы спасти себя. Нет, просто немыслимо! Неужто он, Проханов, перестал разбираться в людях?
Это уже не первый его промах. Сначала Афонин, потом Обрывков, наконец Марьюшка. Сколько он занимался ею, сколько обхаживал! Так нет же!
Ох, Марья, Марья! Всю душу она ему вымотала. Он не знал даже, как исправить положение. Ее надо вернуть, вернуть во что бы то ни стало; она слишком много знает. К тому же история с ее письмами в редакцию слишком уж нашумела. Не дай бог – снова напишет в газету и признается, как родилась та переписка!..
Да, не вышла тогда их с епископом затея. В лужу сели, и так позорно. Но кто же знал, что на письма будет отвечать этот проклятый Осаков? Первый ответ его – еще куда ни шло – мало ли что напишет один человек, пусть даже бывший профессор богословия. А вот со второй статьей, когда он стал приводить выдержки из других писем, да еще так убийственно их комментировать, – тут уж совсем худо.
Правда, они тогда с Марьюшкой состряпали ответ Осакову, но он, Проханов, хорошо понимал, что третий раз редакция вряд ли станет выступать.
Впрочем, ему с самого начала не очень-то пришлась по душе вся эта затея с письмами.
Конечно, ошибки случаются с каждым; с газетным выступлением они, разумеется, дали маху, но зато он, Проханов, не мог не порадоваться, что пополз слушок, будто профессор Осаков не совсем нормален; от бога он будто бы публично отказался во время острого приступа психоза, потому-де бывший богослов и пишет такие ереси. А разве во всем этом не чувствуется рука дьявола, страшная рука нечистого? Определенно, профессор Осаков запродал свою душу за тридцать сребреников…
Слушок этот ядовитой волной полз от города к городу, от села к селу.
Но Проханову было теперь не до профессора. Его слишком остро волновала проблема – как быть с Марьюшкой? Ею целиком завладела эта проклятая Павлина. Эта крохотная женщина верит искренне, даже фанатично, но люто ненавидит его.
Он пытался поладить с ней, послал ей подарки, но она даже видеть их не захотела, когда узнала, от кого эти приношения.
Вот уже месяцев шесть, а то и больше, Павлина совсем не показывается в церкви, не говоря уже о Марьюшке. После смерти сынишки она ходила как потерянная и, кажется, совсем спилась, опустилась, постарела.
А может, он зря тогда довел ее до такого состояния?
Слишком круто взял, чтобы избавиться от ребенка? Впрочем, зачем ему ребенок? Это уж действительно лишнее. И без того много разговоров среди паствы о его приживалках. Ему даже владыко недовольным голосом намекнул, что надо поосторожней быть с прихожанками. Никто ему не запрещает иметь личную жизнь, но нельзя же ставить себя и церковь под удар!
– Сколько вам от рождения, сын мой? – спросил тогда епископ.
– Шестьдесят пять! – тихо ответил Проханов и потупился, как школьник, получивший нагоняй от директора.
– Шестьдесят пять? Ну, не сказал бы. Десяток спокойно можно сбросить, – продолжал он, приглядываясь и будто прицениваясь к нему. – Право же, можно позавидовать такой мужицкой силище… Свят, свят, свят! В грех с тобой попадешь.
Епископ перекрестился и уже строже проговорил:
– Слишком много анонимок пишут на твои проказы, сын мой. И как-то очень некрасиво с этой… как ее? Ну, та, что писала в газету?
– Разуваева. Марья Разуваева.
– Да, да, вспомнил. Поберегись, сын мой. Пораскинь умом, подумай, как половчей уйти от нареканий. И не медли!
После этого разговора отец Василий пришел к мысли: придется все-таки подарить Марьюшке дом. Вначале он намеревался записать его на ее имя, полагая, что наконец-то остановится на ней и спокойно доживет с ней остаток своих дней. Но потом, когда она начала преподносить ему пилюлю за пилюлей, он раздумал одаривать эту строптивую женщину столь дорогим подарком. Слишком жирно для нее.
Но что поделаешь! Обстоятельства в последние дни так складываются, что скупиться, пожалуй, рискованно. Бог с ним, с этим домом. Надо как-то оторвать Марьюшку от этой невозможной женщины Павлины и поселить ее в одиночестве. Авось забудет дорогу к его ненавистнице, если заживет вольготно. Марьюшку, конечно, надо первое время обеспечить, чтоб она ни в чем не нуждалась. Пусть поживет, подумает, оглядится, может, и возьмется за ум? Только вот пьет она… Слишком она в этом активна. Не рассчитал малость. Перестарался.
Но если люди правду говорят – Марьюшку будто бы лечили в клинике от запоя; только слишком слаба она волей, чтобы забыть о спиртном. Вряд ли ей подняться…
Впрочем, отца Василия не так уж и волновало, что станет с Марьюшкой потом.
Только как бы увидеться с ней, как вручить ей дорогой подарок? Надо подумать и с Делиговым посоветоваться.
Вот уж кто крепок на ногах. И верен. Правда, не так дешево стоит эта верность, если учесть стоимость нового дома, который Делигов поставил за его счет.
Впрочем, пусть его, лишь бы избавиться от этой «божьей овечки» Десяткова. Отца Иосифа надо почаще выводить из себя, задевать его, не давать покоя. Он же прогнил весь: тронь его – он и свалится, как трухлявый пень.
Нет, Делигов не подведет. А если что – в любое время можно осадить его, поставить на место, а то и упрятать, коль появится нужда…
Проханов взглянул на смятый листок, который держал в руках, и сам подивился, что письмо вызвало у него столько раздумий и воспоминаний. И все из-за этого глупца, царствие ему небесное…
Эх, Никита, Никита. Не думал, не гадал, что ты окажешься таким размазней.
Проханов разыскал Егора Ивановича, товарища Афонина, и представился ему как пенсионер-общественник, которому собес поручил узнать, что произошло с Афоницым.
…Они сидели недалеко от дома Егора Ивановича, на берегу речки. Она извивалась и петляла, будто металась из стороны в сторону. Проханов не был в Кранске несколько лет и теперь с интересом разглядывал окрестности. Он помнил низины, заросшие тальником. Сейчас же тальник будто слизал кто-то; на его месте расстилался мягко зеленеющий луг. По нему стлался низкий, но не сплошной туман. Издали казалось, что луг покрыт огромной сетью с неровными клетками.
– Началось все это, как я думаю, с нашей юности, – рассказывал Егор Иванович. – Никита тогда очень уж любопытствовал: есть бог или нет его? Мать у него больно богомольная была, с детских лет все пичкала сына божественным, водила его по церквам и даже, скажу вам, взяла его однажды с собой в паломничество к святым местам.
Никита, правда, в церковь ходить не любил, а что касается бога – тут всякие были сомнения…
Конечно, не случись истории со Степаном, оно, может быть, и обошлось бы. Во время войны, скажу вам, произошло такое, чего до сих пор забыть не могу. Нас, железнодорожников, на фронт не брали. Но лиха досталось и на нашу долю. Город-то наш пеклом был. Бомбежка за бомбежкой…
Как сейчас помню, пятнадцатого июля это было. Мы оказались вчетвером – я, Никита, Семен и Степан из соседнего узла. Что творилось! И передать страшно… Ведь как бил, сукин сын: волна за волной шли эти, с черными крестами…
Первая бомба ахнула будто совсем рядом. Никита, помню, закричал не своим голосом, упал на Степана – нас во рву было вповалку – и мелко-мелко начал креститься.
А Степан возьми да обозлись:
– Бога вспомнил, дурак. Поможет он, держи карман шире.
– Опомнись, богохульник! Поразит тебя бог за такие слова, – это Никита в ответ Степану, а сам совсем уже с лица сошел.
Кончилась бомбежка. Начали мы подниматься, пыль отряхивать.
Мы – к Степану, а он уже дух испустил. Как так могло случиться, ума не приложу. Верхнего, Никиту, не зацепило, а Степана наповал…
…Кончилась война. Забылось все, мы строить начали, пути восстанавливать. Работали, словом, кому где положено. Никита до работы охочий, этого у него не отнимешь, только вот изнутри оказался пораженный. Задумчивым стал, разговаривал мало.
Потом словно бы сошло с него. Успокоился, забылся. Ну; думаем, ожил человек, опамятовался. А вот на ж тебе, совсем не опамятовался. Все вернулось, когда на пенсию-то ушел.
Что греха таить, жадноват был мой приятель, хотя я никогда за ним не замечал, чтоб он нечист был на руку. Нет, такого за ним не водилось. А тут вдруг переродился человек, даже страшно сказать, кем он стал…
Назначили Никиту в село Доброе. И вот здесь то нее и произошло.
Однажды пришла к нему старуха, слезами обливается.
– Батюшка, – говорит, – помоги. Корова подыхает.
Ну как откажешься, когда в, руках у бабки полная горсть денег?
Пошел он на дом, окропил животину «святой» водой, дал ей попить той же святости. Ожила, будь она неладна. Мы-то понимаем – животина и без всякой святости ожила-бы, но для темной бабы это же чудо!
Чудо и чудо… Слух о нем разнесся по всей округе. На второй или третий день пришла к нему мать больным ребенком.
– Помоги, батюшка, погибает дитя.
Не отказал Никита и матери, окропил дитя и дал мамаше той же самой воды. А ребенка просто-напросто обкормили и так бы выздоровел, по раз уж «сам батюшка» взялся – заслуга его целиком.
Дитя, конечно, выздоровело.
С той поры и пошло. Повалили к нему из разных деревень. Да и сам Никита поверил в свою колдовскую силу.
Потекли святому отцу большие деньги. Сам жил припеваючи и родичам отваливал добрые куски. Семья жила у него в городе: ехать с ним на, поповские харчи никто не пожелал. А вот от денег да от вкусных вещей, вроде курочек, уток, гусей не отказывались. Правда, дочь – фельдшерицей работала – взбунтовалась, но пожалела мать и потому не ушла от них, когда отец в попы подался. Так и жили: он – добытчик, а они потребляли все, что ни пришлет им Никита.
И вдруг Никита сам заболел. Он, конечно, за «святую» воду: раз других лечил, почему себя миновать? Пьет день, другой, а ему все хуже да хуже. Он и вставать перестал.
Дома встревожились. Поехала к нему дочь. Видит, что отец пластом лежит, в жару мечется. Она склянки со святостью в сторону и спрашивает родителя:
– Что, отец, не помогает водичка твоя? Давай-ка за пилюли да за капли примемся, оно дело верней будет.
Попил святой отец варвазол, или как он у них там по-ученому называется, да пилюль десятка два проглотил и на четвертый или пятый день подниматься стал. Дальше-больше совсем окреп и в силу вошел.
С того времени будто что надломилось в душе у Никиты.
Хотел он кинуть свое знахарство, а не тут-то было: люди стали упрашивать, ублажать его.
И опять Никита не нашел в себе сил остановиться. Погряз в своем знахарстве, будто в болоте.
Об этом дознались, конечно, милиция, прокуратура. И грянула гроза!
Первое время Никита изворачивался, от всего отнекивался – дескать, я – не я и хата не моя, но потом все-таки понял: надо говорить правду. И он во всем чистосердечно сознался. И не только сознался, осудил себя самым что ни на есть категорическим образом. Этот-то его поступок и примирил меня с ним, вернул мне товарища.
Бурный был процесс, много разговоров вызвал.
Дали Никите два года условно. Восемьдесят лет человеку! Словом, простили, что там говорить…
Позор свой Никита переживал тяжело.
Никого не хотел видеть. Совсем замкнулся, даже со мной не хотел видеться. Не знаю, о чем он думал, только нетрудно догадаться: не сладкие были эти его думы. Горевал он, тосковал, мучился…
И вот умер Никита. Ушел из жизни мой товарищ опозоренный, оплеванный. Я ни в чем его не оправдываю, но ведь он человек. Виню религию. Это она его смяла, в омут закрутила, и в нем он захлебнулся.
– Ненавижу ее!
Егор Иванович поднялся, поднял над головой сухие, жесткие свои кулаки и в гневе крикнул:
– Ненави-ижу-у!..
ЭПИЛОГ
Миссия Делигова закончена
Сведения, которые сосредоточились у Лузнина были исчерпывающими. Образ жизни Проханова, его характер, его общественное лицо в достаточной степени прояснились. Правда, довольно подробный рассказ Марии Ильиничны Разуваевой о себе многое говорил и о ней самой.
Впрочем, Марии Ильиничне, как понял Павел Иванович, было совершенно безразлично, какой она представлялась людям, которые ее видели и слушали. Именно это обстоятельство и породило сомнение у Лузнина: поняла ли эта женщина, в какую трясину завела ее вера? И так хотелось, чтоб поняла!..
Но не в ней сейчас дело. Личная жизнь Проханова была грязной. Вот он, список его приживалок, три монахини: Любовь Гринькова, Катерина, Софья. Потом в доме священника воцарилась Маргарита Гунцева. Потом была Анна, работавшая продавщицей в магазине. Ее сменила Степанида, выполнявшая какую-то работу в церкви, но ее оттеснила родная сестра Ольга, лег на десять моложе ее. Но Маргарита вес еще оставалась.
Мария Ильинична Разуваева вклинилась в жизнь отца Василия как раз в то время, когда Маргарита была вынуждена покинуть дом Проханова, а позиции Ольги были уже непрочными.
Одновременно с Марией Ильиничной Проханова навещала приятельница по имени Полина, жившая в деревне неподалеку от города.
– Она все кур таскала батюшке, – рассказывала Павлина Афанасьевна. – Я ее знаю. Кончила эта Полина совсем плохо. От аборта чуть богу душу не отдала и сбежала от этого супостата. Только Евдокия, что ныне при отце Василии содержится, умнее всех оказалась. Новенький дом достраивает. А поглядеть – совсем тихоня… Ловка баба. И подбирает он таких, что слова перечить ему не могут.
Часы на стене, торопясь и захлебываясь, прозвонили семь раз.
Семь часов! – воскликнул Павел Иванович. – Опять я обманул Олю.
Лузнин стал торопливо собираться домой. Не успел он выйти из-за стола – в дверь резко постучали, и сразу же, не дожидаясь ответа, на пороге появился Соловейкин.
– Разрешите доложить, Павел Иванович? – официальным и суховатым тоном заговорил старший лейтенант.
Лузнин поднял на него удивленный взгляд: что это с ним?
– Слушаю, Виктор Яковлевич.
– Докладываю результаты экспертизы.
– Да-да. Давай.
– Эксперты еще раз подтверждают, что никаких следов избиения не обнаружено. Разрыв сердца. Естественная смерть.
– Так:
– Но… есть тут заковыка. Сердце у Десяткова, как установлено экспертизой и подтверждено историей болезни, болело уже давно. Он мог умереть и раньше, так же, впрочем, как и прожить еще неопределенное время.
– Не понимаю. Что значит «неопределенное время»?
Соловейкин улыбнулся.
– Все просто. Эксперты предполагают, что перед смертью Десятков перенес сильное нервное потрясение.
Где документы?
– Будут завтра утром. Пришлют лично вам.
Соловейкин вышел, громко хлопнув дверью.
В прокуратуре никого уже не осталось. Секретарь – человек педантичный, уходит с работы с точностью секунды, так же, впрочем, как и приходит в прокуратуру. По ней можно часы проверять.
Дома Павла Ивановича уже заждались. Дочернего – старшая, Света, и младшая, Люда, – собрались идти за отцом.
Мотив и у жены и у дочерей был самый внушительный: ужин простыл.
Хоть бы они провалились, твои нарушители, – проворчала Ольга.
Минут через пятнадцать заново подогретый ужин стоял на столе. Люда доложила, что опять она вела себя очень хорошо, ни одного замечания не получила. Впрочем, это было начало разговора. Лукавое личико младшей дочери и сегодня имело таинственный вид. Она явно осторожничала, боясь получить шлепок от матери, что не раз испытала.
Отец заговорщически подмигнул дочери, что означало: понимаю, давай дождемся, когда останемся вдвоем. Дочь серьезно кивнула головой.
Но держать тайну Люда была не в силах. Когда мать вышла за фруктами – сегодня были груши, желтые, сочные – Люда громко зашептала:
– Он снова два раза проходил мимо нашего дома.
– Кто это «он»? – не понял отец.
– Ну, тот же… с иголками который.
Павел Иванович насторожился.
– И ничего не спрашивал?
– Не спросил, – огорченно ответила дочь. – Но смотрел вот так… – малышка насупилась, выставила голову вперед и громко, выразительно засопела.
– Понятно. Когда ж ты его видела?
– Когда выбегала тебя смотреть.
– Ага, ясно. Вечером, стало быть?
– Опять у вас секреты? – сурово осведомилась мать, возвратившись с полным блюдом груш. – А ну, хватит вам… Ешьте лучше, тоже мне заговорщики нашлись. Стараешься для них, а им бы секретничать. Ешьте, а то отниму.
…Сразу же после ужина Лузнин ушел. Оля молча проводила его взглядом. Она не спросила, куда он направлялся и скоро ли вернется назад: поняла – что-то очень важное, иначе сам бы сказал.
Какова все-таки истинная картина смерти Десяткова? Сомнений быть не могло: Проханов задумал любыми средствами убрать с дороги Десяткова.
Но со смертью Десяткова опасность разоблачения настоятеля не исчезала: оставалась Марфа Петровна, которая знала не меньше, а, пожалуй, побольше своего мужа, в чем он сам лично убедился.
Все это выглядело странно..
Такого же мнения придерживался и Соловейкин. Он пристальное внимание направил теперь на Маргариту. При первой встрече она заявила Соловейкину, что Десятков – больной человек и умер естественной смертью. А теперь она уходила от ответа, мялась и вообще не желала говорить на эту тему.
Но уж одно это отпирательство говорило о многом. Маргарита что-то скрывает.
– А где она живет? – спросил Лузнин у Соловейкина.
– В том же доме, что и Десятков…
– Как это?
– В другом конце дома. Через стену от Десятковых.
– Та-ак… Любопытно. Значит и с Делиговым они соседи?
– Конечно. Только забор отделяет.
– А ты помнишь, как выглядит комната Десятковых? – спросил Лузнин.
– Помню. Обстановка, прямо сказать, более чем скромная. Стол, покрытый дешевенькой скатертью, старый шкаф, две железные кровати…
– А почему так?
– Так его же грабил Проханов. Десяткову доставались рожки да ножки. Ведь Марфа Петровна так и сказала: «Под себя грабастал, супостат». Я – к ней: о ком говорите, мол, а она молчит и дрожит вся. А потом как заплачет: «Затравили! Затравили!»
– Да, пожалуй, это последний этап, – сказал Лузнин. Вот что, Виктор. Я иду к Делигову
– А чем мне прикажете заняться?
– Оформляй показания.
Лузнин вышел.
Вечер опять выдался тихим, теплым, ласковым. Из репродуктора в городском саду раздавался деловитый голос диктора.
Лузнин направился к дому Делигова.
Припомнились короткие сведения об этом человеке. Преступление свое во время войны он смыл кровью: был ранен в партизанском отряде, где находился до самого освобождения района советскими войсками. Потом воевал в регулярных частях. Снова получил ранение и демобилизовался.
Работать Делигов устроился в лесничестве объездчиком. В то время у него было уже двое детей. Жил там несколько лет, пока не случилось несчастье – пожар, во время которого погибли дети. Жена в это время находилась 6 соседнем селе, а сам он – на объезде.
Трагедия эта случилась давно, когда Павла Ивановича еще не было в районе.
Жена Делигова после этого страшного несчастья едва не сошла с ума. Примерно через месяц после гибели детей она оставила мужа. А еще через год стало известно, что она умерла.
Делигов в лесничестве жить больше не стал. Он купил небольшой домик в городе, женился второй раз и скоро снова стал отцом. Жили они с новой женой не дружно. Он частенько избивал – ее, за что однажды получил пятнадцать суток.
По пятнадцать суток сидел еще два раза: однажды– за то, что будто бы случайно схватил за грудь лесничего, приказавшего ему оставить незаконно нарубленные слежки; другой раз – Делигов бросился с ножом на женщину, которая хотела пристыдить соседа за то, что он распускает своих поросят по чужим огородам.
Таким представлялся Делигов по тем сведениям, которые удалось о нем получить. Характеристика довольно прозрачная, но к делу Десяткова она непосредственного отношения не имела.
При первой встрече Делигов держался так уверенно, что у Павла Ивановича закралось сомнение в причастности его к делу Десяткова. И только позже, когда клубок постепенно распутывался, многое стало ясно.
Лузнниу не хотелось заранее обдумывать предстоящий разговор с Делиговым. Как вести себя – будет ясно из беседы.
Но что же произошло во время разговора священника с Делиговым? Потрясение могло быть и от слов, оскорбительных, издевательских. Возможно, и от угроз, ругательств. У Десяткова было болезненное самолюбие, он мог очень бурно реагировать на слова собеседника, тем более, когда речь Шла о его жене, которую могли просто-напросто убить.
Убить Марфу Петровну… Да неужто он способен на такое злодейство? – Лузнин снова представил себе настоятеля собора. – Но, ведь Проханову требовалось избавиться от нее.
А ребенок Марии Ильиничны? Убрал же он его с дороги, когда это потребовалось. Убрал, правда, таким путем, что ему и обвинений прямо не поставишь.
Нужно еще раз встретиться и поговорить с Разуваевой.
Когда Лузнин, постучавшись, быстро вошел в комнату, хозяин дома, ворошивший в большой шкатулке какие-то бумажки, вскочил так стремительно, что стул с грохотом повалился-на пол. Павел Иванович почувствовал, что застал Делигова врасплох, хотя и не знал причины его растерянности.
Он тут же решил: не нужно давать ему опомниться.
Лузнин, глядя на Делигова в упор, спросил первое, что пришло на ум.
– Делигов! Давай на полную откровенность. Долго ли тряс старика Десяткова за грудь?
– Ну что вы, товарищ Лузнин. Совсем недолго… – и будто споткнулся.
На висках у Делигова мелко-мелко забилась синенькая жилка. Он облизал пересохшие губы и попытался поправить положение.
– Нет, не так, не так все было… Мы беседовали мирно…
Делигов говорил, а сам быстрыми движениями собирал бумажки, выброшенные из шкатулки.
В куче бумажек, с которыми возился Делигов, Лузнин вдруг увидел синенький билетик в кино с неоторванным контролем.
И тут Лузнин вспомнил.
Рассказ Марии Ильиничны. Это же ее билет. Ну, конечно! Зачеркнуто, перечеркнуто и нее же совершенно отчетливо выделялись цифры, написанные красным карандашом: 15 и 8. Пятнадцатый ряд, восьмое место…
Лузнин взял этот билет и поднес его к глазам хозяина дома.
– Отвечайте быстро. Чей билет?
Делигов отшатнулся. Его лицо стало бледным, но он быстро понял, что запираться бесполезно.
Хорошо. Я вам скажу. Это билет Разуваевой. Помните такую женщину?
– Вы, наверное, очень тогда нуждались и деньгах? – задал новый вопрос Лузнин.
Задыхаясь от волнения, Делигов заговорил:
– Я очень, очень нуждался. Просто позарез… Хоть ложись да помирай.
– А сейчас?
– Ну… Легче сейчас…
– Но откуда у вас деньги?
И Делигова снова понесло. Захлебываясь словами, он стал рассказывать, какие трудности испытывает с ремонтом дома. Нигде ничего не достанешь. Прямо беда!
– Все-таки, откуда у вас деньги?
– Ну… Подкопил с годами.
– Странно. Копили годами, а когда в парке стукнули по затылку больного человека – денег у вас почему-то не было.
– Да нет, что вы… Я вам все объясню.
– Не надо заговариваться. Отвечайте кратко: откуда у вас в последнее время появились деньги?
– Так я же говорю – скопил.
– Хорошо. Отвечу я за вас. Деньги у вас от Проханова.
И снова кровь стала отливать от лица Делигова.
– Зачем вы запутываете и меня и, главное, себя? Ведь от вашей чистосердечности сейчас зависит все ваше будущее. Неужели вы этого не понимаете? – Лузнин помолчал и заговорил снова. – Поймите, я вас не вызвал к себе официально, а пришел к вам.
Делигов вскочил и, стоя, вперил взгляд в Лузнина. Напряженный, острый взгляд… Острый взгляд! Ну, конечно, вспомнилась Людочка и ее розовые пальчики у глаз. Разумеется, он…
Лузнин улыбнулся.
А зачем вы, Яков Андреич, кружили вокруг моего дома?
– Ну, ходил… А что с того?
– Вот именно: что с того, что ходил? Никому не возбраняется ходить там, где человеку захочется.
Яков Андреевич согласно закивал головой.
– Правда, в рабочее время бросать без присмотра и хозяйского глаза строительство дома-… Вряд ли в этих поступках есть разумные действия.
Делигов вдруг обозлился.
– Мой дом. Хочу строю, хочу гуляю.
– Это уже мужской ответ. – Лузнин поднялся. – Хватит, Делигов. Не поняли вы, не оценили желания помочь вам. Вы запутались, или, скорее всего, вас запутали. А если говорить жестче – вас просто-напросто купили, и купили по дешевой цене. Нам-то картина ясна. И должен вам сказать, что Маргарита была куда откровенней.
– Ах, сволочь какая! – вырвалось у Делигова. – Тварь продажная.
Лузнин поморщился.
– А вы-то сами честнее Гунцевой?
– Сволочь она паршивая! Сводня, потаскуха…
По словам Делигова, Маргарита мстила Проханову. Ей теперь не на что жить.
– Достаточно! – остановил Делигова Павел Иванович. – Завтра, уважаемый Яков Андреевич, придется поставить все на официальную ногу. Прошу с утра пожаловать в прокуратуру. Одновременно еще раз вызовем и Проханова, вашего финансиста и хозяина. И будьте уверены: самым подробным образом уточним, как он вам давал инструкции и для какой цели!
– И отца Василия? – вскрикнул Делигов. – И этот продал? – Он схватился за голову, но, сообразив, что опять выдает себя, забормотал: – Но я-то при чем? Что я сделал?.. А вообще… Вызывайте кого хотите…
– Разумеется. Надо же знать, кому потребовалось ускорить смерть больного человека. В наше право входит и расследование причин – кому срочно потребовалось запутать следствие, направить его по совершенно ложному следу. Может, подскажете? Или дать время на размышления?
– Я думаю… думаю, – Делигов с трудом подбирал слова. До него, ио всей видимости, почти не доходили слова Лузнина. – Я думаю, гражданин прокурор, кто ненавидит церковь и господа бога, тот и…
Лузнин даже вздрогнул от этих слов. Вспомнился телефонный разговор. Те же слова, та же интонация…








