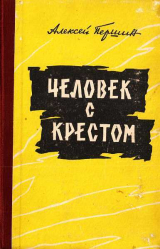
Текст книги "Человек с крестом"
Автор книги: Алексей Першин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 20 страниц)
Алексей Николаевич Першин
«ЧЕЛОВЕК С КРЕСТОМ»
роман
Алексей Николаевич Першин родился в крестьянской семье в Воронежской области, рано начал трудовую жизнь (пас деревенское стадо, работал кочегаром на железной дороге, чернорабочим, в депо). Учился вечерами.
Закончив в 1942 году среднюю школу, А. Н. Першин добровольцем ушел на фронт, был несколько раз ранен.
После, демобилизации долго лечился в госпиталях, потом сдал экзамены в вуз и успешно закончил Московский педагогический институт имени В. И. Ленина.
С 1951 года Алексей Першин сотрудничает в центральных органах печати, выступает как очеркист.
Газетная работа, частые поездки по стране дали ему много жизненных впечатлений. Он написал повесть «Побеждает тот, кто прав», которая была издана «Молодой гвардией».
Роман Першина «Человек с крестом» – это книга о человеческой совести, о том, как этой совестью спекулируют церковники, как они продают ее, покупают, калечат.
Автор, разоблачает в своей книге коварные происки корыстных деятелей православной церкви, он показывает, как религия губит людей, унижает их человеческое достоинство, калечит морально и физически, а иногда приводит их к гибели.
ПРОЛОГ
«Убит по дъявольскому наущению…»

Солнце едва лишь выбралось из-за сверкавших позолотой куполов церкви, как над районным центром Петровском поплыл вкрадчивый колокольный звон. Постепенно он становился настойчивым, едким и проникал, кажется, в каждую щель. Он будил, тревожил, взывал…
Никто, однако, не спешил на этот призывный клич. Дремлющее спокойствие прочно держалось в домах с закрытыми ставнями; не нарушалось оно и на пустынных, пыльных улицах.
Но как только солнце стало заметно пригревать, на улице, ведущей к церкви, показался человек. Сначала он шел медленно, потом ускорил шаги и наконец побежал. Он ворвался в церковь, и колокола будто захлебнулись.
Звон прекратился. Не прошло и пяти минут, как тот же человек выскочил обратно. За ним вышла женщина в черном, и они пустились бегом. На перекрестке мужчина остановился, осторожно осмотрелся и скрылся в подъезде дома.
Женщина в черном осталась на улице. Она наклонилась и долго возилась с туфлями, однако все ее внимание было сосредоточено совсем на другом. Она настороженным взглядом окинула пустынную улицу сначала влево от себя, потом тихонько перевела взгляд вправо и заметь но успокоилась.
В это же самое время в районной прокуратуре раздался резкий телефонный звонок. Следователь Павел Иванович Лузнин поднял трубку.
– Слушаю!
– Срочно пригласите прокурора, – зарокотало в трубке. Человек часто дышал видно, бежал, как невольно отметил про себя Павел Иванович.
– Я исполняю обязанности прокурора. Моя фамилия Лузнин. Что случилось?
– Полчаса назад убит священник Десятков. Убит злодейски, по дьявольскому наущению…
Убийство! Давно уже Лузнин не слышал этого страшного слова. Года три-четыре не слышал. За хорошую организационную работу, предупреждающую преступность в районе, Павел Иванович получил не одну благодарность в приказе от областного прокурора. И вдруг этот звонок…
– А кто говорит? – спросил Лузнин.
На другом конце провода молчали.
– Вы можете назвать убийцу?
– Убил тот, кто ненавидит церковь и господа бога…
Лузнин поморщился.
Пожалуйста, выражайтесь конкретней. Вы звоните в прокуратуру. Если хотите помочь, назовите – кто убил Десяткова?
Ответа не было. Некоторое время Лузнин держал трубку, выжидая, что последует дальше. Но телефон молчал.
– Странно.
Павел Иванович взглянул на часы. Стрелка показывала ровно семь. Лузнин оказался в прокуратуре случайно. Он только что возвратился из командировки, намеревался хоть немного днем отдохнуть. И вот – отдохнул…
Было ясно – надо немедленно начинать расследование, притом ему лично, потому что поручить дело некому: в прокуратуре Лузнин остался одни, если не считать секретаря и уборщицы.
Убит священник! Убит человек, в глазах верующих почти святой. И убит он теми, «кто ненавидит церковь и господа бога». Звучит как-то подозрительно. Священника церковники могут объявить мучеником, чтобы привлечь на свою сторону сочувствующих из среды колеблющихся.
Лузнин схватился за телефон и попросил старшего лейтенанта милиции Соловейкина выехать на квартиру Десяткова и быстро проверить, что там случилось.
Коротко рассказав о странном телефонном разговоре, Павел Иванович добавил:
– Дело необычное, надо быть настороже.
– Врача нужно, Павел Иванович?
– Пока нет. Вдруг провокация?
Ровно через полчаса раздался телефонный звонок.
– Что так долго? – с заметным раздражением спросил, Лузнин. – Что там? Говори скорее.
– Действительно, умер поп. Народу собралось уйма. Судачат, шумят. Говорят, убили.
– Ты как, официально?
– Нет, зачем же! Просто удостоверился в смерти – и к телефону.
– Хорошо, Виктор Яковлевич. Бери врача. Нужна срочная экспертиза. Дело придется вести вдвоём. – Я отправлюсь в церковь, а ты – к Десятковым.
Он одернул пиджак, пригладил волосы и надел фуражку. Надел и задумался;
«Нет, не годится», – и положил фуражку на стол.
В церкви он бывал еще в детстве, с бабушкой, и даже представить не мог, каков сейчас «храм божий». Чувствовал он себя весьма неловко. Визит к настоятелю был ему неприятен.
Можно бы, конечно, вызвать священника в прокуратуру официально, но этот вызов сорвал бы церковную службу.
Представив себе нарекания и недовольство верующих, Лузнин отказался от этого намерения.
Был и другой выход: отложить разговор на вторую половину дня, когда священник свободен. Однако задерживать расследование было нельзя.
Отец Василий
Лузнин шагал по улице неторопливой походкой, ни «чем внешне не выдавая своей обеспокоенности. Сказывался профессиональный навык – следователем Павел Иванович работал десять лет. Предстоящий разговор со священником очень волновал его. Ему еще ни разу не приходилось сталкиваться с подобным делом. Церковники в его глазах принадлежали к какому-то иному миру, миру, давно забытому. Во всяком случае таково было ощущение. Человек, захвативший старое время, когда священник в обществе был чем-то незыблемым, обязательным, может быть, и удивится подобным ощущениям, но ведь Лузнин родился и вырос при Советской власти. Ему от роду не было и сорока лет.
– Служба еще не началась, когда Лузнин вошел в церковный двор, огороженный массивной чугунной оградой на каменном фундаменте. Было такое чувство, что он попал к рачительному хозяину. Сама церковь блистала новизною и свежестью красок. Двор был устлан битым камнем, подметен – ни соринки, словно его вылизали. Яркая зелень на фоне серовато-желтого камня еще больше подчеркивала чистоту.
По слухам, распространившимся в городе, на ремонт и отделку церкви епархия выделила несколько миллионов рублей.
Церковь в сущности не отремонтировали, а почти выстроили заново.
Это богатство поразило Лузнина. Откуда столько средств? Одна ограда чего стоила!
Такая еще нужда в жилье, а тут миллионы уходят. И на что!
Лузнин издали заметил настоятеля церкви Проханова. Он стоял в окружении старушек, одетых в черное. Настоятеля Лузнин видел второй раз и второй раз не мог определить его возраста. Крепок был на вид священник и силой, видимо, обладал недюжинной, судя по его широким плечам, чуть сутуловатой спине и могучей короткой шее.
Проханов не стоял на месте. Задержавшись на минуту около одной группы женщин, он переходил к другой, ловко лавируя между ними. Походка у него была уверенная, твердая и далеко не старческая. Священник обладал подвижностью мужчины, который находится в расцвете сил.
Лузнин подошел к нему сзади и, чуть прикоснувшись к его плечу рукой, вполголоса произнес:
– Можно вас на одну минуту?
Проханов медленно обернулся.
– Чем могу служить, сын мой?
Мягкий, отшлифованный баритон звучал ласково, а прищуренные глаза, улыбавшиеся мягкой, поощрительной улыбкой, располагали к разговору, который мог стать сердечным. Все это еще больше углубило неловкое состояние Лузпина. Стараясь поскорее покончить с этим неприятным визитом, Павел Иванович еще тише представился:
– Я исполняю обязанности районного прокурора…
Он не договорил, заметив, как отшатнулся Проханов.
Отшатнулся так, будто его ударили. Проханов бросил косой быстрый взгляд на старушек, которые навострили уши, стараясь уловить, о чем говорит батюшка, и, шагнув в сторону, сухо спросил:
– Чем могу служить?
– Извините, что беспокою вас в такой ранний час и здесь, но, к сожалению, у меня нет другого выхода. Могу я задать вам два-три вопроса?
– Я слушаю, слушаю! – с нетерпением ответил Проханов, плохо скрывая досаду.
– Где находится второй священник?
– Не могу сказать точно. Дома, вероятно. Больше находиться ему негде.
– Вы когда его видели в последний раз?
– В последний раз? – удивился Проханов и с недоумением взглянул на Лузнина, – Вчера видел, в полдень. А в чем дело?
– Только что позвонили в прокуратуру и сообщили: священник Десятков сегодня утром убит.
– Убит! Господи, спаси мя и помилуй! – воскликнул Проханов и стал мелко-мелко креститься. – Прими, господи…
– Вам что-нибудь об этом известно? – перебил его Лузнин, не спуская глаз со священника.
Проханов бросил на Лузнина взгляд исподлобья и словно опалил им. Павел Иванович только теперь рассмотрел глаза отца Василия. Они глубоко ушли под брови и мерцал каким-то фосфорическим блеском, очень черные, влажные, странно подвижные. В них была и властность, и фанатическая жесткость; они могли вызвать трепет и подчинить себе.
Брови Проханова сошлись на переносице, и он с едва сдерживаемым гневом сказал:
– Гражданин прокурор! Я совсем не обязан следить за Десятковым. Я знать ничего не знаю и знать не желаю. Во имя отца и сына и святого духа я служу богу и в мирские дела не вмешиваюсь.
Это был выпад. Ответ последовал немедленно.
– Извините, это совсем не мирские дела. Вы – настоятель церкви и, полагаю, обязаны знать о людях, вам подчиненных. Меня привело к вам не праздное любопытство. Речь идет о жизни человека, о преступлении. В данном случае оба мы должны быть заинтересованы в его быстрейшем расследовании. На этом основании я и задаю вам вопросы.
Священник как-то очень заметно одернул себя. Он шикнул на какую-то старушку, пытавшуюся поцеловать ему руку, истово перекрестился, обернувшись к алтарю, и глухим, чуть вздрагивающим голосом произнес:
– Вы должны понять меня, уважаемый. Мне показалось, что вы обвиняете меня в какой-то непредусмотрительности. Это мне, старику, обидно слышать. И потом, – священник развел руками, – прокуроры не часто посещают храм божий. Это вы знаете, наверное, лучше меня.
Проханов потер лоб, будто собираясь с мыслями. Павел Иванович видел, как на этом высоком лбу выступают крупные капли пота. Священник волновался..
– Поймите и другое, сын мой… Простите, что так называю вас. Я как-то не могу даже поверить. На самом ли деле преставился отец Иосиф? Вчера он был в добром здравии. И такой веселый, бодрый. Может быть, тут ошибка?
– Нет, ошибка исключена. В доме священника по моему заданию побывал старший лейтенант милиции Соловейкин. Он официально доложил о смерти Десяткова. Около дома народ собрался. Верующие, надо полагать…
– Почему же только верующие? – мягко возразил Проханов. – Если действительно отец Иосиф умер не своей смертью, – по моему разумению, эго чрезвычайное происшествие… „
Лузнин понял, что допустил ошибку, но не сразу сообразил, как ее исправить. Он видел, в каком напряжении находится священник и с каким трудом дается ему этот ровный тон.
– Вы совершенно правы. Простите, не знаю, как ваше имя, отчество.
– Василий Григорьевич…
– Вы совершенно правы, Василий Григорьевич. Видимо, около дома не только верующие. Меня все-таки удивляет: как могло случиться, что о смерти священника настоятель церкви узнает последним? Тем более, у вас столько помощников, – он обвел глазами старушек. – И потом, если я не ошибаюсь, два или полтора часа тому назад я слышал какой-то тревожный колокольный звон. И он так внезапно оборвался. Всегда он продолжается по крайней мере с полчаса, если не больше. А сегодня – минут десять…
Павел Иванович умолк, заметив смущение Проханова. Священник сделал непроизвольное движение рукой, будто от кого-то защищаясь.
Но Проханов отогнал поднятой рукой большую муху и заговорил спокойным голосом.
– Это вы правильно изволили заметить, гражданин прокурор. Наш звонарь последнее время просто безобразничает. Вчера до такой степени напился, охальник, что и поныне пьян. Что ты возьмешь с него, нехристя. – Проханов снова развел руками. – Он сегодня мне службу чуть не сорвал. Придется рассчитать его.
– Василий Григорьевич, а нельзя ли повидать вашего звонаря?
– Сделайте одолжение, гражданин прокурор. Только он спит. Я его прогнал. Пьяный, на ногах не держался. Могу, если прикажете, послать за ним кого-нибудь из певчих.
– Так он же идти не может?
– Если нужно, волоком доставим! – с преданной готовностью ответил священник.
– Нет уж, волоком не следует. Пусть отдыхает. Поговорить с ним, если понадобится, и позже успеем.
– Совершенно с вами согласен. Можно и позже. Если хотите, я пришлю его, когда образумится.
– Нет, нет, зачем же. Присылать не следует. Я совсем не намерен! включать звонаря в свидетели. Просто к слову пришлось. Да и дела еще нет никакого.
– Что ж, воля ваша. И прошу поверить мне. Я очень удручен. Скорблю об усопшем. Печальную весть вы принесли мне. Даже не знаю, как так могло случиться. Батюшка умер, а я, старый пень и слуга господень, стою здесь и разглагольствую. Грех это. Не по-божески, не по-людски, уж вы меня простите, старика. Придется службу отменить, если такое несчастье постигло приход наш. Отец Иосиф был преданным человеком святой церкви, и мы должны отдать ему-все почести. – Священник с достоинством поклонился. – Я должен покинуть вас.
– Да-да, я понимаю вас, – деликатно ответил Лузнин.
Настоятель медленно повернулся и зашагал к амвону плавной, величавой походкой.
Лузнин поспешил в прокуратуру.
Тетя Паша подозревает…
– Павел Иваныч! – поднялся навстречу Лузнину Соловейкин. – Разрешите доложить. Вместе с врачом мы установили: никто Десяткова не убивал.
– Как? – удивился Лузнин. – Ты же сам утверждал…,
– Ничего особого я не утверждал. Передал, что слышал, и удостоверил, что Десятков на тот свет определился.
Павел Иванович поморщился.
– Что за тон? Давай по существу.
– Так я ж и говорю по существу, Павел Иваныч. Умер Десятков. Сердечник он. Его удар хватил.
– С кем говорил об этом?
– С соседкой. Гунцева ее фамилия. Так она со всей определенностью утверждает: сердечник, мол, от разрыва сердца умер.
– А что врач говорит?
– И он того же мнения держится. При первом осмотре никаких телесных повреждений не обнаружено. Поглядим, говорит, что покажет экспертиза, но пока он не видит ничего подозрительного, что бы говорило о насилии… – Соловейкин облегченно вздохнул.
– Да-а… История…
Лузнин потер широкой ладонью крутой подбородок и в глубоком раздумьи зашагал по кабинету.
А Соловейкин уселся за прокурорский стол и, положив ногу на ногу, следил за Лузниным улыбающимися глазами. Коренастый, плотный, лысоватый. Внешность, как говорится, без особых примет, если б не лицо. Работникам его профессии как-то уж «по штату» положена некоторая резкость и жесткость во всем облике, а у Лузнина и намека на это не было. Глаза добродушные и к тому же мягкая округлость лица, ямочки на щеках и подбородке…
Ходьба в раздумьи продолжалась довольно долго. Наконец Соловейкин не выдержал:
– Я, Павел Иваныч, определенным образом не пойму тебя. Такая гора с плеч, а ты опять что-то затеваешь.
Соловейкин хорошо знал Лузнина. Все, кажется, просто, ясно, а он перевернет все шиворот-навыворот и копается потом, ищет.
– Говоришь, умер своей смертью? – спросил Лузнин.
– Не я говорю. Врач так предполагает.
– А ты знаешь эту женщину, которая утверждает, что Десятков умер от разрыва сердца? Она что – тоже врач?
Соловейкин вспыхнул: ему даже в голову не пришло узнать подробности об этой Гунцевой.
– Нет, не врач. И, кажется, нигде не работает.
Павел Иванович с удивлением взглянул на Соловейкина. Мальчишка он, что ли? Ведь уже не одно преступление было раскрыто вместе с Соловейкиным, но старшего лейтенанта слишком часто приходилось то подстегивать, то сдерживать, а еще чаще поправлять, хотя разницы в годах у них почти не было.
– Ты, Виктор, кажется, упрощаешь дело. Вдумайся в факты. Кто звонил в прокуратуру и, главное, зачем? Это первое, что меня смущает. И второе. Экспертизы пока нет. Утверждать что-то категорическое у нас нет оснований. Мы можем лишь предполагать. Есть и третий довод, не очень, правда, существенный, но, однако, его нельзя оставлять без внимания. Я хоть и ругал себя, что пошел сам в церковь, но кое-что все-таки получил от встречи с настоятелем.
Соловейкин, с интересом слушавший Лузнина, подался вперед.
– А что… Что выяснил?
Однако ответить Павел Иванович не успел: в кабинет без стука вошла маленькая, сухонькая женщина лет пятидесяти. То была уборщица Павлина Афанасьевна, или тетя Паша, как ее все звали в прокуратуре. Была она быстрая в движениях, имела характер решительный, независимый, прокурора Афимова звала запросто «сынок», хотя по возрасту была всего на два года его старше. Все другие также ходили у нее в рангах «сынков» и «дочек», кто бы ни пришел и ни приехал в прокуратуру.
Павлина Афанасьевна приостановилась у порога, по очереди оглядела обоих живыми, не утерявшими блеска карими глазами (когда-то она слыла красавицей) и небрежно поздоровалась, будто сердилась на них:
– Здрасте вам!
Она строго взглянула на Соловейкина, пытавшегося что-то сказать Павлу Ивановичу, досадливо махнула на него, рукой, словно это был не старший лейтенант милиции, а так просто, мальчишка школьного возраста. Тетя Паша давно уже недружна была с Соловейкиным, да и тот ее не жаловал, хотя связываться с уборщицей побаивался.
– Дело у меня, сынок, – глухо сказала тетя Паша, обращаясь к Лузиину. – Может, оно и враки, кто его разберет. Рассуди-ка сам, на то и есть прокурор. У нас, у верующих, несчастье. Отец Иосиф помер…
Лузнин насторожился, но не подал виду, что заинтересован в разговоре.
– А какое это имеет отношение ко мне? Ведь смерть – не преступление.
Павел Иванович всем корпусом повернулся к Павлине Афанасьевне и встал перед ней в нетерпеливой, выжидательной позе.
– Не спеши, не спеши, сынок. Ты сядь и меня усади рядком. Вот так. А теперь о деле. Как услышала о несчастье-то – як матушке. Убивается горемычная, горюет. Нас у матушки много собралось. Поплакали мы вместе с ней, погоревали, а потом, слово за слово, разговорились: отчего да почему помер отец Иосиф? Ну, вот я и… Словом, за что купила, за то продаю. Будто бы дело-то нечистое.
Павел Иванович слегка развел руками.
– Тетя Паша, не понимаю. Виктор Яковлевич, может, вы уразумели?
Соловейкин лишь досадливо поморщился,
– Батюшка-то не своей смертью на тот свет преставился. Будто убили его.
– Та-ак, – произнес Лузнин. – А еще что говорят?
– Разное говорят, – неохотно ответила женщина. – Все разве упомнишь.
Лузнин мягко коснулся руки Павлины Афанасьевны.
– Тетя Паша, новость для нас вы сообщили очень важную. Уж вы, пожалуйста, ничего не скрывайте. Кого подозревают, не слышали? Поймите, это очень серьезно.
– Нехристи убили, вот кто! Больше ничего не знаю. С матушкой потолкуйте, скажет, ежели захочет.
И уборщица двинулась к выходу. У самой двери она остановилась.
– Да, чуть не забыла. Тебя тут спрашивали, – сказала она, обращаясь к Пазлу Ивановичу. – Соседская девчонка играла у нас во дворе. Какой-то человек попросил ее постучать и спросить, в своем ли кабинете прокурор.
Лузнин пожал плечами.
– А какой он из себя? Девочка не рассказывала?
– Вот уж чего не ведаю, того не ведаю. Сама бы я, конечно, разглядела. А то девчонка… Что с нее возьмешь?
Лузнин улыбнулся.
– Спасибо, тетя Паша. Уж извините, но мне сдается, что-то вы от нас скрываете.
Женщина ничего не ответила, пожала плечами и вышла.
– Немедленно экспертизу, Виктор Яковлевич, поторопись, – сказал Лузнин.
Соловейкин одернул темно-синюю гимнастерку и направился к двери.
Горе или церемония?
Было около двенадцати дня, когда Лузнин вышел из прокуратуры. Солнце палило нещадно.
На улицах городка стояла тишина. Был обычный рабочий день недели. Люди трудились. Прохожих совсем почти не было. Не увидел Павел Иванович и детей. Зной загнал всех в дома, в тень.
По улицам бродили только собаки. Одни, высунув длинные, влажные языки, дрожавшие от частого, прерывистого дыхания, тихо трусили по дороге, другие лениво выглядывали из-под ворот и лишь по привычке тявкали вслед редким прохожим.
Павел Иванович чувствовал себя очень уставшим. Давала себя знать бессонная ночь. Хотелось спать, но спать было нельзя. Дело усложнялось.
Когда Лузнин вошел во двор Десятковых, он заметил Соловейкина, который что-то рассказывал Белякову, старшему лейтенанту уголовного розыска.
Павел Иванович торопливо поздоровался с Беляковым и с недоумением спросил Соловейкина:
– В чем дело? Десятков разве не отправлен на экспертизу?
Соловейкин и Беляков молчали, будто и не слышали вопроса. Во дворе скопилось много женщин в черной одежде. Они заглядывали в отворенную дверь дома, откуда доносилась заунывная мелодия, и настороженно переговаривались. Вдруг толпа женщин зашевелилась.
Павел Иванович заметил – двух монахинь, властно раздвигающих толпу пренебрежительным движением рук. Эти белые руки будто покрикивали властно: «Эй! Сторонись!» Лица обеих монахинь поражали своей исступленностью и полным пренебрежением к тому, что делалось вокруг.
Монахини остановились, о чем-то пошептались между собой и, медленно обернувшись, с тем же величавым неприятием окружающего удалились в глубь комнаты.
– Видали! – воскликнул Соловейкин. – Явление Христа народу…
– Тс-с… – Беляков приложил палец к губам. Обернувшись к Лузнину, он пояснил – Невозможно подступиться. Обряд начался. Хотели очистить двор, только разве можно сейчас? Шуму потом не оберешься. Ждем вот.
Павел Иванович кивнул головой в знак согласия, вошел в тень ветлы и стал рассматривать людей, собравшихся во дворе Десяткова.
Лузина не заметил ни одного молодого лица.
Это открытие обрадовало Лузнина: может быть, среди молодежи не так уж много верующих и не стоит преувеличивать влияние религии на людей? В самом деле, проводить в последний путь священника пришли в основном только пожилые женщины. Ну и пусть их. К церкви их приучили с детства, их религиозность стала привычкой.
Но тут же в памяти возникла другая картина. Утром в церкви он видел не только старух, но и женщин с детьми, с подростками. Вспомнились растерянные, испуганные лица ребят, жавшихся к матерям. И уж, конечно, дети были в «храме божьем» совсем не по доброй воле. Их привели силой. А если так повторится раз, другой, третий? Если из дней сложатся недели, месяцы, годы? За это время вполне можно искалечить детскую душу.
Припомнилось еще одно немаловажное обстоятельство. Если действительно храм посещает не так уж много богомольцев, откуда же берутся в церковной кассе миллионы? Ведь это же народные средства, заработанные горбом и потом.
Вдруг в толпе кто-то резко вскрикнул.
– Ох, ох, ох! – стонала женщина, а потом дико, с надрывом завыла.
Слушать этот вой было жутко.
– Кто это? – удивился Соловейкин. – Родственница, что ли?
– Крикуха, – ответил Беляков. – Есть такой сорт нервных особ. Истерички. Больше притворства, чем болезни.
Как раз в эту минуту во дворе снова появились монахини. Они строго и даже требовательно оглядели толпу, и все с тем же исступленным видом стали прочесывать ее каждая в отдельности. Святые девы шевелили губами, но слов не было слышно.
Первую крикуху поддержала одна из старушек С другого конца запричитала еще одна. Было видно, как старушка стала рвать на себе седые волосы. Но даже, отсюда, на расстоянии, все трое заметили, что глаза ее совершенно сухи, а на лице застыла маска плаксивости.
Вопли крикух заставили дрогнуть остальных. Стенания постепенно усиливались. И вдруг плотину сдержанности прорвало. Столпившиеся у двери старушки сначала тихо застонали, потом плач усилился и наконец перерос в сплошной вой.
У Лузнина поползли мурашки по спине. То, что он видел и слышал, было отвратительно. Никто в сущности не горевал, не чувствовалось и простой человеческой печали. Женщины плакали не от жалости к умершему человеку, а, скорее, чтоб не отстать от других.
– Что будем делать? – вполголоса спросил Лузнин. – Наблюдателями быть не очень приятно.
– Н-да, – неопределенно буркнул Беляков, и вдруг лицо его оживилось. – Смотрите! Тетя Паша!
Беляков обернулся, заговорщицки подмигнул товарищам и тут же извлек из толпы Павлину Афанасьевну.
– Тетя Паша! Христом-богом просим вызвать к нам жену Десяткова, – заговорил Беляков.
– Замолкни, нехристь, – сурово оборвала его маленькая женщина. – Не произноси имени богова.
– Хорошо, хорошо, тетя Паша. Все выполним. Только уж, пожалуйста, позовите.
Уборщица перевела вопрошающий взгляд на Лузнина, которого она уважала и с чьим мнением считалась. Тот согласно кивнул головой.
Павлина Афанасьевна замешалась в толпе.
…Минут через пять все трое беседовали с полной, рыхлой женщиной лет шестидесяти. У нее было дряблое белое лицо, суровые складки около губ, на лбу и суровые глаза.
Потерять мужа – огромное горе, но как раз этого горя и не было заметно.
Только позлее Павел Иванович понял, насколько ошибочно бывает первое впечатление. Марфа Петровна оказалась куда сложнее, глубже, чем показалась на первый взгляд. Неутешное горе этой женщины не могли выразить ни слезы, ни причитания, ни душераздирающие стоны, которые были бы так естественны в ее положении. Горе ее ушло вглубь, натянуло до предела ее нервы, натянуло, как стальные струны, которые могли вот-вот лопнуть.
Жена священника держалась на редкость мужественно. Лузнин заметил, как с досадой морщилась она от истерического бабьего воя.
Марфа Петровна сразу догадалась, чего хотят от нее эти незнакомые люди, и кивнула головой в сторону ограды.
Все трое последовали за вдовой и оказались в небольшом садике. Лузнин объяснил, кто они такие и зачем пришли.
Марфа Петровна усадила их за столик, вкопанный в землю, на такие же, вкопанные в землю, скамейки и, сурово оглядев каждого из посетителей, глухим голосом сказала:
– Ну, что ж… спрашивайте.
И она рассказала довольно странную историю, в правдивости которой, однако, никто из них не усомнился.
…Отец Иосиф привык вставать рано. Чуть свет поднялся он и в это утро, когда солнце только-только взошло. Он пошел в огород, принес овощей к столу – батюшка любил сам приносить овощи с огорода – и собрался почитать в ожидании завтрака.
Потом они позавтракали. Отец Иосиф прилег отдохнуть после еды. Марфа Петровна вышла подышать воздухом. Утро выдалось на редкость благодатное. Она с детства очень любила утро, когда роса еще не сойдет с травы. До шестидесяти лет дожила, а пройтись по росе босыми ногами для нее истинное наслаждение.
Так поступила Марфа Петровна и на этот раз. И вдруг сзади ее кто-то ударил камнем по голове.
Когда она падала, мельком заметила соседского мальчонку, сына Делигова: мальчишка был очень доволен, что с одного броска угодил ей в голову. Он смеялся…
На какое-то время она потеряла сознание.
Очнувшись, Марфа Петровна увидела склонившегося над ней отца Иосифа. Это он привел ее в чувство. Муж спросил, кто ее ударил. Марфа Петровна ответила, что соседский мальчишка и, наверное, пробил ей голову.
…Марфа Петровна осторожно раскрыла голову, покрытую черным платком, и, наклонившись, показала рану, залепленную пластырем. Волосы вокруг раны были выстрижены.
– Кто вас осматривал? спросил Павел Иванович.
– Фельдшерица приходила из больницы. Она уколы делала мужу. Прибаливал отец Иосиф последнее время. Утром фельдшерица зашла со своей дочкой Светланой и перевязала – А что было дальше?
…А дальше события развертывались так.
Отец Иосиф помог жене встать, усадил ее на стул и бросился к мальчишке. Тот сидел на заборе и скалил зубы. Десятков стащил его оттуда, но мальчишка, не ожидавший неожиданного на себя нападения, слегка оцарапал себе руку, когда отбивался от мужа, – она видела это своими глазами.
Отец Иосиф повел мальчишку к соседу Делигову.
Марфа Петровна не знает, что случилось у Делиговых, только минут через десять отец Иосиф вернулся оттуда бледнее полотна. Он едва волочил ноги.
На лбу у него были крупные капли пота.
В то время, когда отец Иосиф ходил к соседу, пришла фельдшерица с дочерью, откуда-то узнавшая о ее ранении.
Когда эти женщины собирались уходить, вошел муле. Он по очереди обвел их мутным взглядом и сказал одну лишь фразу:
– Вы тут сидите, а меня чуть не убили, – и схватился за сердце.
Сердце у него и раньше пошаливало, поэтому отец Иосиф всегда наготове держал валидол. И на этот раз он успел принять лекарство, но как ни спешил, помочь себе был уже не в силах. Он вдруг как подкошенный упал в кресло. Фельдшерица с дочерью захлопотали, засуетились вокруг него, но все было напрасно. Пока Светлана бегала за скорой помощью, отца Иосифа не стало.
Марфа Петровна умолкла. Некоторое время она сидела в недвижимой позе, уставившись в одну точку бессмысленным взглядом. Молчали и трое ее слушателей.
Рассказ Марфы Петровны произвел на них сильное впечатление. На первый взгляд – случай самый обычный. Внешне все просто. Но Павла Ивановича все-таки не покидало тревожное чувство неудовлетворенности; даже не сразу и определишь, откуда это чувство.
Вывел Лузнина из задумчивости довольно сильный толчок в бок. Он с удивлением оглянулся. Соловейкин показал глазами на калитку. Около нее, наверное давно уже, стояла Павлина Афанасьевна. Ей, видимо, хотелось подойти к говорившим, но она не решалась. И только увидев, что ее заметили, она направилась к ним. Не обращая на троих мужчин внимания, маленькая женщина тронула Марфу Петровну за плечо.
– Хватит, хватит убиваться-то. Уж лучше поплачь, слезы-то омоют горе. Слышь, что говорю, матушка?
Марфа Петровна очнулась, с недоумением взглянула на Павлину Афанасьевну и спросила:
– Ты что-то сказала-?
– Каменная ты, что ли? Поплачь, говорю, легче станет.
Марфа Петровна вздохнула, но не ответила.
Павел Иванович, с удивлением наблюдавший за этой сценой, вдруг спросил:
– Не знаете ли, Марфа Петровна, кто такая Гунцева?
Вдова неохотно ответила:
– Есть тут одна церковная приживалка… – и запнулась. – При церкви она…
Руки у Марфы Петровны задрожали; дрогнули и плечи ее. Павлина Афанасьевна бросила на Лузнина осуждающий взгляд и сделала знак глазами:
«Хватит».
Павел Иванович покорился.








