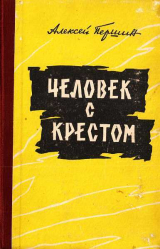
Текст книги "Человек с крестом"
Автор книги: Алексей Першин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)
Глава 3
Приключения Иванина
Священник Николай Иванин, посланный епархией вместо Афонина, был еще молод, ему, пожалуй, не было и тридцати пяти, Для солидности он отрастил могучую иссиня-черную бороду и пышнейшую, слегка вьющуюся шевелюру, на которой чудом держался головной убор.
Знакомство нового священника с настоятелем состоялось при весьма необычных обстоятельствах.
Проханов обсуждал с конюхом проблему, куда девать воз отборных антоновских яблок, по дешевке закупленных в одной из ближайших деревень. Надо их было мочить, но не оказалось свободной посудины: все двенадцать бочек были доверху забиты яблоками, капустой, огурцами, помидорами, грибами, арбузами. Конечно, на зиму хватит с лихвой, но нельзя же добру пропадать.
Как раз в эту минуту на хозяйственном дворе церкви и появился гость. Он ногой распахнул ворота и вошел, неся два огромных чемодана в руках. Подошел ближе, поставил чемоданы на землю и, по-свойски подмигнув конюху, раскатистым басом выпалил в затылок Проханову:
– Разрешите доложить, гражданин настоятель?
Проханов сначала с недоумением взглянул на конюха, у которого даже рот открылся от такого представления, потом медленно обернулся.
Перед ним стоял почти двухметрового роста детина, одетый в черную рясу. Опустив руки по швам, он смотрел веселыми, хитрыми глазами на настоятеля и ждал.
– Господи, прости мя и помилуй! – нахмурился Проханов. – Это что за явление?
– Рядовой священник Николай Иванин прибыл по указу и предписанию преосвященного епископа Никодима в ваше полное и единоначальное распоряжение.
Проханов не выдержал, рассмеялся; Не поп, а служивый. Да бравый какой!
– Много я видывал за свою жизнь, а вот такого не доводилось… Вы, почтеннейший, давно со службы?
– Никак нет, гражданин настоятель. А вообще порядочно.
– Это как же прикажете понимать? Давно или все-таки недавно?
– И давно и недавно. По-разному можно считать.
Проханов нахмурился.
Давайте, отец Николай, говорить по-человечески и без этих ваших «никак нет». Я в генералах не состою… – настоятель обернулся к конюху: – Вези, брата ко мне в дом, посоветуйся с Евдокией. Некогда мне возиться с ними.
Конюх развернулся и, все еще не отрывая взгляда от внушительного лица священника, стал усаживаться в телегу. Иванин скосил глаза на подводу, облюбовал крупное, цыплячьей желтизны яблоко, едва приметным движением руки схватил его и тут же опустил в карман. Проханов ничего не заметил, но конюх все видел. Новый священник подмигнул ему, и тот вдруг издал какие-то кудахтающие звуки, отдаленно напоминающие смех.
Проханов обернулся, но отец Николай уже сменил лукавое выражение лица на постное.
– Конюха вы, кажется, завоевали. Не так ли, отец Николай? – улыбнулся Проханов.
Иванин скромно пожал плечами, но не ответил.
– Присаживайтесь. Вот сюда. Побеседуем сидя, если не возражаете…
– Можно и сидя, – великодушно согласился Иванин. – Я по-всякому привык.
Они уселись на низкую скамейку, оправили рясы, помолчали.,
– Ну, что ж… Докладывайте, отец Николай. Я выражаюсь вашим языком, вы уж не обессудьте.
– Пожалуйста. Мне и рассказывать-то нечего. Окончил духовную семинарию и вот… прибыл к вам.
– Этот вопрос ясен. А как вы попали в семинарию? Расскажите мне о жизни вашей, ежели, конечно, вам угодно о ней рассказывать.
– А чего не угодно? Пожалуйста. Я, значит, родился в Одесской области, под Николаевом…
– Позвольте, где же точнее: в Одесской или в Николаевской области?
– Так это же сейчас Николаевская, а тогда Одесская была. Родители у меня крестьяне, сам я работал трактористом в колхозе, а потом меня в армию призвали. Год прослужил, ну и… неприятность случилась.
– Это какая же неприятность? – насторожился отец Василий.
– Ну… видите ли, самоволка; выпили е дружками… Так, знаете, самую малость.
– И что же?
– Так судили меня. Два года, будь здоров, живи богато.
– Отсидели?
– А как же… Сидел как миленький.
– Так, так. А дальше как жили?
– Ну… отпустили, когда срок кончился. Потом я подался в семинарию.
– Так сразу и в семинарию?
– А куда еще? – удивился отец Николай. – В институт бы меня не-приняли.
– Весьма логично…
Проханов помолчал, а потом, бросив косой взгляд на младшего своего коллегу, – спросил приглушенным голосом:
– Давайте на полную откровенность, отец Николай. Ваша неприятность выглядит весьма невинно. А так ли это?
– Ну, что вы, батюшка! – отец Николай даже руками всплеснул возмущенно. – Как так можно!.. Вот вам крест святой, – и он истово перекрестился, глядя на церковь.
Однако Иванин кривил душой, заверяя, что судим за самовольную отлучку. Он говорил правду только в том отношении, что, действительно, после окончания школы был призван в армию. Служить пришлось в Одессе, но эта служба не нравилась Николаю. Баловень семьи, «сметанник», он привык к постоянному вниманию, а тут он из нарядов не выходил за проступки, не совместимые с воинским уставом. Всем он должен подчиняться, а подчиняться Иванин не любил. Друзей в части он не нашел, зато они нашлись в биндюжных закоулках. Его друзья оказались мастерами на все руки, но особенно виртуозно они проявили себя по части мошенничества. В этом искусстве они достигли почти совершенства.
После окончания службы Николай не уехал в колхоз, а остался в городе, где цветут каштаны, где море синеё-синее, хоть оно и зовется Черным, где даже чайки умеют петь под гитару. Николай Иванин рассуждал просто, зачем ему возвращаться в колхоз и «вкалывать» трактористом, когда он тысчонку-другую может приобрести запросто, как говорится, за здорово живешь, тем более, что у него появились такие «братишки», которым море по колено.
Неделю после демобилизации Николай провел у одного из давних своих друзей, с которым познакомился еще солдатом. Звали его Стивой. Николая он привлек усиками, тонкими, как ниточка. Будто кто-то обвел его губы густым черным карандашом. У Стивы было все особенное. Курил он мастерски; сигарета словно приклеивалась к краешкам губ и могла в один момент перелетать из одного края рта в-другой.
А плевал Стива как! Метров на десять от себя попадал точно в круг диаметром в каких-то полметра. И пел Стива на манер Козловского, и танцевал он, и гитарист был первоклассный, уж не говоря о том, как разговаривал с девушками.
Правда, Стива нигде не работал, но жил припеваючи. Денег всегда полно у него, насчет выпить в любое время дня и ночи «пожалуйте», и ходил Стива во всем с иголочки.
Николай, конечно, понимал, что деньги с неба не сыплются, их откуда-то достают, и он выразил желание обучиться искусству легкого приобретения «презренного металла», как восхитительно, «с настоящим парижским прононсом» говорил Стива.
Стива по-приятельски хлопнул по плечу Иванина.
– Быть тебе, Николай, первым из первейших при таком учителе.
Первое «дело», на которое самостоятельно вышел Иванин, было, с точки зрения Стивы, сущей пустяковиной.
…У входа в кассовый зал стоит юноша. Он сжимает в потной руке две или три сторублевки и с отчаянием смотрит на закрытые окошки касс. Диктор объявляет о прибытии поезда «Одесса – Москва».
К юноше подходит высокий широкоплечий человек в полувоенной форме, строго смотрит на страдальца и еще строже спрашивает:
– Пач-чему маладой челавек нос повесил?
Спрашивает строго, а большие черные глаза смеются: не робей, малец! Иль не видишь, что шучу?
– Билет не можу достаты.
– Шось теке? Не гарно… А куды хлопче нде?
– Да у Харькив…
– Так и я же в Харькив. Ну, хлопче, пидвезло тоби. Ладно, можу помогнуть. Тилько так. Двадцать карбованцев за подмогу…
Хлопец не верит в удачу. Но двадцать рублей все-таки жалко. Он торгуется. Сошлись на пятнадцати.
Веселый попутчик устремляется в толпу, бежит к своему хорошему знакомому в кассу за билетом, а хлопец в струну вытянулся, ждет. И вдруг попутчик возвращается.
– А гроши, гроши-то!..
Ну, надо же! О деньгах хлопец и забыл. Берите! Только скорее, поезд подходит…
Попутчик идет прямо в святая святых… Хлопец не знает, что сразу за кассами есть проход, через который и выходит Николай. За пять минут – две с половиной сотни.
«Что ж, и это неплохо», – подбадривает он себя.
Двумя часами позже был пир горой по случаю боевого крещения «младенца» Иванина в полноценного мошенника.
Но особенно запомнилась Николаю «классическая» и, кстати сказать, последняя комбинация.
…На углу улиц, недалеко от порта, где низким мощным басом ревет корабль, стоит «иностранец» – Николай Иванин.
По улице идет не старый человек, во все глаза смотрят на море, на заморские корабли и насмотреться не может.
– Мсье! Синьор! Мистер! – умоляюще произносит «иностранец» на сквернейшем русском языке. – Просим, синьор, помогайт…
Выясняется, что «иностранец» попал в весьма затруднительное положение и хотел бы продать перстень. Алмаз, правда, не очень крупный, однако ж…
Прохожий – он был из Киева – ничего не понимает в драгоценностях. Да и зачем ему?
– Хотите десятку, нет – двадцать рублей… – добреет он. – Не надо мне вашего. Ни к чему оно… – и сует две десятки Иванину.
«Иностранец» возмущен…
О, нет! Синьор напрасно принимает его за нищего. Подаяние он не может принять. Он хочет Просить политического убежища «в Советах», но ему надо расплатиться с командой и чтоб себе осталось. Нет, пусть синьор его не обижает, он не возьмет ни пессо…
Это «пессо» с шикарным произношением «иностранца» Иванина заставляет киевлянина заколебаться. А тут еще подходит элегантно одетая молодая женщина, вмешивается в разговор, сочувствует.
– Надо помочь. Как-никак, гость. Есть у меня знакомый ювелир. Пройдемте к нему, он оценит, скажет – сколько. И вообще… Специалист все же.
Владелец перстня остается на месте: ему неудобно, он в чужой стране, пусть его правильно поймут.
Ювелир живет неподалеку. Они встречаются с ним совершенно «случайно» на лестнице. Ювелир спешит на работу после обеденного перерыва. Его ждет такси, они, наверное, заметили у подъезда.
– Давид Самуилыч! Товарищ Маркензон, прошу вас, оцените, – молодая женщина смущенно протягивает перстень. – Вещь случайная, кто его знает…
«Ювелир», и он же по совместительству Стива, смотрит сквозь очки, поднимает их на лоб и даже вскрикивает изумленно, но, спохватившись, сухо говорит:
– Могу купить, если хотите продать…
– Понимаете, надо не совсем удобно. Скажите, скользко… Во что оцениваете?
«Ювелир» мнется. Он бы дал восемь тысяч.
– Восемь тысяч! – женщина, кажется, ушам своим не верит. – Вы можете подождать?
Нет, Давид Самуилович ждать, к сожалению, не имеет времени. Но молодая женщина умоляет: «Пожалуйста!»
Ладно, он подождет, но десять минут, не больше…
Молодая женщина и киевлянин почти бегут. «Иностранец» изображает крайнее волнение. Его спрашивают: согласен ли он уступить за восемь тысяч?
– О, конечно! – руки «иностранца» Иванина чайкой взлетают: за кого они его принимают? Больше того, он берет пять тысяч, а три тысячи им «за услуги». Нет, нет, иначе он не согласен.
«Иностранец» снова остается на углу. Когда его добрые помощники поворачиваются, чтобы уйти, «чужестранец» смущенно говорит: пусть ему дадут что-нибудь взамен, все-таки ценная вещь…
Молодая женщина вспыхивает от смущения. О, пожалуйста! Дама отдает золотые часы, сумочку, а киевлянин хмуро сует бумажник.
– Здесь ровно три тысячи!
Его «доброжелатели» бегут к ювелиру. У мужчины сосет под ложечкой: ох, как бы не влипнуть!
Те же мысли и у дамы. Она останавливается. Все-таки нельзя так легкомысленно доверяться. Она подает киевлянину перстень и говорит, что вернется к «иностранцу»: все-таки береженого бог бережет.
Мужчина вздыхает с облегчением. Хорошо. Пусть она возвратится, а он мигом.
Он вбегает в подъезд, мчится наверх, перескакивая, через две ступени, но «ювелира» нет.
Что такое? Неужели прошло больше десяти минут? Ну, конечно. Ровно двенадцать. Досадно.
Он возвращается назад, но «иностранец» и молодая женщина исчезли; их и след простыл.
Долго еще соображает киевлянин, что произошло, пока до него не доходит: провели, обманули, подло сыграли на его добродушии и доверчивости.
И все-таки правда торжествует. Киевлянин развил бурную деятельность. Одесская милиция задержала молодую даму, а через нее добрались и до «иностранца» Иванина с «ювелиром» Стивой.
Два года за такую комбинацию – сущие пустяки. Но они показались Николаю Иванину очень долгими. Было над чем поразмыслить за это время. Теперь уж истинным благом ему казалась работа тракториста. Он часто вспоминал родные места, милую Софиевку, чудесный Буг. А потом память воскрешала картину ночного поля, ровный гул мотора, черное небо" с острыми, как иглы, веселыми звездами, наваристый кулеш, печеную картошку, ночевки в стогу сена под тем же небом и Галю, Галочку, Галчонка с горячими, влажными губами…
Да, Николай искренне каялся. Он твердо решил: на «формазонах» – крест, но и к Галочке путь отрезан.
Решил идти в институт. Аттестат у него «мировой», всего три четверки. Остальные – пять, пять, пять. Не шутка! Конечно, биография «не того», но неужели его не поймут?
Однако на экзаменах он не набрал проходного балла. Даже кандидатом его не приняли.
Отчаяние Иванина было столь бурным, что он решил покончить с этим миром, в котором его не поняли. Но не так-то легко лишить себя жизни. Он прыгнул с обрыва в море, забыв, что умеет плавать. Глотать горько-соленую противную воду ему не понравилось, и он сильными взмахами рук направил свое непокорное тело к берегу.
Жизнь on себе спас, но рана в душе кровоточила. К Галочке поехать не хватило смелости, а трусость привела его в такое место, куда он не думал, не гадал, а все-таки попал.
Денег после заключения было немного, они довольно скоро кончились. Работу найти Николай не мог: с бывшим мошенником никто всерьез даже разговаривать не хотел. Николай несколько дней-все туже и туже затягивал живот. К чести его будь сказано, он не украл ни крошки, хотя искушение было велико.
В эти дни и произошла у Николая встреча, которая имела удивительные последствия. Он случайно познакомился – со священником, которому неожиданно поведал все.
Священник пригрел, приютил его, а потом дал возможность самостоятельно зарабатывать кусок хлеба. Николай сначала «чернорабочил», а потом ему доверили машину.
Около двух лет он возил «святого отца», жил припеваючи и уже успел забыть Галочку-Галчонка, черное небо, осыпанное блестками звезд, мирный рокот тракторного мотора и запах сена на лугу.
А потом Николай обзавелся женой. Попал он в удивительно набожную семью. Ему стали нашептывать: хорошо бы пойти по духовной линии. Сытная, спокойная жизнь, ни тебе волнений, ни тревог, живи – кум королю, сват министру и сыром в масле катайся. Только молодой супруг отказывался.
А потом Николая нежданно-негаданно захотел видеть сам епископ. Они долго говорили по душам. Преосвященный обласкал молодого мужа и предложил пойти к нему работать.
Николай охотно пересел с «победы» на ЗИМ. Почти вдвое увеличился и оклад. '
Разговоры между тем повторялись и становились все более задушевными. Кончились они тем, что Николай Иванин с личной рекомендацией епископа был направлен в Загорск, где и закончил духовную семинарию.
С первого же дня Проханов невзлюбил молодого священника. Фанфарон какой-то! Нет у него прилежания.
Но удивительное Дело – он видел, что Иванин довольно быстро завоевывает популярность среди прихожан и особенно прихожанок. И нравилось им как раз то самое фанфаронство. И прозвали его как-то странно: «вороной».
Служил новый священник с лихостью отменной, и, что особенно неприятно поразило Проханова, в дни, когда служил Иванин, собиралось куда больше прихожан, чем у него, настоятеля.
Соразмерно этому возрастали и доходы Иванина. За год он сумел приобрести дом, а на другой год купил машину. Случилось это-в отсутствие Проханова. Иванин проделал какую-то сложную махинацию е церковной кассе, ловко обвел вокруг пальца членов двадцатки, и в результате в его руках оказалась довольно значительная сумма..
На следующий день он набил чемодан деньгами, нырнул в одну сторону, в другую, откуда-то пригнал грузовую машину, прицепил к ней «победу», ни весть откуда взявшуюся, и куда-то угнал ее. Ровно через месяц отец Николай получил новенькую машину, блиставшую свежей краской.
«Как это произошло, что он делал и с кем – одному богу известно», – разводили потом руками члены двадцати^
Когда молодого священника спросили, каким образом удалось ему обзавестись новой «победой», Иванин загадочно ответил:
– Ловкость рук…
Иванин сам водил машину. И вообще устроился молодой священник основательно. Жена его, полная, дебелая, родила ему Двоих сыновей.
В доме разворотливого семьянина появилась вполне приличная обстановка: ковры, дорогая мебель, посуда. Особенно много разговоров вызвал роскошный радиоприемник.
На Иванина поступила жалоба, что он живет разгульно, слушает радио, ходит в кино.
Из епархии приехал благочинный, лицо инспектирующее, которому молодой священник заявил, что он совсем не намерен гробить свою молодую жизнь, а если его хотят уволить за штат – он ничуть не опечалится: завтра же станет трактористом или шофером, и, будьте покойны.
И ничего не потеряет. А вот ежели потом подсчитать убытки церкви после письма в редакцию какой-нибудь из газет, то они кое-кого недосчитаются.
Вообще Иванин не советовал благочинному о чем-нибудь докладывать епископу, потому что лично он, благочинный, вот где у него сидит. Иванин показал довольно увесистый кулак, покрытый густой черной порослью. Молодой священник покрутил им перед ошеломленным гостем, а потом наклонился к нему и что-то прошептал ему на ухо.
Лицо гостя стало медленно бледнеть, а на большом, изрезанном крупными морщинами лбу выступили бисеринки пота.
– Сын… сын мой, не губи! – благочинный приложил руку к груди.
– Упаси меня более! – У молодого священника округлились глаза. – Ни-ни-ни…
– И не один я поступил так, сын мой.
– Конечно, не один, – миролюбиво согласился Иванин. – Все мы одним миром мазаны…
Благочинный испуганно закрестился, стал озираться вокруг и хотел тут же убраться восвояси, но Иванин возмущенно замахал руками: как можно?
Всю ночь напролет, Иванин и благочинный звенели рюмками, клялись в вечной любви и пели псалмы.
Благочинный выехал в епархию только на третьи сутки.
Глава 4
«Богомаз»
Всего этого настоятель Петровского собора не знал. Он был в отъезде. Последнее время стали его одолевать тяжкие думы: никого он не оставит после себя, никто не пойдет по его стопам, не завершит дела, им начатого.
Он твердо решил: надо взять кого-нибудь на попечение и сделать из него человека, по собственному духу своему и разумению на самого отца Василия схожего.
Эти мысли овладели Прохановым особенно после одного случая, чрезвычайно его обрадовавшего.
Евдокия, прочно воцарившаяся в доме после Маргариты, однажды рассказала ему, что в районе объявился человек, который скупал старые иконы, реставрировал их, выгодно перепродавал и тем жил.
Что за Человек такой?
Проханов бросил на поиски этого иконолюбителя всех членов двадцатки. Искали его по селам и деревням, а он, оказывается, жил почти рядом с домом настоятеля и работал инспектором в райфо.
Но как с этим человеком познакомиться? Настоятелю издали показали Константина Обрывкова – так звали иконолюбителя. Высокий, бледный, худой, глаза ушли куда-то вглубь. Было такое впечатление, что Обрывков смотрит на тебя и тебя совершенно не видит. Очень сосредоточенный, в себя углубленный, будто сам к себе же прислушивается. Обрывков носил длинные волосы. Они делали его похожим на богослова-семинариста давних, но хорошо памятных Проханову времен.
Познакомились они довольно просто: через своего человека Проханов послал инспектору Госстраха записку, в которой настоятельно просил его пожаловать к нему, священнику Проханову, на дом, так как он сам по причине старости прийти к нему не может. Он, Проханов, желает застраховать свою жизнь и убедительно просит не отказать ему в этом его желании.
Обрывков явился точно в назначенное время. Он не спеша вошел в комнату, молча огляделся и невнятно сказал:
– Здравствуйте.
– Здравствуй, здравствуй, сын мой, – двинулся ему навстречу Проханов и вдруг остановился, качнулся и схватился рукой за сердце.
Да неужто тот самый?
А Костя стоял молчаливый, равнодушный, ничем не давая понять, что узнал его.
Еще бы не узнать! Именно из-за него-то все и началось…
Когда Нина рассказала своей бабке о намерениях Кости «заступиться» за Проханова, бабка не осталась в долгу.
Для Кости настала сытная и вольготная жизнь.
Нина приходила в госпиталь теперь каждый день, притом не с пустыми руками. Раньше она приносила только цветы, а теперь в придачу к цветам начали появляться пироги. Бабка работала в пекарне. В голодные военные годы после оккупации пекарня считалась золотым дном. А бабка не из тех, кто теряется.
Костя поправлялся медленно. Рука его зажила быстро, а с ногой было худо. Два раза хирургам пришлось ломать ее заново…
Скучно лежать было с подвешенной ногой. Костя решил заняться портретом Нины. Как-то так уж случилось, что ом вспомнил о давно забытом. Костя хорошо рисовал.
В детские годы Костя отличался редкой для его лет нелюдимостью. Болезненный и слабый физически, он все время дичился своих сверстников. Его дразнили, иногда колотили – мальчишки признают силу и терпеть не могут слабых, несчастных. Поэтому Обрывков еще, с детства привык к одиночеству. А потом он пристрастился к чтению.
Но в деревне, в которой вырос Обрывков, не было ни электрического света, ни радио, ни библиотеки. У матери от родителей осталось много религиозных книг. Сама она их не читала, и они долго лежали в чулане среди разной рухляди. Здесь-то их и отыскал Костя.
Читал он все подряд. Библейская фантастика увлекла его, как увлекает ребенка сказочный мир.
А потом у Кости открылась страсть к рисованию. Сначала цветными карандашами, потом акварелью, а позже и маслом.
Первым серьезным рисунком Обрывкова была их деревенская церквушка, служившая в то время складом для зерна.
За этим рисунком последовала целая серия с сюжетами, навеянными библией. Мать потихоньку стала показывать их соседям.
По деревне поплыл слух, что у Обрывковых «Костя-то святой». Так к нему и приросла эта кличка.
Как ни странно, Обрывков не стал верующим, хотя мать его приложила к тому немало усилий. Почему так случилось – не мог объяснить и сам Костя.
В школе заметили способность мальчика к рисованию, но вся беда была в том, что Обрывков хотел создавать картины только на библейские сюжеты. Учителя не сумели сломить его упрямство, заинтересовать другими темами, увлечь его. Действовали они прямо: не смей рисовать то-то, а рисуй вот это. Он, разумеется, «вот это»
рисовал, но кое-как, наспех, зато всю душу вкладывал в «свою» работу во внеурочное время.
И в техникуме Обрывков был одинок. Особенно он замкнулся в себе после того, как его не приняли в комсомол. Костя сам подал заявление, благополучно прошел комитет, а на собрании случился конфуз. Когда очередь дошла до Обрывкова, кто-то из остряков присвистнул от удивления.
– В комсомол такого иисусика?
Хохот глыбой обрушился на Обрывкова. Он вскочил и, как затравленный, стал озираться. Хохот усилился. Не замечая катившихся слез, Костя с трудом выбрался из зала и бросился бежать.
Три дня его не было в техникуме.
Потом Обрывкова вызвал директор, человек сухой и черствый, не понимавший, да и не желавший понимать, что творилось с юношей. Перед Обрывковым был поставлен вопрос прямо: или он бросит «всю эту божественную муть», или его придется исключить как неуспевающего. Обрывков смотрел на директора исподлобья и шумно дышал.
Так и ушел студент из кабинета, не промолвив ни слова.
Через неделю был подписан приказ об исключении Обрывкова из техникума за «срыв учебной программы и упорное нежелание подчиниться требованиям педагогического коллектива».
Исчез Обрывков из техникума, никем не замеченный.
И вдруг война. Через два месяца Костя был уже около линии фронта. Обрывков даже думать не хотел о возвращении домой. Как можно! Такой позор…
Глубоко раненное самолюбие и желание доказать, что и он кое-чего стоит, и привели Костю на фронт.
Получилось так, что немецкие дивизии обошли участок фронта, где воевал Обрывков.
Костя жаждал героических сражений, а попал в какую-то невообразимую кашу, в которой так и не понял, где был фронт, а где тыл. А когда он наконец разобрался, фронт был далеко впереди.
В лесу он встретил бородатого человека с небольшим отрядом хорошо вооруженных людей, одетых в гражданскую форму, и вскоре Костя вместе с вышедшими из окружения красноармейцами превратился в партизана.
Воевал Обрывков, как и его товарищи, храбро. Его наградили медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу», а потом и орденом Красной Звезды.
Однажды Костя участвовал в нападении на поезд, в котором отправляли молодежь в Германию. Партизаны уничтожили охрану, освободили заключенных и увели их в лес. В завязавшейся перестрелке была ранена девушка. Костя вперемежку с Болвачевым нес ее на себе.
Нина довольно долго находилась в партизанском отряде, опасаясь возвращения в Петровск, чтобы снова не оказаться насильно угнанной в Германию. Была и другая причина. Она влюбилась в своего спасителя – Костю.
Когда Петровск освободили, Нина вернулась домой.
…Портрет Нины был готов через две недели. Но какой портрет! Девушку он сделал ангелом.
Косте даже в голову не могло прийти, что он оттолкнет от себя Нину этой картиной.
В глазах Нины Костя был героем. Две медали, орден, жизнь в лесах, полная опасностей. И вдруг этот герой – верующий. Точь-в-точь, как ее богомольная бабка. Она не знала, что Костя далек от религии – так же как и она сама.
Она схватила рисунок, торопливо свернула его в трубку и заспешила из палаты. Дома Нина плакала.
И тут она припомнила: вот почему он не вступил в комсомол. Сколько Нина его ни спрашивала, почему он не комсомолец, Костя хмурился, пожимал плечами и отделывался ничего не значащими фразами. Значит он лгал…
С той поры и пошла на убыль любовь Нины.
Теперь бабка, а не внучка ходила в госпиталь. Когда Костя выписался, между ним и Ниной все было кончено.
Из госпиталя он выписался с белым билетом – с ногой у него было скверно. Кость срослась плохо, он хромал. Хромота, правда, небольшая, но для его больного самолюбия это была новая травма.
Мать Обрывкова к тому времени перебралась в Петровск, к своему второму мужу. Но и второй муж прожил недолго. Родственники через суд отобрали у нее домишко, оставив ей небольшую холодную пристройку, в которой было можно жить только летом.
Пришлось кое-как утеплять жилище.
Обрывков специальности не приобрел. За эти годы где он только ни работал: билетер в кинотеатре, счетовод в Заготзерно, рабочий в бензоскладе, плакатист на окладе уборщицы в парке культуры и отдыха, продавец в книготорге и, наконец, инспектор Госстраха,








