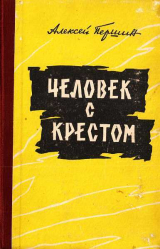
Текст книги "Человек с крестом"
Автор книги: Алексей Першин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 20 страниц)
Глава 7
Десятков борется
После всех этих бурных событий кончилась для Проханова полоса удач.
Как только отбыл из Петровска Иванин, столь симпатичный церковному конюху и прихожанам священник по прозвищу «вороной», в город прибыл «почтенный старец отец Иосиф». Создавалось впечатление, что отец Иосиф сидел на чемоданах и специально ждал, когда уберется из Петровского собора Иванин.
Священнику Десяткову в то время сравнялось уже семьдесят лет. Был он высок ростом, худ и бел, будто его всю жизнь стирали и выбеливали. Всем он понравился тихой ласковостью и личной неприхотливостью. Веселый балагур и в то же время мягкий, приятный собеседник. Правда, на него порой нападал буйный «стих», но, по словам Марфы Петровны, «время громыхания» длилось у него не слишком долго. В минуты «громыхания» он был шумлив и упрям, но потом внезапно стихал и становился ясен и прозрачен, как его синие глаза, улыбчивые, с мягкой смешинкой и очень к себе располагающие.
Замечены были и странности. Служил новый священник как-то небрежно, будто шутя, и всегда спешил. А потом уж совсем непонятное произошло. Как-то к нему явилась старушка с довольно взрослой внучкой, учившейся не то во втором, не то в третьем классе, и попросила окрестить девочку.
Священник обратил внимание на ее заплаканные глаза.
– Отчего же это мы плачем? – он смахнул слезу с ее бледной щеки. – Так как же? – мягко повторил он свой вопрос.
Девочка, насупившись, молчала.
Старушка злобно дернула за руку внучку.
– Чего молчишь? Отвечай батюшке…
– Не надо, не надо так. Она же дитя, – остановил священник старушку.
– Учить их, нехристей, надо. Сей минут целуй батюшке руку!
Десятков изменился в лице.
– Что вы делаете? Разве можно к этому приучать ребенка?
Старушка опешила.
– А как же, батюшка! Ведь смолоду нас этому учили…
– То вас учили, а сейчас другие времена, – и он снова обратился к девочке: – А ты сама-то хочешь креститься?
У девочки глаза наполнились слезами. Она молча отвернулась от священника.
– Эх, старая, старая! – Десятков вздохнул. – И сколько вас таких на свете?
Старуха совсем ничего не могла в толк взять.
– А ведь она большая, – укоризненным тоном продолжал Десятков. – Умишко-то еще малый у нее, да свой. Ты ее-то спросила?
– А как же, батюшка. Сказала ей, сказала. Только, вишь ты, не желает. Пионерка, говорит, нельзя ей, засмеют ее, дуру…
– Вот оно что! А галстук где? – обратился отец Иосиф к девочке.
Девочка расплакалась.
– У у нее. Она… она сорвала… Сорвала его. Грех, говорит… Дьявольские знаки ношу… А я… я не хочу… Не хочу крест носить Мальчишки меня дразнят, свистят на меня, за косу-у дергают. Не хочу я!
Она с неожиданной силой выдернула руку из скрюченных пальцев старухи.
– Вот что, старая. Неволить девочку не смей. Наш с тобой век прошел, куда ты ее тянешь? А галстук носи, носи, не бойся. – Он погладил девочку по голове.
С той поры среди паствы пополз слух, что к ним в церковь прислали какого-то странного попа.
О пересудах узнал наконец и настоятель. Он спросил Десяткова:
– Отец Иосиф, правду говорят, что будто вы не стали крестить эту девочку?
Десяткова ничуть не смутил этот вопрос. Было видно: он ожидал этого вопроса и готов ответить на него.
– Правда, отец Василий. И строго-настрого наказал глупой старухе, чтоб не смела неволить ни девочку, ни кого другого. Да и как можно иначе? Кулаком веру не вбивают. Уж не обессудьте, мнение мое твердое на этот счет.
Наступило молчание. Десятков с каким-то детским любопытством смотрел на настоятеля, ожидая, что он скажет в ответ. А тот тяжело дышал, смотрел куда-то в сторону и молчал.
Молчание затянулось. Разговор происходил во дворе, за церковной оградой. Они уютно уместились на скамейке под мощной шапкой тополя и почти касались плечами друг друга. Со стороны – мирно, тихо и ласково ведут беседу два престарелых священника, но ни тишины, ни мира не было в душах этих людей. Тревога и беспокойство прочно завладели обеими этими душами… Мир оставил эти души.
Отец Иосиф хотел уже встать, но чувство деликатности и почтения к старшему удержало его. Пришлось Десяткову терпеливо ждать.
Нарушил молчание Проханов.
– Да, отец Иосиф… Непонятный какой-то случай.
– А что ж его не понимать. Я действую согласно совести своей.
– Помилуйте, отец Иосиф! Сами-то вы в здравом уме?
– А как же. Рассудок мой ясен и здоров, хоть тело и дряхло. Годы, годы, отец Василий, что поделаешь?..
– Ах, оставьте, прошу вас. Как вы не понимаете: если мы будем так действовать и дальше – останемся без прихода. Куска хлеба некому будет подать.
– Ну, отец мой, я так не думаю. На наш с вами век хлеба хватит. И чего уж греха таить, не только ведь хлебом насущным питаемся.
– Жаловаться пока не приходится, живем безбедно, только надолго ли?
– Вот и я о том же думаю. Долго ли будет терпеть нас с вами государство наше?
Проханов резко выпрямился.
– Вы это о чем?
– О нас с вами, отец мой.
– В каком это смысле?
– Да в самом прямом. В самом что ни на есть прямом. Мы с вами стоим поперек пути людского…
Проханов тяжелым, пристальным взглядом окинул суховатую, согбенную фигуру Десяткова.
– Отец Иосиф! Вы верите в дело, которому служите?
Десятков встрепенулся, оживился, но, взглянув на собеседника, как-то сразу потух.
– Позвольте и мне спросить вас, отец Василий. Этот вопрос задан с намерением сообщить мой ответ епископу?
– У меня от владыки секретов нет. Да и как иначе? Вы меня должны понять, почтеннейший отец Иосиф…
– Конечно, конечно, – миролюбиво произнес Десятков. – Вы настоятель. Я тому не судья. А ежели ответить прямо на ваш вопрос, отец мой, то… Нет, не верю. И давно уже не верю.
Проханов драматично схватился за грудь.
– Так какого же вы?!. – он перекрестился. – Прости мою душу грешную.
– Я понимаю, понимаю, отец мой. Вы хотите спросить, зачем же я в церкви? А я отвечу. Уж лучше я, чем какой-нибудь фанатик бездумный:
– Но почему?! Господи боже мой! Вот не думал, не думал вести такой разговор на старости лет.
– От меня вреда людям меньше. Нет-нет и удержу кой-кого от трясины. Направлю на путь истинный…
Проханов снова перекрестился и сурово спросил:
– А что вы называете путем истинным?
– Путей истинных много, отец мой, кому какой посоветуешь. А ежели молодой запутался, так я на школу ему указую перстом. Пусть себе учится, ума набирается. Зачем ему церковь? Она для старушек, пусть они к нам ходят, если нет другой утехи. Так-то вот, полагаю, лучше будет. Блюду человеческую совесть, отец Василий. Блюду и блюсти буду.
Проханов смотрел на Десяткова широко раскрытыми глазами. Никогда еще в своей жизни он не был так изумлен. Да разве о таких вещах говорят? Мало ли что в голову не приходит. Нельзя так откровенничать в его положении.
Десятков вздохнул, потом стряхнул невидимые пылинки со своей рясы.
– Уж вы, голубчик, не сердитесь на меня. И позвольте задать и мне вопрос.
– Я слушаю…
– А вы сами, отец Василий… Верите ли вы во всевышнего?
– Вы шутить изволите?
Проханов попытался улыбнуться, но чистые, будто дождем вымытые глаза отца Иосифа смотрели на него так проницательно и понимающе, что улыбка не получилась.
– Боже меня избавь! – как-то даже испуганно заверил его Десятков. – Как можно! Совсем не хочу шутить на столь важную для нас обоих тему.
– Ну что ж, отвечу. Верю в господа бога нашего, верю в его всемогущество, верю в начало и конец света. Верю, потому и служу.
– Вот как! – Десятков покачал головой. – А я, отец мой, совсем другое слышал от протоиерея Кутакова.
Вот оно! Проханов почувствовал, что задыхается. Он так качнулся, что отец Иосиф, охнув от неожиданности, ухватил его за плечи.
– Батюшка! Отец Василий! Да что, что такое с вами?
Проханов резко освободил плечи от рук Десяткова. Решительно поднялся и, стоя, спросил в упор:
– Откуда вы знаете отца Александра?
– Как откуда, отец мой? Оттуда же, откуда и вы… В лютую годину отец Александр предлагал мне приход, только я отказался.
– Ну и что?
– Все, отец мой. Кутаков много раз говорил со мной, советовался, грозил даже, что немцы расстрелять меня могут. А я согласился: пусть стреляют, только служить им я отказался. Мне терять было нечего, я свое отжил.
– Это меня не касается, – резко оборвал Десяткова Проханов и, потеряв осторожность, со страхом и нетерпением спросил: – Обо мне, обо мне он что рассказывал?..
Десятков смутился. Врать он не умел, а правду сказать не решался. И он уклонился от ответа.
– Ничего особого. Рассказывал о душевных муках ваших.
– Ну, ну? Говорите! Что вы… будто рукав жуете!
– Не надо со мной так разговаривать, отец мой. Я ведь постарше вас…
– Но я хочу знать, что конкретно рассказывал вам отец Александр.
Десятков искренне огорчился; он сожалел уже, что затеял этот разговор.
– Ну, ладно. Скажу. Он был уверен, что вы, отец мой, безбожник Только запутались, закрутились, ошибок наделали. Я, если уж говорить откровенно, надеялся найти в вас единомышленника, а вот поди ж ты… значит, я ошибся.
Огромным усилием, воли Проханов заставил себя сесть и горестно склонить на руки свою седую голову. Не так уж глуп и наивен этот старец. Этот человек просто опасен.
Все это вихрем пронеслось в воспаленном мозгу Проханова.
Он мучительно искал выхода из ужасного положения, в котором оказался, и не находил его.
Между тем эту наигранную позу, которую он принял помимо своей воли, подсказал ему не ум, а инстинкт самосохранения.
И как ни странно, эта его поза помогла.
Десятков по простодушию своему принял искусственный жест за настоящее глубокое отчаяние. Ему стало жаль настоятеля, захотелось помочь этому человеку.
– Не убивайтесь, не убивайтесь, отец мой. Никто не огражден от ошибок. Мы их много совершаем, на то мы и люди. Возьмите себя в руки, и все будет хорошо. И я был когда-то в отчаянии. Горько сознавать, что жизнь свою прожил впустую. Я ведь ничего не умею делать. Ничего. Хоть и не верю ни в бога, ни в черта, ни в рай, ни в ад, а вот служу. Надо же чем-то кусок хлеба заработать, себя кормить, супругу свою. Просить пенсии у государства не имею права, ничего хорошего ему не сделал. Идти за штат, хлопотать через епархию… Нет. Не хочется. Решил до конца тянуть, пока не свалюсь. А жить мне осталось недолго. Сердце мое совсем поизносилось, отец мой. Вот так-то.
Десятков мягким отеческим жестом погладил рукой по плечу Проханова и вдруг заметил, как оно задрожало под его сухой старческой ладонью.
Проханов стремительно вскочил и, отворачивая лицо от жалостливого своего собеседник;), бросился вон из церковкой ограды.
Он задыхался от бессильной злобы, а совсем не от слез.
Но в глубине души Проханов был доволен, что так ловко выкрутился из глупейшего положения, в которое попал по собственной вине. На кой черт надо было лезть с откровенным разговором.
Впрочем, нет худа без добра. Не случись этого разговора, он бы не знал, что рядом с ним живет опаснейший для него человек. Правда, он и не подумает на него доносить, не таков отец Иосиф, но именно в силу своего характера он может проболтаться, невольно выдать его хотя бы через ту же супругу.
Супругу? А может, она давно уже знает все? Ведь такой человек, как Десятков, не станет таиться. Он может облегчить душу и рассказать близкому человеку, что его гнетет и мучит.
Но что же теперь делать? Может быть, Десяткову выхлопотать в епархии пенсию? Сослаться на его здоровье, на слабое сердце, наконец на преклонные лета его.
Это была отличная мысль. С плеч Проханова будто камень тяжкий свалился. Если удастся вырвать для него пенсию – это будет просто великолепно. Пусть уезжает подальше отсюда. У него, кажется, где-то есть собственный дом. Ну да, немцы, как помнится, арестовали его в собственном доме.
Но кто бы мог знать, что тог дерзкий человек, о котором Проханову рассказывали, и этот простодушный старец – одно и то же лицо.
Десятков и раньше среди паствы слыл чудаком, потому что служил в церкви спустя рукава, но после Октябрьской революции Десяткова будто подменили. Он выступал на собраниях, кричал вместе со всеми на митингах «Долой живоглотов!», ратовал за коммунию, с пеной у рта защищал бедноту и вообще «был самый необыкновенный поп из всех попов в мире» – как сказал о нем матрос, которого судьба забросила с Балтики за тысячу километров от моря и сделала предводителем революционной бедноты в уезде.
В Десяткова три раза стреляли из-за угла кулаки, ранили его, два раза горел его дом. От бандитской пули погиб сын Десяткова, один из организаторов коммуны.
Словом, у Десяткова были определенные заслуги перед народом, который строил новую жизнь. Но, как это ни странно, он не прекращал службы в церкви.
Воинственный и живой на людях, отец Иосиф был «смирной овечкой» дома. Полвека прожил он с Марфой Петровной, но не было, пожалуй, более разных людей, чем супруги Десятковы. Решительная, властная, но по-своему добрая, Марфа Петровна почти всегда действовала самостоятельно.
За долгую жизнь с отцом Иосифом Марфа Петровна слишком хорошо изучила мужа, знала его доброту и простодушие, от которых он сам же и страдал. Со своим «слезным», как матушка звала мужа, она натерпелась муки особенно во времена, когда патриарх Тихон не захотел признать советской власти и призывал духовенство активно выступить против «супостатов-большевиков».
Что с «им творилось в те годы! Отец Иосиф, при всем своем добродушии, всерьез вознамерился пробраться к взбунтовавшемуся патриарху и лично уничтожить его. И если бы не болезнь, надолго свалившая отца Иосифа, кто знает, чем бы все это кончилось. Он навзрыд плакал оттого, что был бессилен вмешаться в борьбу. Именно в эту пору Десятков и отошел окончательно от догм православной церкви.
Но вся трагедия была в том, что сама-то Марфа Петровна верила в бога, была всю жизнь очень набожной, а к старости тем более. Она и замуж-то вышла за Десяткова потому, что он был священник. Правда, отец Иосиф происходил из бедной крестьянской семьи и чудом выбился из своей среды. Зато Марфа Петровна вышла из семьи купеческой, состоятельной. И трудно передать, что было с нею, когда она узнала, что ее муж, «слуга господень», сам заявлял, что нет никакого бога на небесах, что все это обман, от которого люди потом будут столетиями ходить красными от стыда и собственной глупости.
Когда началась война, Десятков отправился в военкомат с просьбой послать его на фронт. Работники, ведающие мобилизацией, решительно не знали, что с ним делать, и, наконец, отказали. Десятков стар был, к тому же у него давно болело сердце, но сейчас это его не останавливало. На его счастье в тот же день он встретился с заместителем председателя райисполкома, который знал его еще по бурному времени двадцатых годов.
Выслушав Десяткова, он сказал:
– Ладно. Оставайтесь здесь, отец. Если понадобитесь, мы вас разыщем. Но никакой самодеятельности, а то я вас знаю… Договорились?
А потом пришли фашисты. Марфа Петровна еще загодя предлагала мужу перебраться к дочери в Казахстан. Но он наотрез отказался уезжать куда бы то ни было.
Некоторое время Десятков не прекращал службы в церкви. Месяца через четыре к нему явились двое гражданских из какого-то церковного союза и предъявили обвинение, что он своими проповедями не прославляет оружие «освободителей».
Разговор был не очень деликатный. С того времени Десятков совсем прекратил службу, ссылаясь на застарелые свои болезни.
С визитом к нему пожаловал Кутаков. Но протоиерей уехал от Десяткова с прыгающими губами и притом слишком уж быстро. Потом он два раза приглашал Десяткова к себе, и все же служить немцам тот отказался. Этот свой отказ он преподнес в таких выражениях, что, если бы не Марфа Петровна, висеть бы ее мужу на первой перекладине.
В Кутакове Марфа Петровна нашла единомышленника. Но человек он оказался надломленный. Почувствовав в ней могучий характер, Кутаков стал с ней советоваться, рассказывать о многих своих трудностях и опасениях. Но даже дружба с протоиереем не спасла Десяткова от крутых мер, которые были применены к нему немецкими властями.
К тому времени отца Иосифа разыскали партизаны, и он стал успешно выполнять задания сначала командира небольшого партизанского отряда, а потом распоряжения стал получать уже лично от Федосякина.
Поручения сначала были небольшие, но потом усложнились. Наконец получил Десятков и ответственное задание: связаться с каким-то «Русским православным братством» и узнать, что это за сборище.
Он честно вознамерился выполнить и последнее задание, но Чем же он виноват, если этот подлец бургомистр вызвал его к себе.
Предписание, которое он получил из районной управы, задело и оскорбило священника, поэтому он и ответил дерзко.
К счастью, один из тюремных надзирателей был связным Федосякина. От него-то командир партизанского отряда и узнал об аресте Десяткова.
Иметь своего человека в тюрьме для партизан было огромной удачей. И все-таки пришлось снимать его оттуда, чтобы спасти Десяткова от верной гибели.
Побег должен быть дерзким, притом на глазах у народа.
В распоряжении партизан были три отличных легковых автомобиля немецких марок, которые были захвачены во время операций, но еще ни разу не были в деле. Их-то и решили использовать для освобождения Десяткова.
Тюремный надзиратель сообщил, что получен приказ доставить мятежного священника в резиденцию господина советника фон Брамеля-Штубе.
Операцией руководил Болвачев. Когда тюремная машина, в которой везли Десяткова, замедлив ход, стала поворачивать вправо, навстречу ей, будто бы случайно, двинулся легковой автомобиль, которому нужно сделать левый поворот. Так как в легковых автомашинах ездили офицерские чины и притом немалые, водитель «черного ворона» резко затормозил и тут же свалился на сиденье с простреленной головой. Убит был и офицер, сопровождавший арестованного. Легко справился с двумя охранниками и надзиратель, находившийся внутри тюремной машины. Но когда перед Десятковым распахнулась дверь и ему было приказано бежать к легковому автомобилю, он вдруг заартачился:
– Подождите вы бога ради! – раскричался он на всю улицу. – Дайте мне встретиться с этим Брамелем-Штубе. Я ему покажу, почем сотня гребешков! Вы думаете, я с ним не справлюсь? Разложу под орех! Паук несчастный…
– С ума вы сошли! – тормошил его тюремный надзиратель. – На выстрелы нагрянет патруль. Как цыпленок погибнете.
– А что мне смерть! Зачем жить, когда слова человеческого сказать нельзя. А ведь они, сволочи, бьют себя в грудь: «Мы – христиане».
– Да идите же, идите…
– Но я хочу к советнику.
Надзиратель, схватив в охапку отца Иосифа, потащил его в машину. И как раз вовремя. Выстрелы, наверное, услышала охрана, резиденции советника. Из переулка выскочили три мотоцикла с установленными на! них пулеметами. Двоих удалось сбить автоматными очередями, а третий мотоциклист успел укрыться за каменной тумбой, на которой обычно клеили объявления. Он успел дать очередь и ранить Десяткова.
Все три машины благополучно достигли лагеря.
…Побег священника вызвал переполох в городе. Это была на редкость дерзкая операция, и произошла она на глазах у горожан, среди белого дня и почти в центре города. Было много шуму, толков, разговоров…
Партизаны спасли священника!.. Это было необычно, удивительно!
«Русское православное братство», с целью привлечь верующих на сторону оккупантов распространявшее слухи, что «коммунисты вешают всех священников», потерпело фиаско… Десятков долго не мог понять, каким образом он стал «важной персоной», а когда до него дошел смысл им содеянного, отец Иосиф мучительно покраснел.
– Попал я в историю, – сокрушенно качал он головой. – Какой же я политик? Просто русский. Люблю матушку-Родину… Нет мне жизни без нее…
Глава 8
Визит к епископу
Весь вечер Проханов не находил себе места. Все его угнетало, все раздражало. А тут, как на грех, когда он шел домой после разговора с Десятковым, навстречу попалась Маргарита. Она не прошла мимо, а проплыла с поднятой головой. Не заметила, не поклонилась, только злобно пробормотала что-то себе под нос.
Вот глупая и скверная баба. Пришлось все-таки порвать с ней; терпеть ее тупость и обжорство было просто невозможно. Растолстела, опустилась, не женщина, а какое-то животное. Она стала еще более религиозной. Молилась по целым часам. Начинала она со сладостного шепота, а потом все громче, громче и наконец принималась петь. Голос у Маргариты был визглив, слуха, конечно, никакого; псалмы ее, исполняемые фальшивым голосом, да еще с каким-то нездоровым подвыванием, доводили отца Василия до бешенства.
Откупился от нее и выгнал. Вот уже два года Маргарита гадит ему потихоньку, распускает сплетни, скандалит.
Но злобится она не столько на него, сколько на Евдокию, новую его приживалку.
Маргарита дала зарок извести Евдокию. Однажды они даже подрались. Откуда сила взялась у этой тихони Евдокии? Даже с его могучими мускулами Проханов никак не мог разнять своих любовниц – клещами стиснули по рукам и ногам друг друга и только хрипели…
Он выгнал их обеих и проследил, чтобы действительно пошли в разные стороны. И только месяца через два он возвратил Евдокию.
У.Мысли о Маргарите на некоторое время отвлекли его от разговора с Десятковым.
И что за время настало? Нет к тебе ни уважения, ни внимания, ни помощи. Совсем не то, что во времена военные. Уж как с ним носились. А сейчас? Каждый, к кому ни обратишься, старается поскорее отделаться от тебя. Даже разговаривать стесняются, кроме, конечно, старушек, которых он ненавидел.
Да, ненавидел. Но не рубить же сук, на котором сидишь. Они кормили его, поили. Проханов понимал, что должен благодарить их; но вместо благодарности – холодное презрение. И не было сил изменить это свое чувство. Особенно оно обострилось последнее время. Его просто мутило, когда он видел слезящиеся глаза, согбенные, спины, редкие седые волосенки и, главное, эти изуродованные души, изуродованные такими же, как он, отец Василий.
Что говорить, прав отец Иосиф. Тяжело служить делу, когда не веришь в него. – Бубнишь, причитаешь, кривляешься, а на тебя смотрят красными слезящимися глазами и как попугаи повторяют что скажешь. Как их любить, уважать?
Да, нелегко служить делу, в которое не веришь… Тяжело видеть, что служишь отмирающему, уходящему в прошлое. В церковь устремляются только слабые духом. Где-то он читал, кажется у Павлова, что религия только слабым нужна. Истинно так!
Но что же все-таки делать?
Проханов остановился перед столом и вдруг решил: надо – немедленно ехать в епархию. Завтра с утра, к владыке. Старик прижимист, просто жаден до нелепости, но все-таки дело с отцом Иосифом нужно завершить, иначе не избежать беды.
Проханов громко позвал Евдокию. Но никто не ответил на его зов.
«Куда ее черти унесли?» – раздраженно подумал он, а потом даже обрадовался: очень хорошо, что ее нет, не нужно объяснять, куда и зачем едет. Евдокия не любила его поездки в областной город, где у него водились «зазнобы». "
Захватив с собою легкий саквояж и рассовав по карманам деньги, – деньгами он запасся основательно, без солидного куша к епископу ходить невозможно, – Проханов возвратился в церковь и велел кучеру запрягать лошадь.
Как-то встретит его владыка? Проханов улыбнулся. Сколько лет прошло, но он до сих пор не мог забыть их первой встречи.
…Перед самой денежной реформой Проханов выехал в Москву В патриархии проходил какой-то совет. Его, правда, никто не приглашал, но не таков был Проханов, чтобы «отставать от жизни».
В то время он не носил длинных волос. Во всяком случае, когда он надевал обычный костюм, трудно было угадать в нем священника. Проханов взял билет в, плацкартный вагон – он не любил особенно выделяться.
В купе находилось только трое пассажиров. Один из них, обладатель двух объемистых корзин со всякой снедью, как потом выяснилось, бухгалтер, был человек необщительный, неразговорчивый. Он тщательно оберегал свой багаж от посторонних глаз. Когда бухгалтер садился за стол, Проханов и какой-то студент отодвигались от него подальше.
…Поезд покинул станцию поздно вечером, а когда они утром проснулись, в купе было уже не трое, а четверо.
Четвертый их сосед имел окладистую, пожелтевшую от времени седую бороду, носил длинные волосы, говорил нараспев, сильно «окал» и всем решительно не понравился. Может быть, оттого, что был он неряшлив, грязен и весь как-то засален? Или от привычки пристально смотреть на человека долгим, туповатым взглядом? Глаза у него были навыкате, белесые и походили на рачьи. От нового пассажира к тому же дурно пахло, весь он лоснился от жира, слипшиеся его волосы клочьями свисали на плечи.
Желания разговаривать с ним ни у кого не было; да и вообще с его появлением все трое, не сговариваясь, прекратили беседу, только изредка обменивались незначительными фразами.
Так прошло утро, прошло обеденное время, а ближе к вечеру случилось происшествие. На каком-то из разъездов поезд резко затормозил. С верхних полок посыпались узлы, свертки, чемоданы. Чемодан Проханова при падении раскрылся, а у студента вообще рассыпался впрах, потому что он был самодельный, ветхий и замка никогда не знал. Пострадали вещи и счетного работника.
Первый порыв в таких случаях – скорее собрать вещи. Но соседи Проханова, да и сам он, пальцем не шевельнули и глаз не могли оторвать от пола. Вперемешку с вещами на полу валялись деньги. Огромная сумма денег в толстых пачках, грубо перевязанных бечевками. Каких только купюр не было: сотни, пятидесятирублевые, тридцатки. Но больше всего было сотенных.
Все это богатство принадлежало длинноволосому пассажиру, В первую минуту он обомлел, а потом вдруг спрыгнул прямо со второй полки и стал подгребать под себя пачки денег, а заодно и ему не принадлежавшие вещи и кричать тонким голосом:
– Не подходите ко мне! Не подходите ко мне!
На крик сбежались пассажиры из соседних купе. Сначала они изумленно перешептывались, потом шепот перешел в возбужденный говор, и вдруг словно прорвало верх. Поднялся шум.
– Милицию чадо. Жулик какой-то.
– А вдруг банк ограбил?
Да нет. На банковских печатные обозначения суммы должны быть. Знаю.
А владелец денег будто разум потерял. Он стоял на коленях, суетливо-судорожными движениями рук бросал пачки денег в простую объемистую корзину, в которой обычно колхозники возят на базар гусей, только изнутри она была обшита клеенкой, и все тем же тонким бабьим голосом восклицал:
– Не подходите ко мне! Не подходите ко мне! О господи! Спаси мя и помилуй.
«Никак, слуга богов, – догадался Проханов. – Но какой же дурак так возит деньги?»
Наконец корзина была полна, а пачек оставалось много. Раньше, наверное, они были сложены аккуратно, а тут их бросали как попало. Оставшиеся деньги пассажир начал засовывать за пазуху.
Потом он поднялся и, сминая ногами вещи, стал пятиться в угол купе, словно на него вот-вот набросятся.
На ближайшей станции кто-то сбегал за милицией. В вагоне появился капитан в сопровождении старшины.
– Гражданин! – строгим голосом сказал капитан. – Предъявите документы.
Герой происшествия долго шарил за пазухой и наконец извлек бумаги, завернутые в носовой платок, пропитанный потом.
Капитан раскрыл паспорт. Молча прочел его. Потом стал внимательно читать бумагу.
– Протоиерей?!
Проханов же сгорал от любопытства – что будет дальше? Пассажиры, плотной стеной окружившие милиционеров, с интересом наблюдали за этой сценой.
– Протоиерей – это наверняка генерал у них… – несмело вмешался один из пассажиров и оглянулся на старшину.
Старшина смешливо прищурился и дернул плечом; жест означал: кто их разберет.
– Нет. Генерал – это многовато. Полковник, поди… – и капитан обратился к протоиерею:
– Откуда у вас столько денег?
Высокочинный однорясник Проханова ответил не сразу. Он по-прежнему сидел в углу купе, с трудом втиснув грузное тело между столиком и стеною, и будто завороженный смотрел на офицера милиции.
Я спрашиваю: откуда у вас столько денег?
– Слуга господень я. Мои то деньги. Мои, трудом заработанные, – ответил наконец протоиерей, налегая на «о».
– Тяжелый, видать, труд у слуги господнего, – саркастически заметил кто-то.
– Прошу без реплик, – строго сказал капитан и снова обратился к пассажиру. – А едете куда?
– К сыну направляюсь. Махонькую дачку построить хотим.
«Махонькая дачка» рассмешила пассажиров. Капитан тоже рассмеялся. Только старшина скупо улыбнулся.
– А кто ваш сын?
– Лицо духовного звания.
Офицер повертел документы в руках, подумал и возвратил их владельцу.
– Можете ехать, гражданин Макаров. Всё, граждане. Прошу разойтись.
…Пассажиры расходились нехотя. Долго еще в вагоне был слышен возбужденный говор.
А протоиерей продолжал сидеть в углу купе, прижимая к себе корзину.
– Всю жизнь работаю, – заговорил вдруг бухгалтер. Он обращался только к Проханову и студенту и даже не взглянул на преподобного отца. – Бухгалтер я, копейку государственную блюду, – а за двадцать лет службы, за все двадцать лет мне такие деньги и во сне не снились.
Он помолчал, постукал пальцами по столу и вдруг стал выкладывать на стол содержимое корзин.
– А ну, придвигайтесь поближе. – Он дружелюбно улыбнулся. – Давай, давай, чего мнетесь…
Он подмигнул соседям и, подняв глаза на протоиерея, сказал:
– Кушайте, святой отец. А то ведь умрете, на деньгах сидючи.
Протоиерей поломался для приличия и, перекрестившись, принялся за еду. Ел он торопливо, жадно чавкал и глотал, почти не прожевывая. Он вскидывал свои рачьи глаза на бухгалтера, старался изобразить на своем лоснящемся лице благодарную улыбку и беспрестанно кивал головой, что, наверное, обозначало поклоны.
Смотреть на него было неприятно, но Проханов смотрел глаз не спуская. Кажется, первый раз он так вот критически смотрел на самого себя. Не думал Проханов, что они так вот отвратительны.
Герой дня наконец насытился и всем корпусом отвалился от стола, не забыв изобразить на лице улыбку и поклониться. Перекрестившись, он долго потом ковырялся в зубах. И вдруг протоиерей забеспокоился, стал рыться в карманах и наконец выложил на стол пятьдесят целковых.
– Возьмите. В знак особой моей признательности, – сказал он, обращаясь к хозяину корзины.
Бухгалтер резко выпрямился.
– Благодарю за милость, батюшка. Только денег мы не берем. У нас, у русских, за хлеб-соль чистоганом не платят…
Кончиками пальцев бухгалтер Смахнул на колени священника ассигнацию.
Ровно в девять часов утра Проханов уже входил в небольшую приемную епископа. За столом сидел невысокий мужчина лет пятидесяти, в светлой рясе, с холеным круглым лицом и с не менее холеными, пухлыми, но суетливыми пальцами. Он приятно улыбнулся Проханову и поднялся ему навстречу.
Константин Разин – личный секретарь архиерея, его казначей и ближайший доверенный – был значительным лицом в епархии. Он с поклоном принял из рук настоятеля Петровского собора конверт с обычной для такого случая суммой – законная мзда за услугу «чтобы владыко принял».








